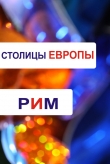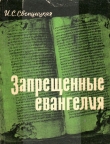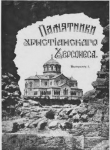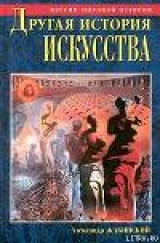
Текст книги "Другая история искусства. От самого начала до наших дней"
Автор книги: Александр Жабинский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Что такое стилистический параллелизм
Никого не удивить жалким состоянием современного искусства. Что хорошо? Что плохо? Критерии художественности полностью размыты. Искусствоведы говорят что-то невразумительное, или с умным видом помалкивают. И вот на суд дезориентированных зрителей (или читателей?) выносится еще одна «модная» теория о стилистических параллелях в истории искусства. Что имеется в виду?
Взгляните на эти две иллюстрации. Вряд ли найдется человек, смеющий утверждать, что эти произведения чем-то похожи, то есть стилистически близки. Хотя то и другое создано в одно время и в близких местах.

Голова царского писца Каи, Египет, III тысячелетие до н. э.

Голова идола с острова Аморгос, Эгейское море, III тысячелетие до н. э.
Теперь посмотрите на иллюстрации ниже и попробуйте отгадать, какая скульптура относится к I веку н. э., а какая – к XV? Человек без специальной подготовки, скорее всего, растеряется. Или даст неправильный ответ. И не мудрено. Налицо близость стиля, можно было бы сказать родство, если бы эти произведения не разделяла вымышленная пропасть почти в полторы тысячи лет.
Шедевры титанов итальянского Возрождения, классическая красота древнегреческих статуй, загадочное искусство Египта… История искусства – это череда взлетов и падений, прорывов к совершенству и периодов забвения. Чем это объяснить?

Портрет римлянки из семьи Флавиев, 80–90 н. э., Рим.

«Пророк Иеремия» работы Донателло, 1423–1425, Флоренция.
Я утверждаю близость художественных принципов северо-итальянского Возрождения и так называемого «античного» искусства, хотя различия этих принципов у древних римлян и итальянцев XV века были многократно описаны искусствоведами: ведь не могут эти принципы быть у них одни и те же! Сходство здесь чисто внешнее, говорят исследователи, основываясь на неверной хронологии.
Поэтому нас не удивляет, что представители французской школы искусствоведения усматривают в античных скульптурах «идеализм», а в скульптурах Возрождения – «реализм», в то время, как представители немецкой школы утверждают обратное: по их мнению, идеалистами были как раз художники Возрождения, подражавшие реалистам-антикам.
Именно на внешней стилевой схожести основана индустрия подделок. И только «зоркий искусствоведческий глаз» может отличить фальшивку, как не соответствующую духу эпохи, к которой ее приписывают. Внешнее сходство может видеть каждый, а вот ощутить один и тот же дух – только специалист. Хорошо, если этот дух действительно существует и передается нам, ну, а как, если он придуман? Если он плод разгоряченного воображения, принимающего ветряные мельницы за злых великанов? Так, многие скульптуры были признаны римскими копиями греческих статуй, хотя оригиналов никто не видел.
Стилистическая близость – это как бы две линии, которые могут соприкасаться, например, итальянские работы немца А. Дюрера. Так, стилистически близки произведения разных национальных школ, относящихся к одной эпохе. А стилистический параллелизм – две несоприкасающиеся линии, когда оказываются похожими по стилю произведения разных эпох. И здесь легко впасть в хронологическую ошибку. Прочтите следующий абзац, и определите эпоху:
«…Высокие многоквартирные дома из бетона, с кирпичной облицовкой, с множеством окон и рядами нависающих балконов, тянулись вдоль широких и прямых городских улиц. В нижних этажах обычно располагались лавки с коробовыми сводами; оттуда уводили вверх каменные лестницы. Комнаты были достаточно просторны: в квартирах не было особенных кухонных помещений, а уборные имелись только в квартирах на нижних этажах… Во дворе стояли цистерны с запасами воды для жителей верхних этажей».
Это описание города XIX века? Или, может быть, XVI? Нет, утверждает историк, так выглядел Рим в III веке до н. э. Здесь нам предлагают «стилистический параллелизм», что тут же подтверждается историком:
«Судя по образцам подобного зодчества, найденным в ходе раскопок, эти здания казались бы вполне уместными и на улицах какого-нибудь современного итальянского города».
Так работают историки: никакие новые находки не подвигают их к пересмотру взгляда на хронологию. В основе же нашего метода – сравнительный анализ.
Но будет ли научным активное сравнение архаических куросов и романской скульптуры между собой? Допустимо ли высказывание, что «здесь Фидий пошел дальше Микеланджело»? Любой непредвзятый человек спросит: а почему нет? Говорим же мы, бывает, в пылу полемики, что имярек (тот или иной современный живописец) не уступает Веласкесу.
Я на этот вопрос отвечу так: Анри Руссо и другие самоучки прочно вошли в историю искусства XX века. А самоучка, он и в Африке самоучка, и в древности самоучка.
Думаю, говорить о внешнем сходстве любительских упражнений жителя мегаполиса и амазонской сельвы допустимо и естественно. Тем более, что этого сходства не так уж и много. Так почему же искусство примитивных народов так похоже на модернизм XX века?
Еще в XIX веке древнее искусство получало объективную оценку. Наряду с огромным количеством небылиц о древнем Риме, Греции и Египте, которые приводит П. П. Гнедич в своей «Всемирной истории искусств», он дает точные замечания, иллюстрирующие наивность египетского искусства, его близость к творчеству детей:
«Человеческая фигура понималась египтянами совершенно примитивно. Голова всегда рисовалась в профиль, а глаз спереди. Грудь всегда повернута анфас, нога нарисована сбоку. Если субъект повернул голову, то она просто приставляется в сторону, обратную всему движению фигуры. Пальцы на руках все одной длины, и только большой сильно отставлен от прочих. Контур образуется не формами, а линиями, очень резко очерченными. Что же касается перспективы, то о ней египтяне не имели ни малейшего понятия.
Особенного прогресса и развития художественной техники по династиям царей мы не видим. Все та же деревянная неуклюжесть и полнейшее непонимание света, то есть отсутствие теней в рисунке. Математичность во всех действиях египтян создала искусство, строго формулированное узкими рамками издревле выработанных принципов. Смелой, живой, игривой фантазии творчества здесь нечего и искать»…
Впрочем, здесь можно и поспорить. Фантазии у египтян довольно много. Это и люди с птичьими головами, и звери с человеческими лицами. При некоторых различиях, можно отметить стилистическую близость к ассирийскому искусству.

Рельеф дворца Саргона II, Месопотамия, якобы VIII век до н. э.
Говоря же о месопотамском искусстве, Гнедич высказывает мнение, что на фигурах явно лежит азиатский отпечаток местного типа: они дебелы, приземисты, коренасты, с расположением к ожирению; реализм мускулов несравненно могучее, чем в Египте; торсу соответствует такая же голова с сильно развитой нижней челюстью, крючковатым носом и маленьким лбом; волосы убраны в завитки. Гнедич полагает, что выраженные в здешних скульптурах движения «свободны и экспрессивны», но это утверждение представляется мне очень спорным. Слабее всего прочего изображена одежда: без складок, плотно прилегающая к телу, словно выделанная из толстой не сгибающейся кожи.
В последнее же время (в XX веке) вошло в моду расточать похвалы даже такому несовершенному искусству.
Кризис современного искусства привел к тому, что само понятие художественной школы потеряло свое традиционное значение. Для создания произведения искусства в наше время не требуется ни умения передать с помощью изобразительных средств многообразия природных форм, ни владение приемами и навыками, которыми пользовались великие художники в былые времена.
В эстетике, науке о прекрасном, сложилось устойчивое мнение, что художественное творчество невозможно совершенствовать, а можно лишь изменять применительно к той или иной общественно-исторической обстановке.
«За прошедшие века были разработаны методы и правила, которые уже не улучшить, – утверждает Ян Чихольд, – и которые надо только пробуждать к новой жизни и вновь использовать, потому что на протяжении последних трехсот лет о них все больше стали забывать».
Это – следствие неверной хронологии, господствующей во всех областях человеческого знания. Науки, методы творчества, стили и направления искусств появляются и исчезают «сами собой».

Охота на Ниле. Фрагмент стенной росписи из гробницы в Фивах, cередина II тысячелетия до н. э.
Каким чудом произведения Египта и Месопотамии, между которыми века и тысячелетия, стилистически столь сходны? Почему нет развития?
И о каком «совершенствовании» может идти речь, если наилучшее произведение скульптуры всех времен и народов —«Венера Милосская» Агесандра – была создана более двух тысяч лет назад, а высшее достижение живописи,«Сикстинская мадонна» Рафаэля – через полторы тысячи лет, в 1514 году!
При этом найдутся сотни начинающих и дилетантов, в том числе и среди искусствоведов, готовых оспаривать данные утверждения и демонстрирующих в качестве доказательств результат деятельности умалишенных и другие сомнительные плоды человеческого разума.
Причины столь откровенного невежества уходят корнями в XVII век, когда в Европе сложилось предвзятое мнение о средневековье, когда начался процесс мифотворчества, показывающего Средние века периодом культурного убожества. Сколь ни абсурдны эти утверждения, все же остались и бытуют несколько мифов о культурном одичании в этот период. Назовем некоторые из них.
Миф первый: средневековые немцы и французы не знали античного искусства.
Миф второй: в средневековой Греции и Южной Италии слабо интересовались культурой.
Миф третий: в средневековом Константинополе не любили западное искусство.
Кроме того, была написана невероятная история христианства в Средние века, да и вся история человечества была искажена почти до неузнаваемости.
Как пример: все основные стилистические характеристики романского искусства XI–XII веков, а именно: разномасштабность, неподвижность, фронтальность, плоскостность, симметрия свойственны всем произведениям V–VI веков нашей эры. В частности, сходны мозаики собора св. Софии в Константинополе, церкви св. Дмитрия в Салониках, монастыря Хосиос Лукас в Фокиде, монастыря Неа Мони на Хиосе, монастыря Дафни под Афинами, храма Успения в Никее.
«Как мы выяснили в результате собственных исследований, – пишут Г. Носовский и А. Фоменко, – традиционная хронология Европы, Средиземноморья, Египта и других регионов верна, начиная лишь с 13–14 веков (и ближе к нам). Таким образом, обнаруженная Морозовым граница в русской хронологии, совпадает с аналогичной границей, независимо найденной нами для хронологий других стран».
Но с их мнением не соглашаются очень многие.
«Серьезные ученые-историки предпочитают делать вид, что трудов А. Т. Фоменко, Г. В. Носовского и В. В. Калашникова не существует, – пишет И. Данилевский. – Судя по всему, им просто жаль тратить драгоценное время на чтение сомнительных, с их точки зрения, рассуждений. Тем более, что потенциальные собеседники не слышат, если с ними не соглашаются. Об этом свидетельствует полное пренебрежение их к многочисленным критическим статьям, написанным профессионалами-историками и астрономами высокого класса».
Сразу видно, что Носовского, Фоменко и других сторонников «Новой хронологии» Данилевский не считает серьезными учеными:
«Во всяком случае, наличие у читателя хоть каких-то специальных знаний по истории делает чтение трудов по „новой хронологии“ настоящей пыткой».
Таким образом, существует также и главный миф – о том, что хронологи XVI–XVII веков (Жозеф Скалигер, Дионисий Петавиус и др.) никак не могли ошибиться ни на йоту.
Создать хронологию искусств!
Стилистический параллелизм в произведениях искусств разных веков прекрасно видят сами искусствоведы, иначе они не проговаривались бы. Вот что пишет Дж. Маджи:
«Ника… стоит на носу корабля, который она ведет к победе: морской ветер бьет ей прямо в лицо, развевая по ветру ее одежды… Драпировка выполнена в стиле барокко, что дает возможность судить о довольно позднем периоде создания скульптуры».
Дж. Аргон:
«Медальоны со сценами охоты, перенесенные позднее на арку Константина, напоминают своей маньеристической тонкостью драгоценные камни. Еще более слабая, „маньеристическая“ попытка вдохнуть жизнь в придворное течение предпринимается во времена сына Марка Аврелия – императора Коммода».
К. Керам о микенских модах якобы XVI века до н. э.:
«Параллель с современностью напрашивается и при виде изображений людей, позволявших судить о их манерах, их одежде, их модах…вот они оживленно беседуют, сидя в непринужденных позах на садовой скамейке, в их взорах и выражениях лиц – истинно французских шарм. Кажется невероятным, что эти дамы жили несколько тысячелетий назад».

Голова т. н. «Парижанки», фрагмент фрески Кносского дворца в Микенах, XVI век до н. э.
Наконец, знаток индийского искусства Г. Пугаченкова признается в беспомощности искусствоведов:
«Иные архаты напоминают апостолов и самого Христа в скульптуре готических соборов, демонические существа и карликовые атланты – химер, а буддийские небожители-даваты – католических ангелов. Выносные плиты в архитектуре готики поддерживаются полуфигурами жанрового характера, сходными со скульптурами гандхарских кронштейнов.
Гандхаро-готические параллели остаются одной из тех загадок, которое искусство ставит порой перед потомками. Многовековой интервал и многие тысячи километров отделяют пластическое искусство Гандхары от скульптуры средневековой Европы, возможность любого – непосредственного или опосредованного – знакомства исключена, а между тем общность некоторых образов и стилевых черт поразительна».
Не сумев разгадать совершенно очевидные, с точки зрения Новой хронологии, загадки, сторонники традиционализма как бы откладывают решение «на потом». Дескать, ответить на эти вопросы смогут только искусствоведы будущего. Почему, собственно?.. Видимо, высказываться вслух о слишком уж явном стилистическом параллелизме между античностью и средневековьем считается непростительной крамолой.
Другая проблема – само возникновение изобразительного искусства в том или ином регионе Земли. Грэм Хэнкок, популяризатор «новейших научных методов» в археологии, приводит слова Дж. Уэста:
«Такое впечатление, что каждая область знания в Египте была развита с самого начала. В науках, технике изобразительного искусства и архитектуре, системе иероглифов нет ни малейшего признака периода „развития“; в сущности, многие достижения ранних династий не были в дальнейшем не только превзойдены, но и даже достигнуты. Ортодоксальные египтологи охотно признают этот факт, но масштаб загадки упорно замалчивается, равно как и вытекающие последствия».
Конечно, в других местах можно найти следы возникновения искусства, однако нас интересует вопрос, как могло получиться, что культура Египта «бежит», но не стартовала. Пока еще робко, но червь сомнения гложет не только представителей точных наук. Немецкий критик истории Х. Иллиг заявляет:
«Вместе с профессором Гуннаром Хайнсоном мы пришли к выводу, что история Древнего Египта насчитывает не 3000 и уж тем более не 6000 лет, а всего около 800 лет и развитие этой древней цивилизации шло естественным путем».
И постепенно становится ясно: произведения искусства датированы без всякой логики, без учета внутренних законов развития. Исходя только из того, что написано в «документах» той или иной эпохи. Каким образом сложились столь удивительные представления о прошлом, в котором все перемешалось? Что думают об этом историки?
Л. Н. Гумилев:
«В XVI веке… гуманистов стало совсем мало (а в XV веке их было много?), и они занялись главным образом подготовкой к изданию… тех рукописей, которые им удалось собрать в Византии, разгромленной турками (потом эти рукописи исчезли…). Выучив греческий язык, они перевели эти рукописи на латынь (…и проверить соответствие переводов оригиналам невозможно, – Авт.) и стали их печатать в таких роскошных изданиях, с таким хорошим филологическим анализом и на таком уровне, который недоступен в наше время ни одному издательству мира; это были издательства Альдов и Эльзевиров».
Это происходило в XVI веке, в «эпоху филэллинизма», когда, говорят, весь мир помешался на античности… Но, оказывается, эта история повторилась дважды. Античные греки точно так же увлекались «древними греками».
А. Кураев (книга «Раннее христианство и переселение душ») пишет:
«Истина, оптимистически возвещенная рационализмом классики, в эпоху эллинизма обернулась сокровенной тайной, недоступной для разумения обыкновенного смертного. Реальное философское авторство уже не внушает доверия, воспринимается как „человеческое, слишком человеческое“. Отсюда соблазн переадресовать авторство, подменить его псевдоавторством, приписать выдвигаемую доктрину или письменное сочинение какому-нибудь авторитетному и уже освещенному веками имени…»
Да, без «переселения душ» традиционной истории не объяснить.
Можно сделать простой вывод, что пока в Европе шли религиозные войны, писатели, следуя мудрому правилу: чем ценнее содержание, тем лучше, совершеннее должна быть форма, под покровительством католической церкви «исправили» историю. Она стала теперь настолько привычной, что спор между новой и традиционной хронологией продлится еще очень долго.
Я сформулирую здесь принцип аналогий. Нельзя, не умея шить платья, делать прекрасные статуи; нельзя, не зная стремян, пользоваться строительными механизмами; нельзя, не выработав литературного языка, выработать совершенный художественный язык. То есть общество развивается синхронно, или, во всяком случае, пропорционально.
М. М. Постников:
«…Любой текст, написанный грамотным, литературным и орфографически безошибочным языком, предполагает уже существование и достаточно широкое распространение печатной продукции, и потому написан уже в эпоху книгопечатания… Поэтому, всякий манускрипт, в котором орфография не индивидуальна и обнаруживает старания автора соблюдать орфографические условности… должен считаться произведением эры книгопечатания. Тексты же с более или менее индивидуальной орфографией, в которых проявляется литературная опытность автора, следует считать произведениями непосредственно предшествующей эпохи, когда книгопечатания не было еще, но бумага уже была. Этот вывод относится в первую очередь к „античным“ произведениям… Поскольку античная культура и образованность, как она отражена в „античной“ литературе, является мифом, у нас нет никаких оснований предполагать ее реальное существование».
Перейдем же к рассмотрению конкретных проявлений стилистического параллелизма в различных видах искусств различных периодов и стран.
СРАВНЕНИЯ ВРЕМЕН

В первой части своей книги я показал, что хронология событий мировой истории была составлена «отцом-основателем» Скалигером по некоей синусоиде, определившей цикличность истории. В XVII веке эта синусоида, можно полагать, была модернизирована продолжателями его учения. Дело тут в том, что первоначально не было введено понятия «минус первого века», и непосредственно перед первым веком н. э. шел второй век до н. э. Ошибка была исправлена.
Анализируя развитие искусства, историю его «взлетов» и «падений», мы обнаруживаем, что «синусоида» приняла такой вид:

В «нисходящих» ветвях во всех странах происходит регресс культуры и искусств: от века к веку люди «забывают» секреты мастерства, становясь всё бездарнее. В «восходящих» ветвях – прогресс.
По «линиям веков», помимо стилистических совпадений, наблюдаются и совпадения событийные. Так, по линии № 6 дважды (в IV до н. э. и в XIV н. э.) произошел переход от, соответственно, греческого (византийского) искусства к римскому (итальянскому).
Еще одно удивительное явление: чередование видов искусств. Фреска, мозаика, скульптура сменяют друг друга раз за разом, и только в эпоху Возрождения мы обнаруживаем их развивающимися одновременно.

Pietа. Germany.Painted wood ca. 1330
Взлеты и падения

Статуя Демосфена работы Полиевкта.
В IX–I веках до н. э. происходит творческий взлет человечества. Особенно наглядно это видно на примере скульптуры. От безликих, сидящих в «каменной позе» статуй, каков «Жрец» VI века до н. э. из Дидим, в V веке перешли к статичным фигурам (Аполлон Странгфорда с острова Лемнос), а в IV–III веках до н. э. достигли таких вершин, как «Демосфен» работы Полиевкта.
До «Жреца», скульптура выглядела еще хуже. Это было время воистину «детства» искусства: искажены пропорции не только фигур, но и головы, складки одежды заменены графическим орнаментом, конечности выполнены предельно наивно.
Разумеется, развитие искусства таким образом, когда мастерство повышается от века к веку, не противоречит никаким законам, ни Божеским, ни человеческим. Даже более того: такой рост мастерства неизбежен. Ученик превосходит учителя, накапливаются знания и творческие приемы, ведь перед нами не разовый «случай» озарения, а процесс, длящийся 200, 500, 900 лет! И можно смело сказать, что такой процесс шел не только в скульптуре, но и в живописи.
Но дальше начинается процесс, противоречащий естеству. Следующие девятьсот лет мастера будто перестают учиться друг у друга, или, вернее, они учатся забывать, переставая век от века понимать, что такое пропорции, светотень, перспектива.
Венеры Милосской, (вершины античной скульптуры, II век до н. э.) и девушки с Афинской агоры (I век до н. э.) для художников следующих веков, похоже, не существует.
Причем, если в «Гладиаторе» III века н. э. есть хотя бы некоторые намеки на мастерство, то мозаика «Март и Апрель», созданная спустя сто – двести лет, есть ничто иное, как простой, схематичный детский рисунок.

Девушка с Афинской агоры
И это падение после взлета мы можем видеть во всем: в искусстве, языке и литературе, науке и технике. Люди «забывают» математику и географию, перестают пользоваться солнечными часами, «забрасывают» до позднего средневековья алхимию…
Регресс человечества продолжается от падения Рима и до того момента, который я обозначил «линия № 1». Для VIII века трудно найти вообще хоть какое-то произведение искусства. Здесь самая глубина падения и здесь же – канун действительного, реального подъема.
«Циклическая» хронология, придуманная Скалигером, позволила ученым составить достаточно связную и логичную историю человечества. Изворотливый разум подсказывал «причины», по которым происходили необъяснимые явления, к числу которых можно отнести и «забывания», и «вспоминания» не только древних языков, но и событий, мод, политических лозунгов, географических знаний, военных приемов.
Историк Грегоровиус пишет о событиях XIII века:
«Римский народ проникся в это время новым духом. Как в древности, во времена Камилла и Карполна, он и теперь выступил на завоевание Тусции и Лациума. Снова появились на поле брани римские знамена с древними инициалами S.P.Q.R (Senatus Populus que Romanus) на красном с золотом поле, и римское национальное войско снова было составлено из римских граждан и союзников от вассальных городов, под начальством сенаторов».
У историков в порядке вещей такое отношение к эволюции: если встречается нечто, необъяснимое в рамках скалигеровой хронологии, они ни в коем случае не согласятся «беспокоить» хронологию, а придумают самую нелепую причину для объяснения, или вообще «замолчат» проблему.

На самом стыке истории «мнимой» и реальной: Адам и Каин. Миниатюра из рукописи VII века.
Например, ужасающее состояние искусства от начала эры и до эпохи так называемого Возрождения объясняют то захватом цивилизованных народов дикарями, то гонениями христианской церкви против «языческого искусства» античности.
Но «дикари» совершают захваты для повышения уровня своей жизни, а не наоборот! А церковь могла бы использовать «варварское» искусство для прославления своих святынь!
Не надо думать, что это я открыл факт общего упадка культуры со II по VIII век. Это сделали сами ученые и подробно описали во множестве книг (например, во втором томе «Всемирной истории» издания АН СССР).

Пантократор. Фреска в Сант-Клемент де Тауль, Испания. XII век.
«Тяжелые войны и поражения, которые терпела империя со второй половины II в., совпали с глубоким кризисом рабовладельческого общества и были в значительной степени им обусловлены».
«Этот кризис выражался прежде всего в том, что начался процесс разложения основных классов – рабов и рабовладельцев».
Итак, и рабов, и рабовладельцев стало меньше. А колонов (арендаторов земли) и феодалов (владельцев земли) стало больше. Очень прогрессивный кризис, потому что производительность свободного крестьянина много выше по сравнению с рабом, который, по марксистским представлениям, должен жить с идеей «феодализм – светлое будущее всего человечества»:
«…В отличие от раба, не имевшего ни дома, ни хозяйства, ни собственности, ни семьи, крестьянин, работавший на земле феодала, имел и свой дом, и семью, и хозяйство. Существование наряду с феодальной собственностью собственности крестьянина на хозяйство и сельскохозяйственные орудия создавало у производителей материальных благ феодального общества определенную заинтересованность в своем труде и являлось непосредственным стимулом развития производительных сил в эпоху феодализма».
Это было политэкономическое объяснение необходимости перехода к феодализму. Но история, как показано в той же книжке, не подтвердила оптимизма политэкономов:
«…Ни рабы, ни свободные, по своему положению во многом сближавшиеся с рабами… заинтересованности в труде иметь не могли, и все попытки рабовладельцев и землевладельцев создать ее особого успеха не имели».
То есть, заставить рабов работать не удавалось, и сдавать землю в аренду было бесполезно. Может быть, по мнению ученых, в некоторые периоды истории люди ПРОСТО не хотели работать?.. И принимать пищу им не хотелось? Рабовладельцам и землевладельцам хотелось, а крестьянам нет. И никакими силами не удавалось заставить их работать, зарабатывать и питаться:
«Производительность труда падала, земли пустели. Многие уходили в леса, пустыни, за границы империи или к разбойникам…»
«К крупным частным владельцам уходили не только крестьяне, но и рабы и колоны императорских статусов, хотя императоры предоставляли им некоторые льготы».
На протяжении какого-то времени все это действительно может происходить, например, как сейчас в России: все спешат «прислониться» к олигархам или императорскому кругу, и сторонники традиционной истории никаких закономерностей из этого не выводят. Но ведь кризис, который нам предлагают историки, длился не десять, не сто и даже не двести лет!
«Кризис III в. отразился и в идеологии того времени… Этот период обычно считается временем глубокого упадка культуры, и действительно, в области науки, литературы и искусства в III в. не было создано ничего значительного».
Так в чем же причина упадка культуры? В том, что продуктов питания стало меньше? Или в укреплении христианства? И, наконец, чем объяснить «зеркальность» взлетов и падений культуры? Самые слабые произведения искусства относятся не только к VIII веку, но и к минус VIII веку (Древняя Греция), а самые совершенные созданы и в I, и в минус I, а также в XVI и XVII веках.
Человечество накапливает знания, навыки и умения, передавая их от поколения к поколению, в этом суть прогресса. В связи с катаклизмом, войной, переселением народов и т. п. уровень знаний может резко упасть, но потом процесс накопления восстановится. Наши оппоненты говорят: сейчас увеличилось количество неграмотных призывников. И что же они думают, это будет длиться веками?
Что может заставить человечество от поколения к поколению в течение многих веков постепенно терять знания и умения?
А процесс упадка продолжается:
«Упадок рабовладельческого строя отразился на культуре IV в., когда язычество было побеждено христианством».
«Торжество христианской церкви сопровождалось гибелью множества памятников античной культуры, разрушенных христианами».
А почему не была создана христианская культура, пока еще художники не разучились творить? Или они отказывались работать по «принципиальным» соображениям?
«Общий уровень культуры значительно понизился, число грамотных упало, так как большинство населения уже не могло давать детям образования».
В наше время такие причины упадка культуры, как уменьшение массы продуктов питания и увеличения количества христиан, не очень популярны, но где же тогда другое объяснение этого факта?
Падение происходит в Византии:
«…Сбережение античного наследия… а тем более его активное использование в широких масштабах были невыполнимой задачей при тех скромных социальных и культурных возможностях, которыми тогда располагало общество, больше озабоченное собственным выживанием, чем гибелью культурных ценностей».
«Кризис и гибель рабовладельческого строя нашли отражение буквально во всех областях византийской культуры».
«Идеологи победившего христианства решительно отрицали какую-либо свободу и самостоятельность научного исследования».
Надо полагать, и художественного творчества.
«Городское ремесло и торговля замирали… Товарное производство и денежное обращение сокращались… Хозяйство в значительной мере становилось натуральным».
Раньше производительность труда рабов почему-то была высокой, потом стала низкой, наступил общий упадок производства, что вызвало, видимо, озлобление идеологов победившего христианства. Из-за этого упадок культуры продолжался еще несколько столетий.
«Оригинальных и значительных произведений уже не появлялось».
«Искусство все более удалялось от реальной действительности и приобретало отвлеченный символический характер…»
«В феодальном обществе, пришедшем на смену обществу рабовладельческому, возникла новая, феодальная культура».
Которая продолжала себе падать дальше, до IX века.
«…Представители церковной образованности утверждали, что любое знание полезно лишь в том случае, если оно помогает лучшему освоению церковного учения».
Падение происходит в Европе:
«Усадебная земля… находилась уже в индивидуальной собственности каждого франка… Стада, принадлежавшие крестьянам соседних деревень, паслись еще на общих лугах… Пахотная земля уже не перераспределялась и находилась в наследственном пользовании каждого отдельного крестьянина».
Видимо, и здесь хозяйство перестало давать нужное количество продуктов и товаров, и общий уровень культуры начал расти лишь после того, как «явился полный переворот в отношениях землевладения: разорение массы свободного франкского крестьянства и одновременный рост собственности крупных землевладельцев за счет поглощения мелкой крестьянской собственности».