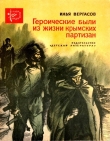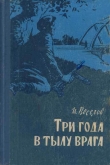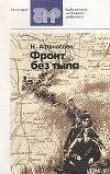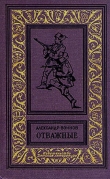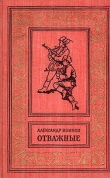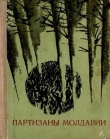Текст книги "Самолеты летят к партизанам (Записки начальника штаба)"
Автор книги: Александр Верхозин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Аэродромы в тылу врага
Весна с предвестниками
К весне 1943 года стратегическая обстановка на всех фронтах в корне изменилась. После уничтожения двух фашистских армий на Волге, изгнания врага с Северного Кавказа и в ходе дальнейшего стремительного продвижения на запад инициатива окончательно перешла в руки советского командования. Соотношение сил резко изменилось в пользу Советских Вооруженных Сил.
Изменилась обстановка и в тылу гитлеровских войск. Земля еще жарче стала гореть под ногами захватчиков.
С весны 1943 года партизанское движение приняло еще больший размах. На вооруженную борьбу против оккупантов поднимались тысячи и тысячи советских людей. Связь партизанских отрядов с населением стала еще более тесной. Во многих оккупированных районах создавались многочисленные невооруженные резервы, откуда партизанские отряды черпали новых бойцов.
В связи с огромным ростом партизанского движения и увеличением количества отрядов и соединений, рассредоточенных по всей оккупированной территории западных и северо-западных областей РСФСР, Украины, Белоруссии и прибалтийских республик, увеличилась и потребность в боеприпасах, особенно во взрывчатке.
«О большом размахе боевых действий партизан и подпольщиков на путях сообщения противника весной 1943 года и в первой половине лета можно судить по следующим данным вражеской генеральной дирекции путей сообщения «Восток». Если в феврале 1943 года партизаны совершили около 500 налетов на железные дороги противника, то в апреле – около 700, в мае – уже 1045, а в июне – свыше 1060 налетов» 11
«Советские партизаны». Госполитиздат, 1963, стр. 709.
[Закрыть].
В связи с этим успех боевых действий партизан во многом зависел от своевременной доставки им боеприпасов, особенно взрывчатых веществ. Партизанские штабы составляли планы авиаперевозок, Государственный комитет обороны давал указания командованию авиации дальнего действия выделять необходимое количество самолетов. Работа 101-го авиационного полка значительно усложнилась и увеличилась. В глубокий тыл врага каждую ночь вылетало до 20 экипажей.
К тому времени партизанские края и базы охватывали не только села и деревни, но и небольшие города. Так, город Бегомль, Минской области, прочно находился под контролем партизан.
Враг не чувствовал себя хозяином на занятой земле.
Тысячи фашистских захватчиков, руки которых были обагрены кровью советских патриотов, по приговору народа казнены партизанами. К смертной казни народ приговорил и гаулейтеров: Эриха Коха – на Украине и Вильгельма Кубе – в Белоруссии. Эти палачи замучили сотни тысяч советских граждан.
Казнить Кубе готовились патриоты Белоруссии. Чтобы уничтожить обер-палача, они нуждались в боеприпасах, особенно в минах. Им доставили их с Большой земли летчики нашего полка. Экипажи Валентина Ковалева и Сергея Багрова совершили по два вылета в бригады «дяди Коли» и «дяди Димы». А в бригаду Градова забросили мины и боеприпасы экипажи Петра Абрамова и Михаила Долгих.
Палач Кубе знал о приговоре, вынесенном ему белорусским народом, и начал метаться, как обложенный зверь. Имея резиденцию в Минске, «Кубе часто менял место жительства. Его дом охраняли отборные фашисты как снаружи, так и внутри, он ничего не ел и не пил без предварительной проверки, выезжал на разных машинах, постоянно меняя место своей машины в колонне однотипных машин с телохранителями».
Когда весной 1943 года гаулейтер оставил минскую квартиру и уехал за город, партизаны оказались в затруднительном положении. Попытка группы разведчиков бригады Градова уничтожить Кубе днем на шоссе Минск – Лошица успеха не имела.
Партизаны снова обратились за помощью к летчикам. В их письме говорилось: «Гаулейтер оккупированной Белоруссии Вильгельм фон Кубе со своим штабом перебрался из Минска в бывший дом отдыха в местечке Прилуки, находящемся в 20 километрах юго-западнее Минска… В связи с тем, что имеется оперативная необходимость изгнать Кубе с его новой резиденции, бомбардировка указанного объекта имеет важное значение».
Много лет спустя мы узнали, что в те дни в минской резиденции Кубе поселилась в качестве прислуги советская патриотка Елена Григорьевна Мазаник, которая впоследствии по заданию подпольщиков должна была уничтожить палача.
Командующий авиацией дальнего действия для нанесения бомбового удара по загородной резиденции гаулейтера выделил из гвардейского полка 15 лучших экипажей тяжелых бомбардировщиков, которые выполнили просьбу партизан. Случайно уцелев, Кубе вынужден был переехать в Минск.
Облава продолжалась. Круг становился все меньше и меньше и наконец замкнулся… Две мины подложила в спальню Кубе Елена Мазаник. Они взорвались в установленное время – в 1 час 20 минут ночи с 21 на 22 сентября 1943 года. Приговор над палачом белорусского народа был приведен в исполнение.
От наблюдательных летчиков не ускользнуло, что немецкие офицеры, попадая в плен к партизанам, не выкрикивали уже «Хайль Гитлер!». От них скорее можно было услышать «Гитлер капут». Советским летчикам со сбитых самолетов или бежавшим из плена легче стало находить партизан и вернуться на Большую землю, чтобы снова бить врага в небе и на землей Все чаще на партизанских базах стали появляться раскаивающиеся изменники Родины – они спешили искупить свою вину.
Темной весенней ночью Запыленов летел в район Минска. Ему предстояло вывезти из партизанского отряда пленных немецких офицеров. На эту площадку еще ни один самолет не садился. Запыленов, снизившись, осветил ее фарами. Место, куда предстояло сесть, окружено сосновым лесом, открытых подходов не было. Возвращаться тоже не хотелось: вдруг Валентина Степановна подумает, что он потерял веру в себя после поломки самолета в Смелиже. И Степан Семенович стал заходить на посадку. Чем ближе подходил к земле, тем больше чувствовал уверенность, что все будет хорошо. Но после того, как самолет коснулся колесами земли и покатился, стало видно, что площадка все же для пробега короткая: видневшийся в свете фар кустарник надвигался быстро. Нажав во всю силу на тормоза, летчику удалось остановить самолет на самой границе площадки.
Запыленов вышел из самолета. Навстречу шли десятка два партизан и о чем-то громко спорили. После взаимных теплых приветствий партизанский командир, указывая на находящегося в толпе немецкого офицера, сказал:
– Этот полковник гитлеровских ВВС не верил в благополучную посадку нашего самолета. «Капут будет ему, – уверял нас. – На такую площадку тяжелому самолету не сесть». Вот мы ему и говорим: что не под силу фашистам, вполне под силу советским летчикам-коммунистам…
В ту же ночь экипаж благополучно возвратился на свой аэродром. Из самолета вывели трех немецких офицеров.
– Ну как, нет капут? – спросил их Запыленов через переводчика-партизана.
Один из них ответил по-русски:
– Я нет капут, Гитлер капут…
Позднее Запыленов рассказывал, что он и сам боялся за взлет: «Уж больно мала площадка. Но партизаны молодцы. По моей просьбе они за 30 минут спилили 4 дерева, стоявших на линии взлета».
В одну из ночей командир эскадрильи капитан Василий Иванович Лебедев произвел посадку к партизанам Бегомля, доставил им боеприпасы и вывез оттуда раненых.
В апреле капитан Лебедев вывез из Бегомля 20 летчиков с самолетов, сбитых над территорией, занятой фашистами, и ушедших в леса к партизанам. Когда мы встречали их на аэродроме, то думали о Богданове и других летчиках, сбитых фашистами в 1941–1942 годах. Им приходилось пробираться к своим войскам пешком, проходя через районы, кишащие фашистами. Многие погибли при встрече с охранниками.
В район Бегомль – Лепель летал с посадкой и экипаж Ивана Гришакова. В один из полетов Иван Андреевич доставил в тыл врага не боеприпасы партизанам, а группу коммунистов и комсомольцев.
Сидор Артемьевич Ковпак, завершая свой знаменитый рейд по Украине, весной 1943 года остановился ненадолго у Речицы, в 100 километрах западнее Чернигова. В ночь на 21 марта произвел там посадку любимец Ковпака Борис Григорьевич Лунц. В ту пору он вывез 10 раненых партизан и экипаж капитана Владимира Александровича Тишко, того самого, что в январе провалился на льду озера Червонного. На второй день вместе с Лунцем в Речицу доставил груз ковпаковцам экипаж Николая Игнатьевича Слепова. Он вывез 17 раненых. Гостеприимный Сидор Артемьевич пригласил летчиков к себе в хату вечерять. Когда речь заходит о пище, летчики действуют по пословице: «Кто хорошо ест, тот хорошо и работает». Они вошли в хату и дружно заняли места за столом. Расторопная хозяйка подала жареное мясо. Все принялись с аппетитом уплетать вкусное блюдо. Не ели только двое: Ковпак и штурман Юрчаков. Хозяин жаловался на больные зубы, а штурман после поломки самолета в Смелиже, куда он летал в экипаже с Запыленовым, вот уже четвертый месяц ходил без передних зубов: то ему некогда, то материала у врача не оказывалось. Ковпак искренне посочувствовал молодому «летуну» и тут же попросил хозяйку отварить мозгов от забитого вечером бычка.
– Пускай они едят мясо, а мы, штурман, выпьем горилки и будем глотать мозги – их жевать не надо…
Небо покрылось мощной грозовой облачностью. Летчики, посовещавшись, решили взлетать, хотя Ковпак уговаривал остаться на дневку.
– Хороший хозяин в такую погоду собак со двора не выпускает, а вы лететь собрались, – доказывал Сидор Артемьевич.
Старый партизан оказался прав. В Москву в эту ночь добрался только Лунц. Слепов, попав в сильную грозовую облачность, произвел вынужденную посадку в отряде Кожара, на Гомелыцине. Белорусы сутки ухаживали за ранеными украинскими партизанами, которые находились на борту самолета Слепова. На вторую ночь Вася Асавин привез Слепову бензин, а партизанам боеприпасы, и летчики вернулись на свой аэродром.
Месяц спустя полк получил новую заявку на полеты в соединение Ковпака, но уже не в Речицу, а на площадку Кожушки, юго-восточнее Мозыря. В три первые ночи экипажи Лунца, Слепова и Чернопятова доставили партизанам несколько тонн взрывчатки, боеприпасов, оружия и медикаментов, оттуда вывезли 97 раненых.
В Кожушках Ковпак задержался. Генерал Строкач сказал:
– Пока мы не обеспечим отряд боеприпасами и не вывезем всех раненых, Ковпак будет стоять в Кожушках насмерть.
Чтобы больше забросить пушек партизанскому соединению, Виталий Иванович Масленников предложил грузить их в самолеты без колес и других, не обязательных в партизанских условиях деталей.
– Зачем они им, колеса? – убеждал он. – Лучше отвезем снарядов больше.
С Масленниковым согласились. Сел он ночью в Кожушках, зарулил самолет на разгрузку.
Сидор Артемьевич Ковпак встретил летчика, как всегда, приветливо. Виталия Масленникова он знал не хуже, чем «своего» Бориса Лунца.
– Ну, чем порадуешь, Виталий Иванович? – спросил он командира корабля.
– Пушки привез, Сидор Артемьевич, – весело доложил Масленников. – Принимайте на вооружение артиллерию!
– Молодец! – обрадовался Ковпак. – Пушки – предвестницы успеха. А снаряды?
– Будут и снаряды.
Пока Сидор Артемьевич интересовался новостями с Большой земли, в землянку вошел партизанский интендант и доложил Ковпаку, что пушки некомплектны, без колес. Сидор Артемьевич удивленно поднял брови и вопросительно посмотрел на летчика.
– Но ведь стрелять из них можно, – сказал Масленников. – А вместо ненужных колес я вам побольше снарядов привезу.
– Да-а… Удружил, нечего сказать, – обиделся Ковпак. – На кой хрен мне такие пушки? Стрелять-то из них можно, а людям показать нельзя.
Ковпак зажал в кулак посеребренную сединой бороду и уже мягче, даже совсем добродушно, взглянул на Масленникова.
– Я тебя понимаю, – снова заговорил он, лукаво улыбаясь. – Ты хотел как лучше. Но пойми старика: мы же не только воюем, мы вселяем в народ по эту сторону фронта большую веру в нашу победу. А народ не проведешь. Если он увидит у нас настоящие пушки, как в регулярных частях Красной Армии, то можешь быть уверен: это лучше подействует, чем сто наших агитаторов. Да и враг должен видеть, какое добротное оружие дает советский народ своим партизанам. Понял?
– Раз уж так получилось, – сказал виновато Масленников, – то не везти же мне их обратно.
– Зачем же обратно? – возразил Ковпак. – Хоть и без колес пушки, а оружие доброе.
Масленников достал из планшета накладную, подал ее Ковпаку расписаться за принятые пушки.
– Вот чего не могу, то не могу, – сказал Сидор Артемьевич. – Привезешь колеса и все прочее, что полагается к ним, тогда распишусь…
Прибежал посыльный, доложил об окончании погрузки в самолет раненых.
На обратном рейсе настроение у Масленникова было самое отвратительное. Он сердился то на хитрого и упрямого Ковпака, то на самого себя, что поторопился со своим предложением, не согласовав его предварительно со старым партизанским вожаком. Когда в следующую ночь Виталий Иванович доставил в Кожушки всё недостающее до комплекта пушек, Сидор Артемьевич сам расписался в накладной, скрепил подпись печатью и сказал:
– Пусть теперь Геббельс кричит, что Советы разбиты, – кто ему поверит. Понял, Виталий Иванович? То-то… Если из советского тыла посылают партизанам такие пушки, то чем же тогда вооружена регулярная Красная Армия? Понял мою политику?!
В конце апреля экипажи Запыленова, Лунца, Слепова и Чернопятова доставили Ковпаку последнюю партию боеприпасов, и отряд снова двинулся в рейд.
Еще в марте летчики Лунц, Слепов и Чернопятов освоили новую площадку Дуброва, в 60 километрах северо-западнее Овруча. К этому времени там образовался большой партизанский край под командованием А. Н. Сабурова и З. А. Богатыря. 14 марта первым слетал на новую площадку Жора Чернопятов. В последние четыре ночи летали Лунц и Слепов, на выброску боеприпасов с парашютами. Изучив площадку, Борис Лунц получил разрешение сесть на нее. Вслед за Борисом Лунцем к А. Н. Сабурову сел Николай Слепов. Он еще раньше был закреплен за отрядом житомирцев. Н. И. Слепов, с хитрыми глазами, балагур, был полной противоположностью партизанскому вожаку А. Н. Сабурову, неразговорчивому, суровому на вид человеку. Однако эти люди относились друг к другу с большой симпатией. Летчику предстояло совершить в соединение Сабурова десятки интересных полетов.
А. Н. Сабуров в своей книге «У друзей одни дороги» рассказывает об одной из встреч с летчиками:
«Через несколько дней мы все же дождались на свой аэродром самолетов с Большой земли. Пилоты Лунц и Слепов доставили нам из Подмосковья несколько тони взрывчатки.
Великая радость охватила партизан!.. Самыми горячими словами благодарили мы боевых друзей – авиаторов полка, которым командовала Герой Советского Союза Валентина Степановна Гризодубова. Очень хотелось сделать летчикам что-нибудь приятное. И мы погрузили в самолет Слепова несколько кабанов, сопроводив эту живую посылку просьбой на имя командира: не зачислять наш подарок в строгие военные нормы питания…
Крылья Родины! В глубоком тылу противника эти слова имели особый смысл» 22
А. Н. Сабуров. У друзей одни дороги. М., Воениздат, 1963, стр. 189.
[Закрыть].
Партизанское соединение под командованием Алексея Федоровича Федорова, перед тем как совершить поход в глубь Украины, продолжало пополнять запасы оружия и взрывчатки. Еще в начале марта Запыленов, Федоренко, Быков и Лебедев совершили 10 вылетов на площадку Мглин. В это же время вылетел к своим отрядам из Москвы и А. Ф. Федоров.
Последние две ночи Алексей Федорович ночевал у меня в комнатке. Мартовская погода неустойчива. Три дня мела снежная пурга. Вылеты задерживались.
Провожать Федорова приехали товарищи из украинского партизанского штаба. Зашла в самолет перед вылетом и Валентина Степановна. Сказав несколько напутственных слов летчику, она обменялась крепким рукопожатием с партизанским командиром.
– До скорой встречи после победы, – сказала Гризодубова и вышла из самолета.
Весной 1943 года установилось почти регулярное воздушное сообщение между партизанскими районами и Большой землей. Оружие, боеприпасы, медикаменты, продовольствие и одежду – все, что могла, не жалела Родина для народных мстителей. Партизаны вели бои в тылу врага, разрушали коммуникации немецко-фашистских войск, срывали его замыслы, передавали командованию Советской Армии ценные сведения о противнике.
Многие летчики нашего полка отличились в боях и получили высокие правительственные награды, повышение в должности и воинском звании. Степан Семенович Запыленов стал майором, его назначили заместителем командира 101-го авиаполка, эскадрильями командовали майор Виталий Иванович Масленников, капитаны Георгий Владимирович Чернопятов и Борис Григорьевич Лунц. Командиром дивизии назначили полковника Ивана Васильевича Филиппова, а Виктора Ефимовича Нестерцева утвердили командиром корпуса, ему присвоили звание генерал-майора авиации.
«Стол размокает»
В начале марта в полк приехал начальник штаба партизанского движения Белоруссии Петр Захарович Калинин. Он был крупным партийным работником, но держал себя просто, как рядовой человек, говорил неторопливо и негромко, спокойно выслушивал любое мнение, относящееся к делу. Летчики знали и уважали его. Если Петр Захарович присутствовал при подготовке к полету, они спрашивали, его, какова обстановка в том или ином партизанском отряде, и всегда получали исчерпывающие ответы.
На этот раз Калинин привез задание, утвержденное Центральным штабом партизанского движения, на полеты в разные районы оккупированной Белоруссии. В разговоре с Гризодубовой о предстоящей работе Петр Захарович высказал просьбу больше посылать самолетов с посадкой и тут же заверил:
– Площадки в отличном состоянии, выбраны на хорошем твердом грунте с травяным покровом.
Полк приступил к полетам в разные районы партизанской Белоруссии. Летчики докладывали об отличной погоде. Все шло хорошо, и мы радовались успешным полетам. Утром 13 марта ко мне вошел представитель белорусских партизан.
– Привез маленькое изменение к плану полетов и большую просьбу, – сказал он, поздоровавшись. – Да вы прочтите сами. – И вручил мне пакет.
В нем оказалась небольшая записка:
«Гризодубовой. Прошу Вас в ночь с 13 на 14 марта послать самолет с посадкой к партизанам Кличевского района на площадку Голынка. Калинин».
– Почему такая спешка?
– Видите ли, командир партизанского отряда Яхонтов радирует: «Стол размокает».
«Странно», – подумал я, но, привыкнув к зашифрованным разговорам, понял так: «стол» – это аэродром, а «размокает» – оттаял грунт и скоро невозможно будет сажать самолет в Голынку. Вот, наверно, и забеспокоились кличевские партизаны. Звоню в Москву Калинину.
– Петр Захарович, – начал я, – сегодня посадить самолет в Голынку никак нельзя. Летчик Бибиков, которого так восторженно встречали в Усакинском лесу, в декабре погиб. А без просмотра площадки посылать другого летчика… сами понимаете. Тем более площадка размокла.
– Слушайте, Верхозин. Передайте Гризодубовой, что все будет в порядке. Стол размокает, но площадка хорошая.
– Что-то крутят партизаны, – недоумевали мы.
Гризодубова решила послать в Голынку экипаж Степана Запыленова.
– Сбросьте боеприпасы с парашютами и посмотрите площадку, – сказала она летчику. – В следующую ночь будете на нее садиться.
Степан Семенович после поломки самолета в Смелиже летал к партизанам больше, чем его подчиненные. Наученный горьким опытом в Брянском лесу, Запыленов, чтобы лучше изучить площадку, попросил Валентину Степановну разрешить слетать в Голынку с выброской груза и на вторую ночь. Два дня раздавались телефонные звонки из штаба белорусских партизан. Разговор неизменно заканчивался одной и той же просьбой: «Сажайте самолет в Голынке, стол размокает».
В ночь на 16 марта Запыленов летал к партизанам Кличева с посадкой. Утром за завтраком, слушая неторопливый рассказ (правда, говорил больше штурман Виктор Дмитриевич Зайцев), я будто сам побывал в Усакинском лесу. На партизанском аэродроме собралось много народу. Людям хотелось увидеть свой, советский самолет. И когда из него неторопливо вышел высокий, чуть сутулый, в кожаной тужурке летчик, партизаны встретили его, как самого родного и близкого человека, с которым давно не виделись. Пока разгружался самолет, летчик и командир партизанского отряда обменивались новостями и взаимными просьбами.
– Прикажите, пожалуйста, – говорил Запыленов, – срубить вон то дерево, что стоит напротив крайнего костра. Оно будет мешать взлету.
Командир тут же отдал приказание.
– Просьба к вам, – сказал он Запыленову. – Привезите медикаменты. Есть у нас легкораненые, могли бы их подлечить в отряде. А тяжелораненых 50 человек. Их обязательно нужно вывезти на Большую землю. Не выживут здесь. Мы просим вас прилететь к нам с посадкой еще раза три.
– Всех вывезем, – заверил Степан Семенович, – лишь бы аэродром ваш не размок.
– Да что вы, аэродром наш не хуже Центрального в Москве. Ангаров только не хватает.
– А что же вы радируете, что стол размокает?
– Ну, так это стол, а не аэродром, – рассмеялся Яхонтов. – Сегодня отправляем его с вами в Москву, а заодно и хозяина стола увезете.
Запыленов, слушая, еще больше удивлялся и не понимал, о каком столе идет речь.
– Вы думаете, в Москве столов не хватает?
– Да, такого и там нет. Наш стол… Его показывать никому нельзя… – Яхонтов недосказал: к Запыленову подошел штурман экипажа Зайцев.
– Самолет загружен, темного времени остается мало, надо улетать, – сказал он.
– Какая загрузка?
– Нормальная, товарищ капитан: семнадцать раненых, пять детей и один человек с запакованным в рогожу столом.
Пожали Яхонтову руку.
– А о столе вы мне завтра расскажете, – попросил Запыленов.
В сопровождении большой группы партизан пошли к самолету. Каждый, говоря «до завтра», жал по-дружески, изо всей силы руки Запыленову и Зайцеву, изливая свои чувства к представителям Большой земли.
В полете Запыленову не удалось поговорить с хозяином стола.
На аэродроме к самолету подъехал небольшой автобус Белорусского штаба. Пока я разговаривал с летчиком о состоянии партизанского аэродрома Голынка, стол перенесли в автобус и увезли вместе с его хозяином в Москву. В тот день мы так и не узнали, что за таинственный стол привез Запыленов.
В следующую ночь, когда закончились приветствия в адрес прилетевших летчиков, командир партизанского отряда Яхонтов взял Запыленова под руку и повел к ярко горевшему костру.
– Ну ты и молодчина. Если бы в Москве знали, сколько сил придает самолет партизанам, и чаще слали к нам на помощь вот таких летчиков, ей-богу, Гитлеру капут был бы намного раньше. Слушай, Степан. Решили мы вам подарок в знак нашей партизанской дружбы преподнести. – С этими словами Яхонтов протянул руку. – На, бери, это от нас летчикам на память.
При свете костра Запыленов увидел в руке Яхонтова лист бумаги.
– Будете смотреть и вспоминать, как вас партизаны встречали, – продолжал Яхонтов, – это же рисунок, карандашный рисунок. Смотрите, что на нем написано.
Степан Семенович прочел: «Экипажу капитана Запыленова от партизан 208-го отряда. Усакинский лес. 15–16 марта 1943 года».
– Знаете, – снова заговорил Яхонтов, – у нас в отряде находится художник, татарин, из Казани. Фамилия его Байбеков. Он и печати делает для пропусков в фашистские гарнизоны, и портреты партизан рисует. Одним словом, художник, мастер на все руки. И фашистов бьет как мастер-художник. Покажите его рисунок Гризодубовой. Ей приятно будет знать, как любят ее летчиков партизаны.
Так Степан Запыленов стал обладателем единственного в своем роде рисунка, на котором был изображен момент посадки самолета на партизанском аэродроме. Подарок он передал в штаб полка. Посмотрев рисунок, мы попросили Станкеева сделать фоторепродукцию: ведь рисунок карандашом может со временем потерять свой первоначальный вид или порваться. С тех пор прошло много времени, оригинал где-то затерялся, а фото сохранилось у меня в альбоме.
Пока мы рассматривали рисунок партизана, я забыл спросить Запыленова, что рассказал ему Яхонтов о таинственном столе. Спохватился, когда Степан Семенович написал боевое донесение и уехал с экипажем в гарнизон.
В самолете Запыленова прилетели по служебным делам два партизана. Машины из Москвы не было, и они в ожидании попутной сидели в коридоре командного пункта полка. Ночь прошла хорошо. Оставшиеся в воздухе самолеты, возвращаясь, перелетели линию фронта и через час должны были сесть на своем аэродроме. Увидев дремавших партизан, я пригласил их в комнату. После короткого знакомства рассказал им обстановку на фронтах, они поделились новостями, что делается в тылу врага. Не помню почему зашел разговор о таинственном столе. Оказалось, никакого секрета из этого партизаны не делали, и они наперебой рассказали мне следующую историю.
В белорусской деревне жил знаменитый умелец-краснодеревщик Орлов. В его руках срубленное дерево начинало вторую жизнь, превращаясь в изумительные по красоте предметы. Перед войной мастер решил сделать письменный стол из всех видов деревьев, растущих в Белоруссии, и послать его в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Стол был почти готов. На крышке его Орлов инкрустировал из кусочков самого дорогого дерева надпись: «Великому русскому народу от белорусского народа в знак вечной, нерушимой братской дружбы».
Война прервала работу умельца. Вскоре в деревню ворвались фашистские охранники и каким-то образом нашли в сарае заваленный обрезками досок и стружкой уникальный стол. Гитлеровцы заставили Орлова сделать на крышке стола оскорбительную для советского человека надпись: «Великому фюреру от белорусского народа в знак благодарности за освобождение».
Мастер не захотел умирать вдруг. Он решил перехитрить врага. «Работа сложная, потребует много времени, а время – лучший советчик», – думал Орлов. Фашисты умельца из дома не выпускали, держали его работу в секрете. Но в деревне секреты долго не живут. Патриоты связались с партизанским отрядом. В удобный момент партизаны окружили деревню, уничтожили охранников, а Орлова и его стол доставили на аэродром в Усакинский лес.
– Зачем же ваше командование радировало, что стол размокает? – спросил я партизан.
– Вот чего не знаем, так не знаем. О содержании телеграмм командиры нам не докладывают. А о столе в Москве знали, но долго не присылали самолет. Вот начальство, наверное, и пошло на хитрость… А стол, что ему сделается? Он у нас хранился в теплой землянке.