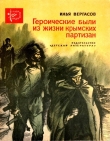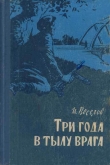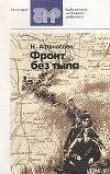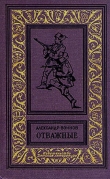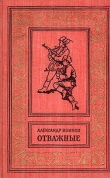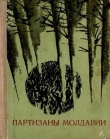Текст книги "Самолеты летят к партизанам (Записки начальника штаба)"
Автор книги: Александр Верхозин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Партизанские дети
Самолет нырнул в лучи стартовых прожекторов, у посадочного, выложенного лампочками «Т» мягко коснулся бетонки и плавно, сбавляя скорость, побежал в темноту. Вскоре он зарулил на разгрузочную площадку. Выключенные моторы, остывая, издавали треск, напоминавший хруст тонкого льда при первых заморозках.
Бортмеханик, распахнув дверь, приставил железную лесенку, и мы увидели малолетних пассажиров. Это были партизанские дети. Одетые в тряпье, они за время полета в холодную осеннюю ночь, на высоте сильно перемерзли. Среди них были сироты, родители которых замучены фашистами. Командир корабля Николай Слепов, показывая на двенадцатилетнего мальчишку в большом пиджаке, сказал:
– Никак не хотел лететь. Спросили: «Почему? Ведь в Москве будет лучше, и товарищи твои летят». А он серьезно: «Гришке-то хорошо, в разведку ходил, а я что? Даже ни одного фрица не убил?» «Не расстраивайся, – успокоил я его. – Врагов пускай убивают взрослые, а тебе учиться надо». Еле уговорил малого.
Слепов помог мальчишке забраться в автобус, прибывший за детьми из Москвы, помахал им рукой. Их было более двадцати.
Дикие зверства немецко-фашистских захватчиков, насилия и убийства советских граждан привели к тому, что на оккупированной территории появились тысячи детей-сирот. Многие из них ушли в леса, к партизанам. Но в партизанских отрядах не было жилых помещений, теплой одежды, нормального питания, а больным малышам – квалифицированной медицинской помощи. Не могли дети и учиться. Командиры отрядов, к которым с осени 1942 года стали прилетать самолеты с посадкой, не дожидаясь холодов и указаний свыше, сами по возможности отправляли детей на Большую землю.
В ночь на 13 сентября 1943 года экипаж Василия Дмитриевича Асавина произвел посадку на партизанской площадке Лужица, взял в самолет оставшихся там десятерых детей и перед утром вылетел в Москву. На рассвете в районе Унеча самолет атаковали два фашистских истребителя. К пулеметам стали второй пилот Кульников, радист Монахов и стрелок Дробышев. Они отчетливо видели «мессершмиттов», отчаянно отбивали одну атаку за другой. Командир корабля Асавин приказал укрыть детей в центроплане.
Фашисты весь огонь сосредоточили на пулеметных установках советского самолета. Это спасло детей. Героически защищая самолет, погиб радист Монахов. Его место занял у пулемета борттехник Белоконь. Вскоре был убит второй пилот Кульников. К пулемету стал штурман Логинов. Неравный бой продолжался. Одно сознание, что на борту корабля дети, удесятеряло сопротивляемость. Но вот смертельно ранен стрелок Дробышев. Ранены штурман и борттехник, кончились боеприпасы. Беззащитным самолет вышел на свою территорию, в зону нашей противовоздушной обороны переднего края. Последняя атака «мессершмиттов» не состоялась: они были обстреляны зенитной артиллерией, и один из них, объятый пламенем, камнем упал на землю.
Наш самолет был настолько искалечен, что держаться в воздухе больше не мог. Асавину удалось сделать посадку в поле в районе Лохвиц. 500 пробоин насчитал летчик в самолете и моторах. Спасенные ценой трех жизней летчиков-комсомольцев, дети были отправлены в Москву. Погибшие товарищи похоронены по русскому обычаю на поле брани. Прибывшие инженеры сделали вывод, что самолет ремонту не подлежит. Он был оставлен памятником на могиле Ивана Васильевича Кульникова, Василия Федоровича Монахова и Ивана Игнатьевича Дробышева.
В начале ноября холода стали чувствительнее, особенно ночью. Гризодубова получила официальное указание об эвакуации детей из всех партизанских отрядов, куда могли летать наши самолеты с посадкой.
Для уточнения задания, связанного с вывозкой детей, Валентина Степановна послала меня в Москву, в Центральный штаб партизанского движения. В этом штабе я бывал уже не раз, видел там командиров партизанских отрядов, секретарей райкомов и обкомов, направляемых партией для руководства партизанским движением. Они ожидали отлета наших самолетов в свои отряды за линию фронта. Зайдя в кабинет к генералу Хмельницкому, я доложил ему о цели прибытия и стал забрасывать генерала вопросами.
– Не торопитесь, молодой человек, – сказал генерал. – Давайте по порядку. Начнем с того, что вы должны уяснить и передать Валентине Степановне, а потом я буду вас слушать. Договорились? Тогда начнем с первого: о вывозке детей из партизанских отрядов есть указание ЦК партии. Второе: Центральный штаб партизанского движения приказывает вам, летчикам, чтобы вы приложили все свои силы выполнить это указание партии как можно скорее, до наступления зимы. Посадочные площадки у партизан уже готовы. Вот и все.
– Ясно, товарищ генерал. Командиру все передам точно. Уверен – приказ выполним, – заверил я генерала.
– Не сомневаюсь, – одобрительно сказал Хмельницкий. – А теперь давайте вопросы.
Я передал генералу просьбу летчиков о лучшей расстановке сигналов на посадочных площадках и жалобу на то, что во многих партизанских отрядах погрузкой раненых и детей никто не руководит и в момент загрузки самолета создаются излишние толкотня и беспорядок. А для экипажей дорога каждая минута. Генерал заверил, что обо всем будут даны указания командирам соединений и отрядов по радио.
О своей беседе с генералом Хмельницким я подробно рассказал Гризодубовой. Валентина Степановна приказала собрать летный состав на совещание.
Летчики один за другим входили в землянку командного пункта полка, усаживались кто где, спрашивали у Валентины Степановны разрешения закурить. Гризодубова, в отличие от многих женщин и некурящих мужчин, не запрещала курить в своем присутствии, но каждый, спросив раз, курил не переставая: одна папироса затухала, другая прикуривалась. Вскоре табачный дым заполнил всю землянку, трудно было разглядеть вновь входивших. Валентина Степановна наконец сказала:
– Что же вы меня совсем выживаете? Курите, но не все сразу.
Летчики стали извиняться, тушить свои папиросы. Кто-то открыл дверь. Совещание было коротким. Командир рассказала о необходимости образцового выполнения задания по вывозке детей на Большую землю.
– Дети связывают маневренность партизанских отрядов, во время боевых действий могут попасть в руки врага и подвергнуться физическому истреблению. Мы должны с честью выполнить указание Центрального Комитета партии о спасении советских детей, находящихся в лесах в тылу врага.
В первую же погожую ночь, с 22 на 23 ноября, экипажи Виталия Ивановича Масленникова, Бориса Григорьевича Лунца и Николая Игнатьевича Слепова вывезли из брянских лесов 36 детей в возрасте от четырех до десяти лет. Трудно забыть такую ночь! Встречать самолеты собрались все свободные от полетов экипажи.
Накануне Гризодубова летала на выброску боеприпасов на площадку Голынка, Бобруйской области, для партизанских отрядов под командованием Ничипоровича. А 22 ноября осталась на аэродроме: решила принять участие в организации встречи детей.
Сел, зарулил на разгрузочную площадку первый самолет. Открылась дверь, но ожидаемые пассажиры не выходили, их выносили на руках летчики.
– Вы посмотрите, Валентина Степановна, на их одежду, – сказал командир эскадрильи Масленников.
В это время из самолета выносили восьмилетнюю девочку и лет шести мальчика. На девочке были рваное пальтишко и летние туфельки, на мальчике – развалившиеся ботинки и такой же мужской пиджак.
– Летели мы, – продолжал Масленников – на высоте 3–4 тысячи метров. Температура воздуха в самолете снижалась до 30 градусов. Дети пробыли в воздухе около трех часов, и все очень замерзли.
Врач полка Иван Яковлевич Безденежный, летчики, техники, перенесли детей в теплую землянку. Малыши не жаловались, что замерзли, только глядели они слишком серьезно.
– Вы не думайте. Мы не были безразличны к своим пассажирам, – как бы оправдываясь, говорил Масленников. – Что было на нас теплого все отдали детям. Но ведь этого мало, одели только самых маленьких.
К Гризодубовой подошел Слепов. В гимнастерке на десятиградусном морозе он весь ссутулился.
– Раздели меня детки, товарищ командир, – пошутил Слепов.
– Да на вас лица нет – синий, как цыпленок, – заметила Валентина Степановна. – Идите скорее в землянку, отогрейтесь.
– Не я один, весь экипаж зубами чечетку выбивает, – ответил Слепов и бросился бежать в землянку. Второй пилот Потапов, борттехник Гайворонский и другие члены экипажа, тоже в гимнастерках, унесли в землянку закутанных в меховые тужурки детей. Им помогали подоспевшие техники.
У многих, даже бывалых летчиков при виде малышей навертывались слезы. Некоторые, как и я, вспоминали и своих детей. Зимой 1941 года моя жена с тремя детьми дошкольного возраста в холодном товарном вагоне проделала путь из Воронежа в Сибирь и в обратном направлении до Урала. Но мои дети счастливы тем, что с ними мать и они в безопасности от дикой расправы озверевшего врага. А у большинства детей, которых привезли летчики, родители убиты фашистами. Самое страшное то, что зверства совершались на глазах детей. Им наносили непоправимую моральную травму.
Партия оберегала советских детей не только от уничтожения их фашистскими извергами, но и от вынужденной жестокости борьбы, которую вел советский народ.
В ту ноябрьскую ночь Валентина Степановна, используя свои права и обязанности депутата Верховного Совета СССР, доложила управляющему делами Совнаркома об отсутствии у партизанских детей одежды. Что пришлось нам пережить при их встрече, стало известно и в Центральном Комитете партии. Совет Народных Комиссаров СССР издал специальное распоряжение: при перевозке самолетами партизанских детей обеспечивать их теплой одеждой.
С 25 ноября московские предприятия легкой промышленности приступили к пошивке вещей для партизанских детей. Женщины не покидали своих машин, пока не был выполнен заказ. Через три дня детская одежда была доставлена на аэродром и распределена по самолетам, летающим к партизанам с посадкой. Маленькие пассажиры больше не мерзли в воздухе. На аэродроме дети получали новые ботинки, пальтишки, теплые вещи. Благодаря усилиям Валентины Степановны и всего личного состава полка дети окружались с момента посадки в самолет вниманием и заботой. По прибытии на Большую землю теплые вещи снова возвращались на самолеты, чтобы одеть в дорогу других детей. До конца марта 1943 года детская одежда находилась на самолетах полка как самый дорогой инвентарь. По количеству вывезенных детей из фашистского тыла оценивалась боевая работа экипажей.
– Каждый из нас, будь то летчик, штурман, техник или моторист, – сказал на собрании парторг полка Борис Николаевич Дьячков, – должен оцениваться мерой своего участия в вывозке детей с партизанских баз.
Многим детям, вывезенным из фашистского тыла, сейчас уже взрослым людям, наверное, попадет в руки эта книжка. Они прочтут ее и вспомнят свои перелеты, могут заинтересоваться: кто их спас, кто вывез тысячи детей из партизанских лесов на Большую землю. Скажу сразу: это те самые летчики, о подвигах которых пишется в этой книге.
Виталий Бибиков
Штаб белорусских партизан настойчиво просил Гризодубову послать самолеты с посадкой в Усакинский лес, к партизанам Кличевского района.
– Площадка для посадки самолета подготовлена по всем правилам, – доказывали белорусы. – Охрана обеспечена. Партизаны там боевые, но есть раненые, нуждающиеся в помощи врачей…
Площадка нам была знакома только по наблюдению сверху. Виталий Бибиков еще в июле летал в деревню Суша, севернее Кличева, на выложенные сигналы он сбросил на парашютах боеприпасы отряду Владимира Ивановича Ничипоровича, осмотрел площадку и доложил Гризодубовой, что сесть в Усакинском лесу можно. Поэтому, когда обратились товарищи из белорусского штаба с просьбой о посадке самолета на площадку Голынка, то первым кандидатом для выполнения этого задания был летчик Бибиков. Его встретили партизаны с такой радостью, как встречали люди Чкалова, Громова, Гризодубову после их героических перелетов. Только людей было во много раз меньше, встречали не днем, а ночью, и вместо цветов – горячие рукопожатия.
Бывший партизан Николай Ратушнов в книге «В боевом походе» описывает посадку первого самолета к партизанам Кличева:
«Что тут творилось! Объятия, поцелуи, гомон неразборчивых, но одинаково радостных выкриков… Командир экипажа Бибиков и его товарищи не успевали отвечать на десятки вопросов. А нам все еще не верилось, что это – наш самолет, наши, советские люди прилетели на нем. Каждому хотелось не только поближе увидеть их, но и дотронуться до летчиков и до самолета, убедиться, что это не сон, а самая подлинная явь…»
Напомним, что по упорству и настойчивости, по смелости и мастерству выполнения боевых заданий Бибиков никому не уступал.
Родился он в 1914 году в Москве. Окончив среднюю школу, поступил в училище летчиков Гражданского воздушного флота. Перед началом Великой Отечественной войны был уже известным летчиком Аэрофлота СССР. Отлично владея техникой пилотирования, летал безаварийно. К этим качествам в войну он добавил еще храбрость и бесстрашие в боевых полетах.
Как-то мы спросили Бибикова:
– Виталий Петрович, а ты не боишься, не думаешь, что тебя могут сбить фашисты?
– Если бы я не боялся, то считал бы себя психически ненормальным, – сказал Бибиков. – Я думаю об этом в каждом полете и всегда так: сбить меня могут, но не сегодня.
Когда 12 ноября потребовалось лететь в глубокий тыл врага да произвести при этом две посадки на разных партизанских площадках, ни у кого из нас не возникло другого мнения, что на это задание надо дослать Бибикова.
Еще в сентябре 1942 года в группу Медведева (автора книги «Это было под Ровно») был послан экипаж Ивана Николаевича Владимирцева с задачей: доставить отряду (во время войны партизанские соединения и группы мы называли просто отрядами) особо важный груз и вывезти тяжелораненых партизан. Но Владимирцева постигла неудача. При посадке на неумело подготовленную площадку самолет потерпел аварию. Данные разведки и раненые, которых нужно было вывезти в Москву, остались в тылу противника. Сам Владимирцев и пять человек его экипажа нуждались, чтобы кто-то вывез их на Большую землю.
В ноябре группа Медведева ушла дальше на запад. Командование настойчиво требовало от Гризодубовой посадить второй самолет к Медведеву. Легко сказать посадить, а как? Как Владимирцев? Ведь каждый самолет был дорог и нужен для войны. И только после сообщения, что новую площадку готовил летчик, старший лейтенант Владимирцев, посылка Бибикова была решена.
Когда штурман полка капитан Козлов на земле рассчитывал время полета экипажа Бибикова, то оказалось, что горючего в самолете для полета до цели и обратно не хватит. Решили дозаправить баки бензином на партизанской площадке в Брянских лесах. Горючее было заброшено туда самолетами полка накануне вылета Бибикова. Сложное задание экипаж выполнил блестяще. В боевом донесении полка записано:
«В ночь с 12 на 13 ноября летчик Бибиков, штурман Тюрин вылетали в глубокий тыл противника. В пути произвели посадку на партизанской площадке Смелиж, в Брянской области, где дозаправили самолет горючим и в ту же ночь вылетели в партизанский отряд Медведева с посадкой на площадку Михалино, район Сарны. Партизанам доставили боеприпасы, газеты и почту, из отряда вывезли 5 человек экипажа летчика Владимирцева, 13 раненых партизан и важные документы для командования советских войск. Боевой налет – 19 часов 50 минут».
Это, конечно, официальный документ, составленный в скупых выражениях обычной сводки о боевых вылетах летчиков. В нем не говорится, какие усилия затратил экипаж, какую настойчивость и волю проявил он, чтобы выполнить задание.
Более выразительно написал об этом полете Д. Медведев в книге «Это было под Ровно»:
«11 ноября нам удалось принять самолет (дата указана Медведевым не точно. – А. В.). Посадка прошла превосходно. Радовались удаче не только партизаны. Не было конца восторгам и жителей села, когда самолет пронесся над крышами их домов и плавно сел на площадку, ярко освещая все вокруг светом своих фар. Самолет пробыл у нас всего 40 минут. Оставил нам письма и подарки. Мы погрузили раненых, документы и письма родным».
Мне особенно запомнился обратный полет Бибикова. По донесениям бортрадиста Петра Ильяскина, экипаж чувствовал себя хорошо, самолет шел над десятибалльной облачностью. На рассвете, когда самолет приближался к линии фронта, на него напал фашистский истребитель. Первым заметил «мессершмитта» стрелок Юрка Клименко и доложил командиру. Виталий Бибиков резко пошел на снижение и скрылся в облаках. Вскоре связь с самолетом оборвалась.
На командном пункте забеспокоились. Все взоры были обращены на комсомолку Машу – золотые ушки. Девушка должно быть сама волновалась, что не слышит сигналов самолета, но не подавала виду. Работу военного радиста можно сравнивать с работой дирижера большого симфонического оркестра. Из сотен музыкальных звуков дирижер всегда отличает фальшивый, несогласованный звук неопытного исполнителя. Так и радист. Из многоголосного оркестра работающих радиостанций он должен уловить нужный ему сигнал маленькой радиостанции. Ведь экипаж очень надеется, чтобы ее обязательно услышали.
Гризодубову то и дело спрашивали по телефону из Москвы: «Где Бибиков?» А что она могла сказать, если с самолетом нет связи, если он уже более 15 часов находится над территорией, занятой фашистами? Валентина Степановна, не вытерпев звонков, ушла на узел связи. Там могла потребоваться ее помощь: может, самолет передаст слабые сигналы и летчик спросит, что делать?
Гризодубова села рядом с Машей, сосредоточилась, прослушивая волну, на которой должна работать рация Бибикова, но ничего, кроме дыхания девушки, не услышала.
Звонки из Москвы стали настойчивее.
– Вы знаете, – слышался в трубке голос известного мне генерала, – что на борту у Бибикова летит человек с важными документами?
– Знаю, товарищ генерал.
– Если они попадут в руки врага, вам придется отвечать.
– Есть отвечать.
В то время мы еще не знали, что собой представляла группа Медведева, не знали и о документах, которые, как стало потом известно из книги «Это было под Ровно», касались работы знаменитого разведчика Николая Ивановича Кузнецова.
Но пока мы больше всего волновались за судьбу экипажа Бибикова. А если принять во внимание обещанные нам кары от начальников Медведева, волновались и за свою судьбу. В это время самолет Бибикова вышел из десятибалльной облачности на высоте 100 метров и благополучно сел на свой аэродром. Мы все выскочили из землянки встречать людей, совершивших большой подвиг.
Днем погода совсем испортилась. К вечеру командование объявило полку отдых. Тот генерал, что больше всех беспокоился за судьбу самолета, прислал для праздничного обеда летчиков полка вино и подарки. Героем дня был Виталий Петрович Бибиков.
После первых тостов за отлично выполненное особо важное задание командования, за экипаж Виталия Петровича Бибикова, после хорошей закуски, невесть откуда добытой для такого случая расторопными хозяйственниками, языки развязались. Посыпались вопросы к Бибикову. Но, так как спрашивали все и каждый свое почти одновременно и трудно было разобрать, кому что надо, а тем более ответить всем сразу, Бибиков скромно улыбался и молчал. Потом поднял уже налитый кем-то стакан, все притихли, и он сказал, как всегда, негромко:
– За Юрку Клименко. Прозевай он истребителя – не сидеть бы нам сейчас вместе.
Лес рук, звеня стаканами, потянулся к Юрке. А он покраснел, смутился вдруг, может, от неожиданной похвалы командира и внимания стольких знаменитых уже летчиков, а может, и от того, что ему нечем было с ними чокнуться. Перед Юркой стоял пустой стакан: Бибиков с первого же дня, как только Юрку зачислили в его экипаж, сказал: «Рано тебе это». Штурман Иван Панишин наполнил до половины Юркин стакан.
– Сегодня можно, – подбодрил он юношу.
Вскоре звон стаканов и перестук вилок снова заглушили голоса захмелевших «партизанских» летчиков. Василий Федоренко, пытаясь перекричать других, допытывался у Бибикова:
– Виталий, а Виталий! Да скажи ты толком: что случилось, почему связь прекратил?
– В облаках белый медведь антенну оборвал, – отшутился Бибиков и тут же пояснил: – Сильное обледенение было.
А штурман Каспаров уже хвалился кому-то, как в составе экипажа Бибикова он летал бомбить скопления железнодорожных эшелонов на станции Ярцево.
– Зенитки лупят – небо трещит, прожектора вот-вот нащупают нас. А Виталий курс над целью выдерживает строго. Ну, тут я и шуранул четыре штучки по 250 килограммчиков. Без промаху, по вагонам. – Каспаров ребром ладони ударил по краю стола. – Рвануло по всем правилам – видать, в эшелон с боеприпасами попал. Такой пожар вспыхнул, что фрицам не снилось…
Летчики что охотники на привале: стоит только разговориться – начнут были да небылицы рассказывать, кто скупо, а кто и приврет немного, если к слову придется. Но тут хвастовства не было. Кто-то вспомнил, как месяца два назад экипажи Бибикова, Масленникова, Поповича и Федоренко прямым попаданием пятисоткилограммовых бомб разрушили крупное железобетонное оборонительное сооружение гитлеровцев в районе Дорогобужа.
– Хотите я сообщу вам одну новость? – спросила Валентина Степановна, и сразу же в комнате воцарилась тишина.
– Помните, как недели две тому назад по просьбе партизан летали в Порховский район бомбить скопище полицейских? – продолжала Гризодубова. – Там проходил тогда инструктивный «семинар» предателей Родины по борьбе с партизанами. Так вот, сегодня генерал Хмельницкий сообщил мне, что одна пятисотка угодила в общежитие полицейских и похоронила их всех в одной воронке.
– Так им и надо.
– Для того и летали, – зашумели одобрительно летчики.
– А теперь споем, – предложила Валентина Степановна. – Виталий Петрович, просим.
У Бибикова был замечательный баритон, но, в противоположность Александру Кузнецову, пел он очень редко, только по просьбе товарищей и когда было действительно весело. В тот раз он не заставил себя упрашивать. Валентина Степановна села за рояль, пальцами пробежала по клавишам.
– Какую? – спросила она, повернув разрумянившееся лицо к Виталию Петровичу.
– Из кинофильма «Багдадский вор», – подсказал штурман Николай Лужин.
– О ворах потом, – возразил кто-то. – Давай нашу, из кинофильма «Истребители» – «Любимый город», или как там она…
– «Песню индийского гостя».
– О Волге…
Каждому хотелось, чтобы Бибиков спел его любимую песню. Но всем сразу угодить невозможно, и Валентина Степановна заиграла знакомую мелодию из «Истребителей». Виталий Петрович вышел из-за стола, положил руку на крышку рояля и начал петь:
В далекий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят,
Любимый город в синей дымке тает!
Знакомый дом,
Зеленый сад
И нежный взгляд…
Голос Бибикова покорил его боевых друзей, он проникал в самое сердце, и казалось, что ничего в мире больше не существует – только он и песня. Услышали летчики и багдадского вора, и индийского гостя, и ямщика удалого, даже Волга плескала своим простором. А под конец все вместе подхватили «Распрягайте, хлопцы, кони»… Расходились шумно, весело, а впереди всех ждали новые боевые дела и испытания.
1 декабря экипаж Виталия Бибикова получил задание доставить боеприпасы соединению А. Ф. Федорова. При взлете в изморозь и гололед самолет долго не отрывался от земли, а взлетев, не смог набрать безопасную высоту и задел крылом за здание. Погибли отважный летчик Виталий Петрович Бибиков, штурман корабля Иван Аверьянович Панишин, борттехник Борис Иванович Жоголев, бортрадист Петр Петрович Ильяскин. В живых остался находившийся в хвосте самолета корреспондент газеты «Красная звезда». Не погиб и стрелок Юра Клименко: в тот день он был в суточном наряде.
Не вдумываясь в существо дела, аварийная комиссия дивизии сделала заключение, что летчик, не прекратив взлета, проявил недисциплинированность. Гризодубова высказала командиру дивизии свое мнение.
– Представьте себе, – говорила она полковнику, – что солдату дана команда: в атаку! Если солдат будет кланяться каждому выстрелу врага, бояться, что не преодолеет заграждения, он не сможет отбежать от своего окопа и на шаг. Значит, атака не состоится из-за недисциплинированности солдата. А если он устремится в атаку смело и победит врага или сам погибнет, о нем скажут: храбрый, дисциплинированный солдат. Так почему же летчика, который, стремясь вовремя доставить боеприпасы партизанам, решил взлететь во что бы то ни стало, но погиб при этом, почему мы должны признать его недисциплинированным? Если летчик при взлете начнет сомневаться: вдруг не взлечу, вдруг задену видимые за взлетной полосой деревья или здания, он вообще не взлетит, особенно на ограниченном по размеру аэродроме. Значит, боевой вылет не состоится. И не состоится он из-за недисциплинированности летчика.
Нет, – заключила Гризодубова, – Бибиков погиб как герой. Как солдат, который выполнил долг до конца.
Так же высказывались и летчики полка. Мы знали характер Бибикова и представляли его упорство при взлете к партизанам. Обледеневший самолет, подчиняясь законам аэродинамики, не отрывался от земли, а летчик, обладая сильной волей, думал: «Не может быть, чтобы моторы не вытянули».
Помнится, после полета через Ладожское озеро на бреющем, Жора Чернопятов сказал Гризодубовой:
– Силен полет. Если бы сдал хоть один мотор…
– Когда я перестану верить в надежность самолета и моторов, тут же брошу летать и пойду воевать с винтовкой, – ответила Валентина Степановна. – Вера в добротность советских самолетов помогает нашим летчикам проявлять чудеса храбрости.
Такая вот вера была и у Виталия Бибикова, – думали мы. Он сознавал, конечно, опасность, но до конца верил в свои силы и делал все, чтобы выйти победителем. Мы были уверены в этом потому, что видели: Бибиков не сбавил обороты моторам, надеясь благополучно взлететь, но пока шла борьба между законами физики и волей человека, самолет неожиданно зацепился крылом за здание…
Хоронили экипаж Бибикова с большими воинскими почестями. Проститься с боевым другом и товарищем по профессии прилетели из Внукова более 50 летчиков Гражданского воздушного флота. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1942 года Виталий Петрович Бибиков посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.
После гибели Бибикова летать к Медведеву и по другим особо длинным маршрутам поручено было Асавину. Самолет его был оборудован четырьмя дополнительными бензобаками и мог держаться в воздухе более 15 часов. Поэтому Асавин не нуждался в посадке в Смелиже для дозаправки бензином.
Ставя боевую задачу экипажу Асавина на полет в отряд знаменитых разведчиков, Гризодубова твердо знала, что летчик при неблагоприятной встрече с врагом уничтожит груз и письма, не доставит удовольствия фашистам ни допрашивать себя, ни читать важные документы, в которых разведчики сообщали секретные сведения о противнике.