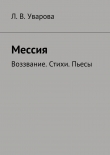Текст книги "На пороге Нового Завета"
Автор книги: Александр Мень
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
В присутствии Господнем все вопросы отпали сами собой. Выразить эту тайну оказалось не под силу даже такому великому поэту, как автор Книги Иова. Творение его прекрасно именно этой недосказанностью и целомудрием. Он не предложил новой теодицеи, но обрел радостное смирение в единении с Самим Сущим.
Невольно хочется, чтобы на этом и опустилась завеса, но автор завершает свою книгу эпилогом, который после речей Ягве выглядит довольно неожиданным. Казалось бы, Иов, признавший правоту Сущего, должен быть изображен неправым. Однако мы видим, что ропот не лишил его праведности в очах Божиих. Напротив, друзья его, как выясняется, "говорили не так верно". И Иов приносит за них жертву. Это может означать только одно: Богу неугодна успокоенность человека перед лицом страдания и несовершенства. Протест Иова рожден справедливым чувством, ибо человек, примирившийся со злом, даже из благочестивых побуждении, подавляет в себе святую жажду добра и совершенства, которая есть признак его богоподобия.
Вторая тема эпилога – воздаяние. Мы видим Иова вновь счастливым и утешенным. Стало быть, не все в убеждениях его друзей было ложным. Хотя Иов выше их в своем взыскании Бога и правды, но и их взгляды не совсем бессмысленны. Воздаяние – не автоматический закон, но и не ложная идея.
Кроме того, как иначе мог показать автор благоволение Ягве к Своему "служителю"? Ведь он остановился лишь у преддверия нового Откровения, и ему не суждено было сделать следующего шага. Для него все продолжало еще решаться по эту сторону жизни. Следовательно, кончить книгу по-другому он не мог. Вознаграждение Иова – единственный доступный автору признак правоты страдальца. И в этом есть свой особенный смысл.
Не случайно люди с такой радостью и удовлетворением узнают о свершившемся возмездии, победе или награде. Это чувство коренится не в природном уровне человека, но есть законное требование его духа.
Книга Иова не отрицает Божией справедливости; она лишь показывает, что не все объясняется только воздаянием. В этом ее огромное значение в истории Ветхого Завета. Она была создана на том перевале мысли, где старое богословие переживало трагический кризис.
Но Израиль ожидало еще одно испытание. Он должен был переоценить свое укоренившееся отношение к земным благам. Ведь Иов, сидя на гноище, вспоминал о прошлом как о потерянном рае. А был ли то действительно рай, то есть высшее благо для человека?
Кроме того, люди могли утверждать, что судьба Иова – только частный случай. Не одни же страдальцы живут на свете!
Есть ведь немало и тех, кому всегда сопутствует благоденствие. Это ли не предел человеческих желаний?
И вот прежде, чем открылись иные духовные горизонты, Израилю предстояло познать всю тщету его земных иллюзий.
ПРИМЕЧАНИЯ
Глава двенадцатая
У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
1. Известный французский библеист Альбер Желен подчеркивает, что этой концепцией о тесном единстве души (нефеш) и плоти (басар) Ветхий Завет близок к современному пониманию человека. Для платонизма единственной подлинной ценностью был дух, а плоть рассматривалась, в согласии с орфической традицией, как гроб или тюрьма. Христианство испытало на себе это влияние. Но в своей подлинной изначальности оно также мыслило человека единым и поэтому учило не столько о бессмертии души, сколько о воскресении мертвых. См.: А. Gelin.Тhе Concept of Man in the Bible. London, 1968, р. 13-15, а также нашу книгу "У врат Молчания", Приложения.
2 . О развитии идеи воздаяния в Ветхом Завете см . Е. Galbiat. А. Рiazzа.Mieux comprendre la Bible, 1956, p. 250-274; M. Buber.The Prophetic Faith. New York, 1960, p. 187 ff.
3. См., напр. , очерк М. Рижского (Проблема теодицеи в Ветхом Завете, с. 26), где эта мысль, однако, проводится с известной осторожностью.
4 .См.: W. Ваrret. Irrational Man. New York, 1962, р. 74 ff.
5. Слово Гоэл – от глагола гаал – означает в других книгах Библии того, кто защищает, мстит, избавляет и выкупает (напр., Втор 19, 6). В Септуагинте это место переведено так "Я знаю, что вечен Тот, Кто должен меня освободить и воскресить на земле кожу мою, терпящую все это". Латинский перевод (Вульгата) дает такой вариант "Я знаю, что Искупитель мой жив и что в последний день я воскресну на земле и снова облекусь моей кожей". Масоретский (еврейский) текст буквально может быть переведен так "И я знаю Заступник (защитник) мой жив и в конце над прахом (ал-афар, т. е. над "пепелищем", среди которого сидел Иов, – бтох-хаафар), встанет, и после (распадения?) кожи моей спадет это, и из плоти моей увижу Бога". Часть фразы, в которой упомянута кожа, остается неясной, возможно по вине переписчиков. Но общий смысл места, по-видимому, сводится к уверенности Иова, что он будет еще жив, когда узрит Бога. Упоминание о коже, быть может, связано с болезнью Иова. Есть и другое, но более спорное толкование. Иов надеется постигнуть пути Божии после смерти. См.: D. Ваrthelemy. Dieu et son image, 1963, р. 37.
6. Речи Элиу (в синодальном пер. Елиуй), о котором не говорится ни в прологе, ни в эпилоге (Иов 42, 7-9), отличаются по языку (в них больше арамеизмов) и стилю от других частей книги. Кроме того, они разбивают последовательность действия. Это привело библеистов к выводу, что Элиу вставной эпизод, добавленный позднее. См.: R. А. Масkensiе. Job. – JВС, I, р. 528,529.
7. Иов 3, 8; 7,12,9,13; 26,13. О смысле этих образов см. нашу книгу "Магизм и Единобожие".
8. Из христианских мыслителей нашего времени об этом ярче и проникновеннее других писал Н. Бердяев. По его словам, "таинственность свободы выражается в том, что она творит новую, лучшую жизнь и она же порождает зло, т. е. обладает способностью самоистребления. Свобода хочет бесконечной свободы, творческого полета в бесконечность, но она же может захотеть и рабства". (Н. Бердяев. Опыт эсхатологической метафизики. Париж, 1947, с. 139).
9. Прежние толкователи пытались поставить эти два создания в один ряд с животными, описанными в предыдущих стихах речи Ягве. Но там живые существа представлены реалистично, с полным знанием их облика и образа жизни. Бегемот же и Левиафан (в которых пытались увидеть гиппопотама и крокодила) образы, явно относящиеся к восточной мифологии (ср.: I Енох 60, 7, 8; 3 Езд 6, 49-52; Ап. Бар 29, 4; Бава-Батра, 74в). Они принадлежат к тому же разряду существ, что и дракон Рахав. Бегемот – это "начало (решит) путей Божиих" (40, 14), а Левиафан "царь над всеми сынами гордыни" (41, 26). Иными словами, здесь можно видеть некий собирательный образ твари, которая идет своими путями, не повинуясь Богу, но над которой Его власть по-прежнему сохраняется.
Глава тринадцатая
ЭККЛЕЗИАСТ
Я за былую жажду тщетных благ
Казню себя, поняв в итоге,
Что радости мирские – краткий сон.
Ф. Петрарка
Иудея, ок. 350 г. до н.э.
Если Книга Иова близка по духу к античным трагедиям, то Экклезиаст можно считать ветхозаветной параллелью к произведениям стоиков и эпикурейцев. Некоторые авторы даже думали, что эта книга, столь непохожая на другие части Библии, была создана под непосредственным греческим влиянием. На самом же деле Экклезиаст – чисто восточное творение, а сходство его идей с западной философией легко объяснить и без гипотезы прямого заимствования. Если уж говорить об источниках, которые питали воззрения автора книги, то их следует искать в сумрачной вавилонской мудрости (1).
Впрочем, Экклезиаст интересен не чужими идеями, которые могли отразиться в нем, а тем, что он представляет собой род внутренней автобиографии писателя, исповедь живой души. Однако, в отличие от Августина, Руссо или Толстого, автор не стремился создать о себе связный рассказ, а располагал без всякой системы заметки и стихи, в которых делился с читателями своими наблюдениями, выводами и раздумьями. Многие из его афоризмов превратились потом в пословицы.
Экклезиаст полон противоречий: у него есть мотивы, напоминающие Омара Хайяма, Вольтера и Фому Кемпийского. Автор не заботился о том, чтобы придать своей философии четкую и стройную форму. Тем не менее Экклезиасту присуща цельность и органическое единство: это духовный портрет одного человека.
Как и все мудрецы иудейства, автор книги скрыл свое имя. Он называет себя Кохелет (что по-гречески перевели как Экклезиаст). Точный смысл этого слова не выяснен, но, по-видимому, оно означает человека, говорящего в собрании, Проповедника (2). Вероятно, мудрец имел свой кружок последователей, которые и сохранили для потомства его шедевр. Кохелет пользовался среди них большим уважением, о чем свидетельствуют заключительные строки книги, принадлежащие одному из его учеников: "А сверх того, что был Проповедник мудр, он еще учил народ знанию, и взвешивал, и исследовал, и складывал многие притчи. Искал Проповедник, как найти слова дельные и написанные верно, слова правды"(3).
Тот, от лица кого ведется речь в книге, назван "сыном Давида, царем в Иерусалиме". В старину большинство читателей понимало это буквально. Однако сам писатель все время дает понять, что Соломоново авторство в данном случае – условный прием. Кохелет ссылается на царей иерусалимских, "которые были до него", в то время как исторический Соломон был лишь вторым – после Давида. Часто он выражается так, как вряд ли мог говорить Соломон или любой другой царь. Его выпады против монархов и обвинения в адрес угнетателей едва ли можно приписать деспотичному Соломону или любой другой коронованной особе.
Быть может, автор Экклезиаста действительно вел свой род от Давида; во всяком случае, он принадлежал к богатой аристократической среде. Это начитанный, светски образованный человек, дни которого проходили в обстановке благополучия. Экклезиаст написан им, вероятно, на склоне лет. Книга была итогом долгой, богатой опытом жизни. Некоторые историки полагают, чго Кохелет был иерусалимским правителем. По их мнению, столь рискованные мысли едва ли мог невозбранно проповедовать человек без прочного положения в обществе.
Язык поэмы указывает на поздний период иудейской истории, что побуждало многих исследователей Библии относить Экклезиаст чуть ли не ко времени Ирода. Но теперь, когда найдены списки книги, относящиеся ко II веку до н. э., стало очевидно, что позже III столетия она появиться не могла (4). В Экклезиасте нигде нет намеков на греческое господство. Картина страны, которая дана в нем, больше соответствует последним десятилетиям IV века до н.э., то есть концу персидского правления в Палестине(5).
По всем признакам Проповедник был жителем Иерусалима. Он упоминает о Храме и жертвах как о чем-то повседневном. Мнение тех, кто считал его человеком диаспоры, едва ли справедливо(6).
Но не был ли Проповедник одним из тех эллинизированных иудеев, которые, охладев к вере отцов, пленились греческой философией? Это сомнительно уже в силу того, что книга его вошла в Библию. Эллинофилы считались нечестивцами, и трудно поверить, чтобы книга одного из них стала пользоваться таким авторитетом. Сходство взглядов Кохелета со стоицизмом и эпикурейством не доказывает, как мы говорили, заимствования или подражания. В то время подобные идеи носились в воздухе.
Книга Иова свидетельствует о брожении умов и жарких спорах, волновавших Израиль, когда мыслящие люди пытались найти разрешение жгучих жизненных проблем, избегая ссылок на Закон и Св. Историю. В напряженной духовной борьбе сталкивались самые противоположные точки зрения. Но даже и на этом фоне свободных дискуссий Экклезиаст мог показаться книгой вызывающей. Не только отдельные взгляды, но все миросозерцание Кохелета удалялось от исконной библейской традиции, а тому, что он сохранил из нее, он придал совершенно иное звучание.
В лице Проповедника иудейская мысль как бы отреклась от самого заветного и дорогого – от веры в возможность Союза с Богом и поступательную историю Откровения. Кохелет, обратившись к опыту других культур, рискнул сойти с многовековой дороги Израиля. Он принял главную идею языческой метафизики о цикличном движении Вселенной. Как человек, сделавший удручающее открытие и смотрящий правде в глаза, говорит он об этом в прологе своей книги (Экклезиаст цитируется (с некоторыми изменениями) по пер. И. Дьяконова):
Род уходит, и род приходит, а Земля остается навек.
Восходит солнце, и заходит солнце, и на место свое поспешает,
Чтобы опять взойти;
Бежит на юг и кружит на север,
Кружит, кружит на бегу своем ветер,
И на круг свой возвращается ветер;
Бегут все реки в море, – а море не переполняется,
К месту, куда реки бегут,
Туда они продолжают бежать;
Все-одна маета, и никто рассказать не умеет,
Глядят – не пресытятся очи, слушают – не переполнятся уши.
Что было, то и будет, и что творилось, то творится,
И нет ничего нового под солнцем.
Бывает, скажут о чем-то: смотри, это новость!
А это уже было в веках, что прошли до нас.
Еккл 1,4-10*
–
* Экклезиаст цитируется (с некоторыми изменениями) по переводу И. Дьяконова
Охваченный каким-то жестоким наслаждением, вглядывается поэт в картину вечного круговорота. Кажется, что он забыл все, чему учили и о чем возвещали пророки Израиля. Космос Экклезиаста – халдейский или даже индийский; под приведенными строками подписались бы и Гераклит, и Зенон. Это – мироздание, которое созерцает человек, лишенный света Откровения...
Насколько же сильно была потрясена душа ветхозаветного человека, если он принял столь чуждый ему мир! В этом мире жизнь теряет смысл и значение. Подобно Феогниду и другим греческим поэтам, Кохелет готов даже смерть счесть лучшим уделом:
И прославил я мертвых, – что умерли давно,
Более, чем живых, – что живут поныне,
Но больше, чем тем и другим, благо тому, кто совсем не жил.
Еккл 4,2-3
Отчаяние, которое, как на гребне волны, вынесло Иова к вершинам Богопознания, Экклезиаста заставляет остаться на дне пропасти в бессильной покорности перед судьбой. Такого Израиль еще не знал; слушать Проповедника было для него тяжким искушением.
Кохелет – человек, который, в отличие от Иова, всегда был огражден от невзгод. Но это не сделало его более оптимистичным. По природе отзывчивый и чуткий, он не мог спокойно смотреть на тяжкую жизнь людей. Однако при этом он был уверен, что радикально помочь им невозможно.
Главное, что отличает этику Экклезиаста от этики пророков, это ослабление уз между религией и нравственностью. Пророки черпали в вере силу для проповеди действенного добра. Человечность и вера были для них неотделимы. Кохелет же этой связи столь ясно не ощущает.
У него, зараженного языческим пессимизмом, нет вдохновения, даруемого верой, и ему остается рассчитывать лишь на обычные земные радости.
Но именно тут Кохелет терпит самое жестокое поражение! Все, что манило и соблазняло его, на поверку оказалось "суетой". Хевел, "суета", буквально означает дым, ничтожество, нечто пустое и мимолетное, а "Суета сует", хавел-хавалим, – высшую степень тщеты.
Человек гоняется за счастьем, благами, "пользой". Эта цель выражена еврейским словом итрон. Но как раз итрон – то, чего невозможно достигнуть:
Что пользы человеку от всех его трудов,
Над чем он трудится под солнцем?
Еккл 1,3
Но если итрон – призрачная греза, нельзя ли обрести хотя бы тов, то есть временные блага?
Кохелет последовательно подвергает испытанию все доступные человеку наслаждения. Ведь недаром он "богаче всех, бывших до него в Иерусалиме".
Я сказал себе "дай испытаю весельем,
Познакомься с благом"
Но вот это тоже тщета
О смехе промолвил я "вздор"
И о веселии "что оно творит?"
Еккл 2,1-2
Воображение людей всегда влекут картины роскощи и удовольствий. Кохелет был в состоянии проверить, каковы эти приманки на деле. Он построил себе прекрасные дома, насадил виноградники, цветники, сады, среди которых журчали фонтаны. Он накупил рабов и наложниц, окружил себя певцами и певицами. Глаза его день и ночь радовали сокровища.
Ни в чем, что очи мои просили, я не отказывал им,
Ни от какой я радости не удерживал сердце.
Но оглянулся я на дела, что сделали мои руки,
И на труды, над которыми трудился,
И вот, все суета и погоня за ветром.
Еккл 2,10-11
Этот мрачный припев о суетности лейтмотивом проходит через всю книгу Кохелета. Куда бы ни обращал он свой взор, повсюду видел он одно и то же: желанное улетучивается как дым...
Не случайно Толстой так часто цитирует Экклезиаста в своей "Исповеди". Он сам прошел путь, проделанный иудейским философом, и в конце его неотвратимо встал роковой вопрос: "А что же дальше?" Такова природа человека, он не способен довольствоваться преходящим и жаждет чего-то безмерно большего.
Кохелет пытается найти прибежище в умозрении. Не заключен ли секрет итрона в прославленной мудрости хакамов? Увы, и здесь результат опыта отрицательный. Разум открывает лишь несовершенство мира.
Вот я мудрость свою умножил более всех,
Кто был до меня над Иерусалимом,
И много видело сердце мое и мудрости, и знанья ...
Я узнал, что и это грустное томленье,
Ибо от многой мудрости много скорби,
И умножающий знанье умножает печаль.
Еккл 1,16 сл
Эти слова напоминают сетования Фауста, однако неудовлетворенность Экклезиаста более глубокая. Герой Гете, увидевший на закате дней бесплодность своих знаний, находит в конце концов радость в созидании на благо людей; иерусалимского же пессимиста это не спасает; и не просто потому, что он слишком занят самим собой. Кохелет знает, что человек должен "делать благое" (3,12), но удовлетворение, даруемое грудом, оказываетсся в его глазах лишь субъективным утешением на фоне общего плачевного состояния мира.
Подобно рабу из знаменитого вавилонского диалога (См. том 2 "Магизм и Единобожие"), Кохелет повсюду открывает червоточину, теневую сторону. Не верит он и тем. кто убежден, будто в прежние времена люди жили лучше. Свидетельства древних говорят против этого. Всегда были насилие и вражда, продажные суды и бесправие. Всегда "властвует человек над человеком". От века неизбывен гнет царей; восставать же против них бесполезно: даже сказанное без свидетелей дурное слово о монархе дойдет до его ушей, птица перенесет его.
А кто восседает на тронах? Кто правит народами и областями? Только ли мудрые и великодушные? Напротив:
Поставлена глупость на высокие посты,
А достойные внизу пребывают.
Видел я рабов на конях
И князей, шагавших пешком, как рабы.
Еккл 10,6-7
Людей выносит наверх отнюдь не разум или доблести, а "срок и случай". Да и вообще достойных людей – меньшинство. Из тысячи мужей таков лишь один, а из женщин нет ни одной.
Словом, ничто в этом мире не может утешить разумного человека, ибо он неизменно убеждается, что кругом-только суета, глупость и зло. И даже героев не спасут от забвения их подвиги и заслуги.
Ибо вместе с глупцом и о мудром вовек не вспомнят,
Потому что в грядущие дни все будет давно забыто.
Еккл 2,16
Таков неутешительный итог исследований Кохелета: он развенчал все утопии, все надежды и идеалы отцов. Таков он сам – новый Иов, над которым не разразилась беда, Иов, который, утопая в роскоши, стал нигилистом, Иов, который лишился веры:
И возненавидел я жизнь,
Ибо злом показалось мне то, что делается под солнцем,
Ибо все – суета и погоня за ветром.
Еккл 2,17
Это, впрочем, не означает, что Экклезиаст – атеистическая книга. Просто Бог для Проповедника – Некто, бесконечно далекий и почти не связанный с человеком. В отличие от богов Эпикура, Он – Творец мира, но по отношению к смертным выступает скорее как непонятная, роковая сила.
Представление иудеев о том, что Сущий – все, а человек ничто, приняло в Экклезиасте крайнюю холодно-жестокую форму. И если Проповедник говорит: "Помни о Создателе своем с юных дней", – то это напоминание вовсе не окрыляет. Бог Кохелета кажется равнодушным к миру, которому Он предоставил кружиться по предписанным законам без всякой цели. Он абстрактнее Бога стоиков, и тем более – Бога Откровения. Неизвестно даже, желает ли Он блага Своим творениям.
Когда в книге говорится о чем-либо, что это "дано Богом", в интонации автора нет ни настоящего благоговения, ни благодарности. Мудрец лишь констатирует прискорбный факт зависимости человека Люди слепы, и у них нет шансов прозреть.
Когда склонил я сердце – мудрость познать,
И увидеть заботу, что создана под солнцем,
То увидел я все дела Божии.
И не может человек найти суть дела ..
Сколько бы ни трудился человек – не найдет.
Человек не знает, что предстоит
Любовь или ненависть? Все возможно.
Еккл 8,16
Неизвестно, зачем вообще Творец дал человеку разум. Все равно жизнь его тускла, а любые усилия напрасны. Он ограниченное и жалкое существо. С горькой иронией Кохелет заявляет:
Я понял задачу, которую Бог дал решать сынам человеческим:
Все Он сделал прекрасным в свой срок,
Даже вечность вложил им в сердце,
Но чтоб дела, творимые Богом,
От начала и до конца не мог постичь человек.
Еккл 3,10-11
"Вечность" (олам), которая вложена в смертных, побуждает их искать подлинного совершенства, правды и гармонии, но они ничего не найдут и ничего не поймут. Даже тогда, когда человек надеется, что есть какой-то нравственный миропорядок, он ошибается. Ведь каждому ясно, что его судьба не всегда зависит от его поступков. Нет настоящей награды добрым, да и сама награда в этом мире что она, как не суета сует?
Все дороги ведут лишь в могилу. И не хочет ли этим Творец показать людям, что они "скоты и только"? Пока человек жив, его окружают миражи, а после смерти – пустота:
Ибо участь сынов человеческих и скота одна,
Как тем умирать, так и этим,
И одно дыхание у всех,
И не лучше скота человек
Ибо все – тщета.
Все туда же уходит,
Все из праха, и все возвратится в прах,
Кто знает, что дух человеческий возносится ввысь,
А дух скота – тот вниз уходит, в землю?
Еккл 3,19-21
Правда, в другом месте Кохелет говорит, что дух, или дыхание, умершего "возвращается к Богу, Который дал его"; но это не исповедание веры в бессмертие. Мудрец лишь хочет сказать, что жизнь человека поддерживает некая таинственная сила, руах, а когда душа, нефеш, отделяется от тела, эта сила, связующая их, улетучивается и возвращается в горний мир, откуда пришла (7).
Едва ли во всей пессимистической литературе найдется книга с таким безысходным мирочувствием, как Экклезиаст. Участь смертных Кохелет рисует самыми зловещими красками. Человек, познавший все блага жизни, – он с тем большим отвращением говорит о них. Этим он напоминает Будду, а его оценка мира напоминает буддийскую. Но, в отличие от большинства мироотрицателей, Проповедник не ищет выхода. Ренан метко назвал его Шопенгауэром, обретшим внутреннюю успокоенность. В самом деле, этот "еврейский Эпикур" не бунтует и не возмущается: в конце концов он готов принять жизнь такой, какой она ему рисуется. Он не обвиняет ни Бога, ни Вселенную, а просто советует своим ученикам, как найти в этом царстве суеты и бессмыслицы островок мирной жизни.
Нужно, по его мнению, помнить о нелепости всех упований и ценить малое. Смерть неминуема, жизнь тосклива, но все же "живой собаке лучше, чем мертвому льву". И раз уж мы живые существа – воспользуемся тем немногим, что имеем.
Я узнал, что нет иного блага человеку,
Кроме как есть, пить и делать благое в жизни.
Но даже если кто ест, и пьет, и видит благое в труде,
То это Божий дар.
Я узнал: все, что Бог творит,– это будет вовек;
Нельзя ничего прибавить, и нельзя ничего убавить.
Еккл 3,12-14
Хорошо уже и то, что Всемогущий уделил хоть какую-то толику блага этому эфемерному творению – человеку. Разумно оценить свое скромное место в мире таков принцип Кохелета, напоминающий девиз Эпикура и Вольтера.
Пусть все вокруг суетно – будем, помня об этом, ловить мгновенную радость и не обольщать себя призраками. Кохелет повторяет слова вавилонского поэта:
Во всякое время да будут белы твои одежды,
И пусть не оскудевает на главе твоей умащение;
Наслаждайся жизнью с женщиной, которую любишь,
Во все дни твоей тщетной жизни...
Ибо это твоя доля в жизни и в твоих трудах (8).
Так должен проходить мудрец краткое свое поприще, принимая дар Божий без лишних раздумий...
До поры, как затмится солнце,
И свет, и луна, и звезды...
И запрутся на улицу двери,
И затихнет звук жерновов,
И еле слышен станет голос птиц,
И поющие девушки примолкнут...
Ибо уходит человек в свой вечный дом,
И наемные плакальщики на улице кружат;
До поры, как порвется серебряный шнур,
И расколется золотая чаша,
И разобьется кувшин у ключа,
И сломается ворот у колодца.
И прах возвратится в землю, которой он был,
И возвратится дыхание к Богу, Который дал его.
Еккл 12, 2 сл.
Этими меланхолическими стихами, звучащими как траурный колокол, и заканчивается Экклезиаст. В заключение к нему прибавлено несколько благочестивых строк. Их написал человек, вероятно желавший смягчить тягостное впечатление, которое книга могла произвести на читателя (9).
И в самом деле, творение Кохелета должно было смущать людей и вызывать недоумение. Мало того, что Проповедник изобразил человека и Бога так, что набожным людям его книга казалась кощунством, но даже гедонистов он способен был привести в отчаяние. Тезис: живи и пользуйся тем, что тебе доступно, в конечном счете сводился на нет уничтожающей оценкой самих земных благ. А здесь спорить с Кохелетом было трудно. Правота мудреца оказывалась слишком очевидной.
Так, без пафоса, спокойным, беспристрастным анализом подрывал Проповедник все опоры, оставляя людям лишь жалкое подобие надежды. Ведь именно благополучие в этой жизни считалось обещанной Богом наградой. Но если этот единственный дар отравлен – к чему он?
Кажется на первый взгляд непостижимым, как могла подобная книга попасть в Библию. Известно, что учители иудейства много спорили, прежде чем решились дать ей место рядом с творениями мудрецов, Пророками и Законом (10). Тем не менее они это сделали, и в их смелом решении проявилась глубокая мудрость ветхозаветной Церкви.
Экклезиаст, если брать его в отрыве от всего Писания, выглядит прямо-таки антиподом библейской веры и надежды. Но совсем в ином свете предстанет он, если рассматривать его в органическом контексте Ветхого Завета как целого (11). Только так мы сможем оценить его важную роль и значение в истории народа Божия и во внутренней динамике отдельной души.
Иерусалимский философ поднес людям чашу с горьким напитком, но то был напиток исцеляющий. Уверенность в том, что высшее благо ограничено земными пределами, была преградой на пути израильской религии. Кохелет разрушил это препятствие. Его трезвый пессимизм верно отобразил картину падшего мира и стал переходной фазой, диалектическим моментом в становлении веры. Он и поныне стоит как страж перед каждым человеком, если тот удаляегся от Запредельного, погружаясь в суету.
Ценность воды по-настоящему познается в пустыне, жажда вечности пробуждается, когда человек отдает себе отчет в мимолетности земного. В этом заключается великий смысл отрицательного опыта Экклезиаста.
Но какой живительный источник могли найти люди в пустыне, куда привел их Кохелет?
Поскольку становилось бесспорным, что преходящее не содержит в себе истинного блага, невольно являлась мысль, что выход можно найти только в аскезе, отрешенности, поисках совершенства за пределами зримого мира. В этом направлении еще раньше пошла индийская и частично греческая мысль. Характерно, что и христианские подвижники высоко ценили Экклезиаста, видя в книге осуждение суеты во имя вечного и нетленного.
Однако этот путь был пока закрыт для библейского сознания. Там, где Слову предначертано было стать плотью, мироотрицающая духовность не могла занять центрального положения. Уход в сферы чистого духа явился бы угрозой и соблазном для богочеловеческой религии. Пусть мир сей и обнаружил свою ограниченность и бренность – не в отказе от него, а в чем-то другом должна была раскрыться Израилю грядущая полнота творения.
ПРИМЕЧАНИЯ
Глава тринадцатая
ЭККЛЕЗИАСТ
1. В Экклезиасте есть строки, почти дословно повторяющие слова египетских поэтов. Но больше всего в нем совпадений с эпосом о Гильгамеше и другими вавилонскими произведениями. См.: В. Тарн. Эллинистическая цивилизация, с. 210. О параллелях Экклезиаста и греческой литературы и о значении их см.: А. Н. Мс Neile. An Introduction to Ecclesiastes. Cambridge, 1904, p. 39; M. Hengel. Judentum und Hellenismus. Tubingen, 1969, S. 210.
2. Слово "кохелет" есть причастие, образованное от слова кахал община, собрание (по-гречески экклесия). "Мы можем,– замечает бл. Иероним, перевести это словом проповедник, потому что он говорит к народу и речь его обращается не к одному лицу в частности, а ко всем вообще" (бл. Иероним. Творения, т. 6, с. 2).
3. Еккл 12, 9.
4. Рукопись Экклезиаста, найденная в 4-й Кумранской пещере, датируется временем между 175-150 гг. до н. э. См. : И.Амусин. Рукописи Мертвого моря. М., 1960, с. 86.
5. В XIX веке одну из последних попыток отстоять Соломоново авторство предпринял еп. Филарет (Филаретов) в работе "Происхождение книги "Экклезиаст" (Киев, 1885) Но более поздние исследователи отнесли книгу к послепленному периоду. Среди них укажем на известного богослова В. Мышцына (ТБ, т. V, с. 4-5). Обобщение взглядов современной библеистики по вопросу об Экклезиасте см.: R. Миrphy. Ессlesiastes. – JВС, I, р 534.
6. В стихе I гл. 11 видели намек на Александрию, однако упоминание "святого места" (8, 10) и "Дома Божия" (4, 17) доказывает, что автор жил в Иудее. См.: А.Н. Аn Introduction to Ecclesiastes, р. 9.
7. О Руах как о силе, связующей душу и тело, см.: А. Gelin. Тhе Concept of the Man in the Bible, р. 17.
8. Это место – почти дословное воспроизведение строк из поэмы о Гильгамеше (IV, VI, 6). Она была хорошо известна иудеям; фрагмент ее был недавно найден в Мегиддо.
9. Еккл 12, 9 – 14. Этот эпилог и по стилю, и по духу отличен от основного текста Экклезиаста. К тому же он говорит о Проповеднике в третьем лице, как о человеке уже умершем.
10. Мишна. Ядаим, III, 5. О спорах вокруг каноничности Кохелета среди раввинов см.: См.:
Ch. H. Wright. The Book of Kohelet. London, 1883, р. 451-469.
11. См.: N. Lofink. Science biblique en marche. Tournai, 1969, р. 171.