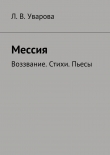Текст книги "На пороге Нового Завета"
Автор книги: Александр Мень
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Часть III
МУДРЕЦЫ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Глава десятая
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ И ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ
Две вещи всегда изумляют меня:
звездное небо надо мной
и нравственный закон во мне!
И. Кант
Иерусалим, 420-400 гг. до н. э.
Мы расстались с Иерусалимом в тот момент, когда властная рука Эзры повернула корабль Израиля на путь строгого следования Закону (См. том. 5, глава XXII). Отныне слово "иудей", подобно слову "эллин", стало приобретать расширительный смысл, означая принадлежность не столько к нации, сколько к Общине, жизнь которой всецело определяется велениями Торы. Кроме того, ветхозаветная Церковь уже не ограничивалась пределами Палестины" хотя роль метрополии в религиозной жизни по-прежнему оставалась ведущей.
Что же происходило с иерусалимской Общиной после Эзры и Нехемии?
Ответить на этот вопрос нелегко; два с половиной века, прошедшие после реформы, скрыты от нас почти непроницаемой завесой. Библия фактически ничего не говорит о событиях того времени; летописи, памятники и документы не сохранились. Уже Иосиф Флавий мог рассказать об интересующей нас эпохе мало достоверного.
Ясно одно: период владычества персов (538-333) протекал в Иудее сравнительно спокойно. Сатрапы редко вмешивались во внутренние дела Общины, довольствуясь сбором податей (1). Народ постепенно оправлялся после невзгод, терзавших страну. Укреплялась связь между Иерусалимом и диаспорой единоверцами, жившими в Вавилоне, Сирии и Египте.
Иудейство получило наконец те условия, в которых оно могло сосредоточиться на духовных проблемах. Священная поэзия переживает в эти века настоящий расцвет. Ее направление и тематика показывают, что политические дела отступили для израильтян на второй план. Книги Библии, написанные между 400 и 200 годами, говорят о напряженной духовной жизни: спорах, исканиях и новых поворотах религиозной мысли. Притчи, Иов, апокалиптические писания, Экклезиаст подобны пикам подводного хребта, подножие которого скрыто в глубинах вод. По ним мы можем хотя бы отчасти судить о том, чем жил тогда Израиль.
Для преемников Эзры альфой и омегой оставалась Тора, в которой они находили мировоззрение и храмовый устав, основы этики и обряды, воцерковляющие все стороны повседневной жизни. "Моисеев Закон" тщательно изучали и толковали; его рассматривали как наиболее древнее и совершенное выражение Слова Божия. "Галаха" – пояснения к Законупреподавалась в особых школах, возникших впервые, вероятно, еще при Эзре.
Как гласит предание, эти училища находились в ведении Кнесет ха-Гедола, Великой Синагоги, или Великого Собора. В него входили старейшины, знатоки Торы, которых считали авторитетными хранителями и комментаторами Предания. Им впоследствии поручили и составление первого канона библейских книг, в том числе пророческих(2).
Кнесет, в отличие от позднейшего Синедриона, был не политическим, а в первую очередь церковным учреждением; главной заботой его являлся Закон Господень. Административная же власть находилась в руках первосвященника, подчиненного персидскому губернатору(3). Первосвященники не были обязательными членами Собора, хотя некоторые из них, особо почитаемые, входили в него.
В основу своей деятельности "Мужи Великого Собора" положили три правила, зафиксированных впоследствии в Талмуде:
Будьте осторожны в суждениях,
Поставляйте больше учеников
И делайте ограду Торе(4).
Смысл этих изречений, невзирая на их лапидарность, ясен. Толкование Закона требует большой осмотрительности; "ученики" – это те, кто целиком посвящает себя изучению Закона, а слова об "ограде" предостерегают против чуждых влияний. Под "Торой" в данном контексте скорее всего подразумевалось не только Пятикнижие, но и весь свод наставлений, входивших в устную традицию ветхозаветной Церкви(5).
Этим и исчерпываются наши сведения о Великом Соборе. Однако хотя о нем известно мало, роль его, по-видимому, была
велика. Упроченное Собором законничество стало одним из краеугольных камней позднего иудаизма.
Впрочем, в персидский период блюстители Торы еще не пользовались безраздельной властью в духовной жизни Общины. Среди соферов, книжных людей, были и другие группы, столь же влиятельные. Да и вообще ветхозаветная религия никогда не останавливалась в своем развитии, постоянно порождая различные направления.
Уже в первое столетие после плена законники столкнулись с оппозицией в лице мудрецов, хакамов (От слова хокма – мудрость), наследников царских летописцев и собирателей фольклора. В кругах, близких к ним, были написаны книги об Ионе и Руфи, авторы которых вдохновлялись универсализмом пророков.
Мудрецы не выступали против Торы, устной и письменной, но они решительно отказывались примириться с узким пониманием ее принципов. Подобно Сократу, хакамы, хотя и уважали традицию, однако побуждали людей по-новому взглянуть на себя и свои убеждения.
Авторитет мудрецов не уступал авторитету законников. Примечательно, что, если от трудов Мужей Собора не осталось ничего, кроме приведенных трех изречений, писания хакамов бережно хранились и часть их была включена в Библию. Это служит косвенным доказательством того, что два главных направления иудаизма тех времен не находились в прямой вражде. У них было много общего, и они дорожили этим. Став выше распрей, мудрецы спокойно делали свое дело: собирали древние притчи, слагали псалмы и поэмы, составляли антологии. Для них важнее всего было не опровергать кого-то, а делиться с людьми своими думами о человеческой жизни и ее путях.
Своим патроном хакамы считали Соломона, ибо при нем (по египетскому образцу) впервые была создана корпорация писцов-соферов. Это сословие пережило и раскол царства, и монархию, и плен, но в память о славном прошлом оно по-прежнему любило называть свои писания Соломоновыми. Под этим названием они и вошли в Библию (Притчи, Песнь Песней, Экклезиаст, Премудрость).
Ветхозаветная Церковь, а за ней и новозаветная признали, что в этих книгах запечатлено то же божественное Откровение, что и в Торе и у Пророков. Этим утверждалось, что Слово Господне может быть дано людям в самых различных формах.
У хакамов редко говорится о видениях, таинственных зовах и повелениях возвещать людям волю Творца. Нет в их книгах слов: "Так говорит Господь", столь характерных для Закона и Пророков. На мистиков или провидцев хакамы вообще походили очень мало. Светские люди, не связанные ни с Храмом, ни со школами Торы, они ориентировались на повседневный общечеловеческий опыт. У них почти нигде не упоминается Моисей, их мало волнует священная история избранного народа и его мессианские чаяния. Даже само слово "Израиль" отсутствует в большинстве их книг. Хакамы не только защищают другие народы от нападок законников, как, например, автор Книги Ионы, но делают героями своих произведений неизраильтян. Языческих соблазнов они больше не боятся, ибо в те дни вера Израиля стояла уже незыблемо. Это позволяло хакамам без опасения изучать литературу Востока. У них можно найти идеи, сходные со взглядами писателей Египта, Вавилона, Персии, даже – прямые цитаты из их книг(6).
Подобная открытость миру вытекала из главной установки хакамов – начать как бы все заново, отрешась от исторической традиции, и рассматривать человека как такового, в его первозданности, стоящего перед лицом жизни, смерти и Вечности. Именно поэтому они не хотели ссылаться на Тору и обетования и предпочитали говорить об обыкновенных людях и обычных жизненных перипетиях.
Пророк сознавал себя посланником Божиим, хакам же говорил от своего лица, не претендуя на особое ясновидение. Ему казалось поэтому вполне уместным размышлять над загадками бытия, повествуя об идумее Иове или приводя выдержки из халдейских поэтов.
Хокма, мудрость, играла в Израиле ту же роль, что философия у греков. Согласно Книге Царств, Соломон – родоначальник хакамов – говорил "о деревьях, от кедра ливанского до куста, растущего из стены, говорил о зверях, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах"(7). Но главным для еврейских мудрецов было не естествознание, а отыскание секрета счастливой жизни. В этом они стали предшественниками эллинистических философов. Они считали, что "мудрость" извлекается прежде всего из самой жизни, из ее конкретных обстоятельств и проявлений. Вот почему и стиль их литературы ничем не напоминает стиль научных трактатов. Иудейские философы предпочитали язык поэтов, безымянную мудрость многих поколений с ее живыми образами и меткими поговорками.
Как мы уже знаем, еще до плена книжники любили собирать пословицы, загадки и афоризмы. В эпоху же Великого Собора один из хакамов соединил несколько таких сборников, предварив их своим вступлением. Так возникла Книга Притч Соломоновых. Пролог ее охватывает первые девять глав книги и как бы подводит итог всем предшествовавшим этапам в истории хокмической мысли(8).
Один современный писатель заметил – когда переходишь от чтения Пророков к Притчам, кажется, будто спускаешься с неба на землю. И в самом деле, эта книга содержит главным образом мысли о семейной жизни и воспитании детей, занятиях горожан и земледельцев, о дружбе и честности, бедности и богатстве, трудолюбии и праздности.
Богослов IV века Феодор Мопсуестский полагал даже, что Притчи как плод только человеческого разума не должны быть включены в Писание (9). Однако Церковь судила иначе, и на это были основания. За житейскими сентенциями книги стоит нечто гораздо большее, чем кажется на первый взгляд. На примере Притч мы видим, как Откровение, не ломая естественного хода человеческой мысли, медленно проникает в ее недра и в конце концов приводит к познанию воли Творца. Хакамы начинают с того, что указывают ориенгиры для разумного устроения жизни, а в игоге им открывается мир возвышенного и одухотворенного жизнепонимания.
"Мудрость" в устах составителей Притч многозначное слово. С одной стороны, она есть качество человеческого ума, с другой – она тождественна с "порядком", или "уставом", в частности с тем, что помогает царю управлять страной, а простому человеку – семьей и хозяйством. Этого рода "мудрость" была для израильтян иноземным сокровищем, ибо ее заимствовали из стран с высоким уровнем цивилизации. И наконец, смысл слова связан с жизненной умудренностью, с оценкой, которую бывалый человек давал окружающему.
Но если бы "мудрость" хакамов этим и исчерпывалась, то можно было бы усмотреть в Притчах некую внерелигиозную прагматическую этику, наподобие Эпикуровой. Поэты Востока, которых читали хакамы, нередко проповедовали скепсис в отношении к вере и неприкрытый культ наслаждений. Разочарованность и доходящий до цинизма нравственный релятивизм, которыми проникнуты "Песня арфиста" или "Беседа господина с рабом", могли казаться единственно трезвым выводом из наблюдений и размышлений над жизнью (См. том 2).
Ветхозаветные книжники, несомненно, испытали на себе воздействие подобных настроений. Тем не менее вера давала им силы побороть пессимизм. Чувство Бога, присущее хакамам, есть поразительное чудо, и их писания бесценны для нас именно как исповедание этой живой, непобедимой веры.
Уже в сказании о Соломоне ясно была выражена уверенность в том, что высшая мудрость не есть лишь плод искушенного ума, но дается человеку Творцом. Молитву царя, просившею у Господа мудрости, можно рассматривать как своего рода прелюдию ко всей хокмической литературе. То, что кажется только земным, – в основе своей, как и жизнь, есть дар Божий,
Ибо Господь дает мудрость,
из уст Его знание и разум.
Притч 2,6
Впрочем, Библия никогда не понимала божественный дар как подачку, брошенную людям нерадивым и праздным. Человек сам должен искать, принять и взрастить в себе небесный дар (Притч 2, 1 и далее ). Он – не безвольный и пассивный "потребитель" мудрости; его призвание всеми силами умножать ее.
Подобно Царству Божию евангельской притчи, мудрость сравнивается с самой большой драгоценностью, перед которой все тленные сокровища – ничто.
Счастлив человек, нашедший мудрость, и человек, обретший разумение,
Ибо польза ее больше серебра и больше золота ее ценность.
Она дороже жемчуга, и ничто из желанного тебе с ней не сравнится.
Притч 3, 13-15
Восточная и античная философия предназначалась обычно для избранных. Автору же Притч всякий эсотеризм чужд. Мудрость не скрыта за семью печатями. Она громко взывает к людям на улицах и площадях (1,20). Поэт изображает ее в виде проповедницы, которая обращается ко всем, желающим ее слушать.
У греков мудрость подчас сама по себе считалась добродетелью. В Книге Притч, наоборот, именно добродетель почитается истинной мудростью, ибо мудр не тот, кто имеет много знаний о мире (что это в сравнении с самим миром?), а тот, чья жизнь согласуется с велениями Божиими. Нарушение Его воли есть безумие или род самоубийства.
Особенно озабочен наставник судьбой тех, кто впервые вступает в самостоятельную жизнь. Он предостерегает своих слушателей от заразы греха, с отвращением говорит о распутстве, алчности, насилии, не жалея красок рисует поведение глупцов, ослепленных пороками:
Обдумай стезю твою для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды.
Не уклоняйся ни вправо, ни влево; удали ногу твою от зла.
Притч 4,26-27
Призывая к миролюбию, состраданию и чистоте, автор Притч далек от законнического формализма. Предвосхищая Евангелие, он указывает на сердце как источник злых и добрых поступков:
Больше всего хранимого храни сердце свое.
Притч 4, 23
При этом мудрец вовсе не склонен считать добро "естественным" и легким. Он слишком хорошо знает предрасположенность человеческой натуры ко злу. Не ссылаясь на Книгу Бытия, он говорит о греховности людей как о чем-то само собой разумеющемся. Горькие слова упрека вкладывает он в уста мудрости:
Звала я – вы не послушались,
простирала руку свою, но не было внимающего,
и обличении моих не приняли.
Притч 1, 24-25
Одним словом, людям отнюдь не свойственно повиноваться голосу совести и разума.
Этот библейский реализм не позволяет хакаму искать источник нравственности в самом человеке: ведь воля ко злу присуща ему так же, как и к добру, если не больше. Поэтому опорная точка для этики должна находиться выше, в сверхприродном мире. Выбирая между добром и злом, которые человек обнаруживает в себе, он должен следовать добру как закону, установленному Творцом. Подлинная мудрость, таким образом, неотделима от веры, от стремления выполнягь заповеди.
Эта мысль выражена в афоризме, который не раз повторяется у хакамов:
Страх Господень начало мудрости, и познание Святого разум.
Притч 9, 10
Но что такое "страх Господень" – боязнь наказания за грех?
Неверно было бы совсем исключить такое понимание. Однако слова о "страхе Господнем" – не запугивание, а лишь констатация нравственного миропорядка, своего рода предупреждение об опасности, таящейся в грехе. Это нечто близкое к индийскому понятию о Карме и греческому – о Дике.
Здесь важно подчеркнуть, что библейский мудрец видит в "страхе" только начало мудрости (во временном смысле слова), ибо боязнь возмездия соответствует лишь примитивной, начальной ступени духовной жизни.
Но этого мало. Вторая половина приведенной строфы показывает, что "страх Господень" имеет и более глубокий аспект (Строфы в библейской поэзии обычно содержат одну и ту же мысль в двух вариантах). Его синоним "познание Святого", т.е. Богопознание, а это слово в Ветхом Завете, как известно, означает любовь, веру и близость к Богу. Следовательно, "страх Господень" есть вовсе не ужас перед карающей десницей, а скорее боязнь потерять Бога, отдалиться от Него. Недаром мудрость сравнивается в Притчах с Древом Жизни, которого лишился человек, нарушивший Завет (3,18).
На языке Библии "боящийся Бога" это человек, проникнутый благоговением. "Богобоязненность" рождается из того священного трепета, который возникает в сердце перед лицом Сущего. Без этого чувства не может быть подлинной религиозности(10). Оно в свою очередь отодвигает боязнь кары на задний план и почти угашает ее. "Совершенная любовь,– по слову апостола, – изгоняет страх".
Следует подчеркнуть, что для простого страха в Притчах употребляется другое слово, нежели для "страха Господня" (пахад, а не ира). Мудрость говорит отвернувшимся от нее людям:
Когда, как буря, придет на вас страх (пахад)
и беда, как ураган, понесется на вас, когда постигнет вас несчастье и боль,
Тогда будут звать меня и не услышу я, будут искать меня и не найдут.
За то, что возненавидели познание и не приняли страха (ира) Господня.
Притч 1,27-29
Итак, повторяем, есть два страха: один – боязнь возмездия, другой трепетное благоговение перед Высшим. Если первый может послужить "началом" для грубых душ, то второй – неотъемлемое свойство веры и любви к Богу, из которых рождается воля к добру. Слова Христовы: "Кто любит Меня – тот заповеди Мои соблюдет" указывают на это последнее основание нравственности как форму отношения человека к своему Создателю.
Но если жизнь в согласии с "мудростью" есть исполнение небесной воли и божественного замысла по отношению к человеку, то как не предположить, что "мудрость" должна иметь и более широкое значение? Ведь судьбы людей – часть общих судеб мироздания, и вся Вселенная зиждется на воле и замысле Творца. Поэтому автор Книги Притч видит в Премудрости Божией силу, устрояющую космос.
В человеческом бытии греху и немощи противостоит мудрость как исполнение велений Сущего, в природе хаосу противостоит вселенская Премудрость, которая созидает небо и звезды, растения и животных в их поразительной сложности и красоте.
Здесь на пути ветхозаветной мысли незаметно вырастало искушение пантеизмом. Если мироздание столь чудесно, не заключена ли тайна его в нем самом. Не является ли Премудрость-устроительница лишь имманентным свойством Вселенной как божественного целого? Эта идея издавна казалась людям вполне естественной, а от пантеизма до обоготворения природы оставался один шаг. Однако израильские хакамы, отказавшись считать самого человека источником добра, не могли признать и божественности природы. Верно, что в ней повсюду обнаруживаются стройность и порядок, но значит ли это, что они коренятся в самой природе? Автор Книги Иова отвечает на этот вопрос в своем гимне Премудрости (11): Человек не знает к ней стези, и ее не сыскать в стране живых.
Бездна говорит: "Во мне ее нет!" и море говорит "Не у меня!"
Она сокрыта от глаз всего, что живет, и от птиц небесных утаена.
Аввадон* и смерть говорят: "Только слухом мы слышали весть о ней!"
–
* См. том 5.
Все, что изумляет нас во Вселенной, есть творение абсолютного Разума, воплощение Его вечной Премудрости. Отраженный свет и источник света – не одно и то же. Искать средоточие мировой гармонии нужно лишь в Творце.
Бог – вот Кто знает к ней путь, и Он ведает место ее.
Когда Он ветру давал мощь, и полагал меру движениям вод,
И для дождя назначал устав, и стезю для громоносных туч,
Вот тогда Он узрел, исчислил ее, испытал ее, и устроил ее,
И сказал человеку так: "Бояться Господа это мудрость,
И удаляться от зла разум".
Так Библия утверждает связь космического и нравственного миропорядка в их общем происхождении из божественной Воли. И законы человеческой жизни, и законы естества имеют один источник: Творца, проявляющего Свою беспредельную мощь через Премудрость.
Задолго до того, как уровень организованности в природе стали связывать со словом "информация", задолго до возникновения кибернетики и бионики религиозная и философская мысль выработала идею разумности мировой структуры. У греков исходным пунктом для этой идеи служила целесообразность, наблюдаемая в мире. Ветхий Завет как бы через голову науки, исходя непосредственно из веры, провозгласил верховную Мысль основой Вселенной.
Господь Премудростью основал землю, утвердил небо Разумом.
Разумом Его разверзлись бездны и облака кропят росою.
Притч 3, 19-20
Псалмопевец вторит Книге Притч, восклицая: "Господи! Ты все сотворил Премудростию" (Пс 103,24). Слова "Премудростию сотворил" буквально переводятся "сотворил в Премудрости".
Это значит, что божественная Хокма есть первопринцип, архе, "начало" космоса, которое искали натурфилософы Эллады.
Знаменательно, что иудейские толкователи Библии считали равнозначными выражения: "В Премудрости сотворил Бог небо и землю" и "В начале сотворил Бог небо и землю". Это понимание было воспринято Отцами Церкви(12). Действительно, под "началом" (решит) автор Книги Бытия, по-видимому, разумел не временное начало, а вечную Премудрость Творца. Это подтверждают слова евангелиста Иоанна: "В начале было Слово", ибо Слово, как мы увидим, есть сита Божия, неотделимая от Премудрости.
Словом Господним сотворены небеса и Духом уст Его – все воинство их.
Пс 32,6
Этот стих псалма, перекликающийся со строками Книги Притч, говорит о творческой роли Слова-Премудрости. Он сближает учение о Хокме с античной идеей Логоса и современной философской космологией. Когда Шредингер говорит о "квантовой механике Бога", Джинс – о "мировой Мысли", а Эйнштейн – о Реальности, "которая проявляет Себя как высшая Мудрость и блистающая Красота", – они приходят, по существу, к тому же, о чем учит Библия.
Картина мира, которая разворачивается сейчас перед человеком, обнаруживает неисчерпаемую сложность и заставляет задумываться о Творце куда больше, чем двадцать пять веков назад. Но и тогда, когда земля представлялась неподвижной и космос – обозримым, природа потрясала воображение человека и он славил в ней непостижимую Мощь, отображенную во всех чудесах мироздания.
Чтобы исключить всякую мысль о самотворении природы, автор Книги Притч говорит, наконец, и от лица самой Премудрости Божией, которая предшествует миру:
Господь создал меня в начале путей Своих, прежде творений Своих от века.
Искони я помазана, от начала, прежде бытия земли.
Я родилась, когда еще не существовало бездны, когда не было источников, обильных водою.
Я родилась прежде гор, сооружена прежде холмов, Когда Он не создал ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной(13).
А следующие строки рисуют праздничное утро мироздания. Премудрость выступает здесь не только как архетип для всей твари, подобный Платонову царству эйдосов, но и как соучастница творческого процесса. Кажется, что перед нами своеобразный библейский вариант "Тимея". Мир зиждется на основе меры, структуры, математических фигур(14).
Когда Он устроял небеса, я была там, когда проводил круг по лицу бездны,
Когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны,
Когда давал морю закон, чтобы воды не переступали пределов,
Тогда я была сНим художницей и была радостью Его каждый день,
Ликуя пред лицом Его.
Притч 8, 27-31
Чем же все-таки является тут Премудрость? Душой мира? Идеей космоса? Или созидательной силой Божества?
Библия никогда не считала, что мироздание есть нечто мертвое. Напротив, есть много мест в обоих Заветах, где прямо говорится об одухотворенности природы (15). Некоторые комментаторы именно в этом ключе понимали идею Премудрости Но Писание достаточно ясно указывает на Премудрость как на нечто причастное Божеству(16).
Нередко возникала мысль, что Хокма в Ветхом Завете есть звено, связующее Творца и тварь. Однако такое толкование покидает библейскую почву(17). Хотя Премудрость действительно как бы находится на грани между Абсолютным и тварным, но она не может в одинаковой степени принадлежать обоим. Для библейского мышления бытие в строгом смысле слова принадлежит только Богу. Все остальное лишь от Него получает жизнь. И если Премудрость тварна, она не может быть божественной, а если она от Бога, она не сотворена. Правда, в Притчах она говорит о себе, что Господь "создал" ее. Но это не то творение, о котором повествует Книга Бытия. Там мир является из небытия по слову Создателя. Здесь же Премудрость рождается из недр самого Бога. "Я вышла из уст Всевышнего",читаем мы в Книге Иисуса Сирахова (24,3).
Сущность Премудрости связана с тайной самораскрытия Божества, которая является важнейшим пунктом библейского богословия.
Утверждая безусловную надмирность Творца и Его непостижимость, Ветхий Завет в то же время знает и об Откровении Бога миру. Через это Откровение, или Самопроявление, Неизреченный становится познаваем для человека. Само миротворение есть уже такой акт выхода Бога из безмерной глубины сверхбытия. Вступая в Завет с людьми, приближая их к Своей Полноте, Ягве открывает Себя твари. Глас Его, обращенный к пророку, огненный столп, небесная колесница, облако в Храме – все это символы Теофаний, делающие возможной богочеловеческую историю. Один из первых образов Богоявления в Библии Малеах Ягве, Ангел Господень, который есть как бы Само Божество, но умаленное для того, чтобы стать доступным человеку(18). В дальнейшем этот конкретный образ сменяется в Библии тремя главными Теофаниями: Словом, Духом и Премудростью Ягве(19). Они составляют одно в Боге. Но в то же время мы видим, что Слово – это преимущественно Бог созидающий. Дух – Его животворная сила, а Премудрость – устроительница Вселенной. Это как бы три Ангела Ягве, лики и откровения Его сущности. Не случайно, что на иконах Премудрость изображалась в виде Ангела(20).
Слово, Дух и Премудрость суть те аспекты высшего Бытия, которые только и могут быть восприняты человеком(21).Вне их никакая положительная мысль о Божественном невозможна, а законно лишь "отрицательное", апофатическое, богословие, которое утверждает абсолютную непроницаемость Сущего для сознания человека.
Итак, нет оснований считать, что в Книге Притч Премудрость внеположена Богу – посредник или тварь.
Но почему, если Хокма – только сила Божия, Притчи наделяют ее личными чертами?
Прежде всего, как "Ангел Ягве" Премудрость есть личностное откровение Сущего. Здесь можно видеть и большее: предвосхищение ипостасной тайны Божества, хотя предвосхищение смутное, едва уловимое...
С другой стороны, персонификация Хокмы связана с особенностями еврейского языка, необыкновенно конкретного и образного. В Библии нередко олицетворяются отвлеченные понятия и явления природы, племена и само человечество. Грех и кровь, природа и страны, звезды и горы изображаются в виде существ(22).
Слово "Хокма" в древнееврейском языке женского рода, и представлена Премудрость в виде жены, которая, построив прекрасный дворец, созывает туда всех, кто хочет внимать ее словам(23). "Дом Премудрости" и сама она означают осуществление на земле намерений Творца, царство людей, исполняющих Его Завет. Поэтому "Дом" этот считают также прообразом Царства Божия, Церкви, Богоматери, поэтому и чтения из Книги Притч относят к праздникам Девы Марии.
Антиподом Жены-Премудрости является в книге Жена-Блудница, заманивающая в свои сети человека. Она олицетворяет грех и безумие, которые обрисованы с отталкивающими подробностями(24).
Писания мудрецов постоянно возвращаются к этому противопоставлению. Хакамы не проповедуют метафизического дуализма (как последователи Заратустры), но предлагают человеку выбор между двумя путями. Многие псалмы того времени посвящены этой теме. Она станет центральной в писаниях Кумрана и апостолов. Кратко ее можно выразить словами псалма: "Яко весть Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет".
Таким образом, мы вновь оказываемся перед проблемой добра и зла, свободы и воздаяния.
Развилка на дороге жизни гарантирует людям свободный выбор. Благодаря свободе человек сам несет ответственность за избранный пугь. Противление Творцу, грех, не может остаться без последствий. И речь идет не столько о каре, идущей извне, сколько о разрушительной силе самого греха:
Ибо упорство невежд убьет их и беспечность глупцов погубит их.
Притч 1, 32
Прежде всего человек должен был утвердиться в простой и ясной мысли – с Богом он жив, вне Его мертв. Эта мысль была одной из центральных уже в Моисеевом Завете. "Вот Я предложил тебе ныне жизнь и добро, смерть и зло" (Втор 30,15). Тора и пророки, псалмопевцы и мудрецы – все они говорят о благословенной жизни праведников и бедствиях, ожидающих рабов греха.
Однако не нужно было быть слишком проницательным, чтобы увидеть, правило это далеко не всегда осуществляется в действительности. Как же в таком случае понять смысл невзгод, постигающих праведника? В ответ на этот вопрос хакамы говорили о благотворной роли страдания: Наказаний Господних, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением Его,
Ибо кого любит Господь, того и наказывает, и благоволит к нему, как к сыну.
Притч 3, 12 Но и этот взгляд при всей своей возвышенности порождал много недоумении. Жизнь оказывалась сложнее любых схем. Ведь если раньше Израилю Бог открывался преимущественно в истории народа, то хакамы стали размышлять над Его проявлением в жизни природы и отдельной личности. Здесь понять действия Промысла было куда труднее. Поэтому неизбежно должен был настать момент, когда возникла потребность не только хранить уже данное Откровение, но и просить о новом.
Уже не первый раз в дни скорбей и сомнений обращался Израиль к Сущему. И вот снова он возвышает голос, чтобы говорить со своим Господом. Этот поразительный диалог мы находим в самой трагичной и героической книге Библии, книге, носящей имя Иова.
ПРИМЕЧАНИЯ
Глава десятая
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ И ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ
1. Правда, иудеи рассеяния порой оказывались в состоянии конфликга с иноверцами. Так, легенда, сохраненная Книгой Эсфирь, говорит о вспышке гонений в персидской столице, которые, впрочем, быстро прекратились. Книга Эсфирь (евр. Эстер) была, по-видимому, составлена ок. I в. до н. э. как исторический мидраш к празднику Пурим. Есть основания полагать, что этот праздник возник среди иудеев диаспоры (Вавилона и Персии) в противовес халдейскому празднику Мардука и Иштар (отзвук этого сохранился в именах главных персонажей книги: Мардохея и Эстер). Этимологический характер книги и ее связь с праздником послужили, вероятно, главной причиной для включения ее в канон. Книга сохранилась в нескольких, весьма отличающихся вариантах. В частности, греч. версия (LХХ) обширнее масоретской (см.: архим. Иосиф. Книга Эсфирь.-ТБ, т. III, СПб., 1906, с. 412 сл.). Несмотря на легендарный характер рассказа, вполне возможно, что в основе его лежат Воспоминания о каких-то исторических событиях. См.: Н. Lusseau. Esther.– RFIB, Engl. tr. 1970, v. II, р. 157-161.
2. Впервые о Великом Соборе упоминает Флавий (Арх. XII, 3, 3). Талмудический трактат Авот рабби Натана (1-4, пер. Переферковича, с. 3) говорит, что Мужи Собора толковали Св. книги. В другом трактате, Бава-Батра (14в, 15а), сказано, что они "написали" книги Иезекииля, Малых пророков, Даниила и Эсфирь. Но слово "написали" следует понимать как "отредактировали" или "привели в порядок" (см : Н. Дагаев. История ветхозаветного канона, с. 107).