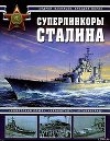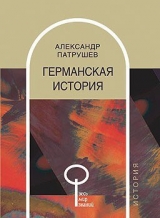
Текст книги "Германская история"
Автор книги: Александр Патрушев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
КОНЕЦ ФЕОДАЛЬНОЙ ЭПОХИ
Германская революция имела важные последствия, которые непосредственно с ней не связаны. Речь идет скорее о долговременных эволюционных процессах, которые ускорились благодаря опыту революции. Она способствовала быстрому формированию социальных классов. Предпринимательская буржуазия поняла, что ее интересы и цели будут осуществлены гораздо быстрее в союзе с авторитарным государством, чем на базе либерализма.
Опыт революции усилил раскол между бюрократией, верно служившей консервативному государству, образованными кругами и средними слоями. Возросло классовое самосознание рабочих, на себе испытавших военно-полицейские репрессии и осознавших важность создания своих собственных рабочих организаций.
Значительные последствия имела революция для так называемого сельского дворянства, которое в ходе завершения аграрной реформы превратилось в слой аграрных предпринимателей, сохранивший сильные элементы сословного господства. Революция усилила противоречия как внутри имущих аграрных слоев, так и между крестьянами и сельским пролетариатом.
Революция привела к политизации различных слоев и классов. Рабочие поняли, что от буржуазии нельзя ожидать ни широкой социальной реформы, ни политического равноправия. Поэтому проявившийся в 1860-х гг. разрыв между буржуазным либерализмом и пролетариатом также стал следствием опыта революционного времени. А буржуазия сделала для себя самый главный вывод: важнейших экономических и политических целей можно добиться без революционных потрясений, сопровождаемых высокими социальными издержками, без союза с демократами и республиканцами.
Определились две различные реакции на революцию. Значительная часть либералов быстро преодолела чувство разочарования. И была убеждена в том, что рано или поздно неизбежные общественные перемены повлекут за собой возрастание роли и веса либеральных слоев. Подтверждение этого она видела в успехах южногерманского либерализма и в значительном оживлении этого движения в Пруссии спустя десять лет после революции.
Другое, более пессимистическое настроение определялось провалом попытки создания единого национального государства. Это повлекло за собой скептицизм в оценке собственных политических возможностей, тем более что старые консервативные элиты после революции даже усилились. Возросло их влияние в правительствах и бюрократии, в сельских округах и в армии. Но и они столкнулись с серьезными проблемами. Революция похоронила принцип божественного происхождения власти. В условиях ограниченного, но все же конституционного государства были неизбежны какие-то политические новации, что осознавали наиболее дальновидные представители старых элит. Больше уже нельзя было игнорировать «народ» как политический фактор. Государство могло укрепить свою власть и доказать жизнеспособность путем проведения «революции сверху» и возглавляя народные массы.
Учитывая все эти сдвиги постреволюционного периода, можно сказать, что в общем контексте европейских революций некоторые из особых условий немецкого пути модернизации скорее усилились, чем ослабли. Прежде всего это касалось привилегированного положения старых элит. Практически ничего не изменилось ни в бюрократическом господстве, ни в сельской жизни восточной Эльбы. В армии еще более возросло осознание себя как главного государствообразующего фактора.
Наконец, вместо гордости за победоносную революцию в исторической памяти немцев глубоко укоренилось чувство горечи от ее неудач, чему немало способствовали консервативные публицисты и историки, очернявшие «безумный и дикий» 1848 г. Они потратили море чернил, чтобы доказать политическое бесплодие и доктринерство либералов и демократов. Вывод из этого состоял в том, что власть остается уделом опытной элиты, только она способна проводить «реальную политику». Если вспомнить слова Генриха Гейне о том, что «революция – это несчастье, но еще большим несчастьем является неудачная революция», то подлинной бедой германской революции стало то, что в общественном сознании ее косвенные успехи были сведены на нет, а единственной политической силой предстали старые консервативные силы.
И все же в ходе последующего развития ясно обозначились два фундаментальных изменения.
После революции политическая жизнь в Германии протекала в рамках конституционных государств, имеющих довольно дееспособные парламенты и скромные, но гарантированные конституционные права. То, что Пруссия превратилась в конституционную монархию и оставалась таковой, было несомненным следствием революции. А это в дальнейшем открывало путь к созданию малогерманского национального государства под эгидой Пруссии.
Но еще более важным оказалось то, что после революции не осталось барьеров на пути немецкой промышленной революции. Ее первый циклический подъем с 1845 г. был прерван кризисом 1847 г., бурными революционными событиями и краткой депрессией. Но после этого, в 1850-е гг., наступает период стремительного развития немецкого промышленного капитализма, время его подлинного триумфа. Начинается новая индустриальная эпоха.
НЕМЕЦКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Эпохальным явлением и переворотом для Германии XIX в. стала промышленная революция, создавшая мир машин, фабрик, рынка и экономического роста. Место прежнего универсального природного сырья – дерева заняли железо и уголь. Паровая машина заменила естественные источники энергии – человека и лошадь, воду и ветер. Человек становился господином природы, а не ее слугой. Экономика приобретала рациональный, расчетливый и безличный характер. Производитель работал теперь не по заказу определенного лица, а на анонимного рыночного покупателя. Прежняя цеховая или региональная солидарность сменилась конкуренцией, которая представляет собой основу современного рынка и его механизмов.
Капитализм, рынок и конкуренция, с одной стороны, механизация – с другой, превратили постоянные новации, изобретения и удешевление продукции в новый решающий критерий производства. Определяющим сектором постепенно становится промышленность, оттесняющая сельское хозяйство на второй план. Но в первой половине XIX в. Германия все еще оставалась аграрной страной.
Важнейшими предпосылками промышленного переворота в Германии послужили наличие запасов угля и железной руды, относительно квалифицированная рабочая сила, воспитанная в духе протестантизма с его трудолюбием и социальной дисциплиной. Уже в 1800 г. германские государства по общему объему промышленного производства стояли на третьем месте в Европе, после Англии и Франции, чему немало способствовала меркантилистская и реформаторская политика просвещенного абсолютизма, особенно в Пруссии и Саксонии.
Но имелись и значительные барьеры на пути индустриализации. В Германии не было достаточных запасов сырья и природных богатств; доминирующими в сфере производства все еще оставались кустарные промыслы и ремесло.
Политически раздробленная и слабая, Германия ютилась на задворках мировой торговли и не имела значительного торгового и военного флота. Внутри страны сохранялись многочисленные таможенные границы, немецким предпринимателям не хватало начального капитала, да и по своей ментальности они в большинстве своем ориентировались на сохранение традиций, а не на извлечение прибыли, на безопасность, а не на риск. Сбережения, а не инвестиции все еще оставались излюбленным способом помещения средств. Отношение к конкуренции было скорее негативным из-за сохранения традиционных представлений о гармоничном хозяйстве.
Многочисленные пережитки прошлого в виде феодальных платежей и повинностей резко сужали покупательский спрос. Получался своего рода заколдованный круг: бедное население – низкий спрос – отсутствие стимула к развитию промышленности.
Революции, тем более успешные, – редкий гость немецкой истории. Но в успехе промышленной революции сомневаться не приходится. Даже современники, усматривавшие в индустриализации тупик человеческой эволюции и осуждавшие ее, признавали ее революционную динамику, полный переворот в экономических отношениях.
Уже в первой половине XIX в. некоторые области Рейнской провинции и Вестфалии, Саксонии и Силезии по своему экономическому развитию были вполне сопоставимы с ведущими экономическими регионами Англии. Элементы индустриализации были заметны в Германии уже с конца XVIII в. Лишь чуть позднее, чем в Британии, в 1784 г. в Ратингене, близ Дюссельдорфа, возникла механизированная ткацкая фабрика. В 1792 г. была задута первая коксовая домна в Верхней Силезии, а на рубеже веков немецкие инженеры уже строили первые паровые машины по образцу английских.
Но отношение к британскому примеру промышленного развития было неоднозначным. С одной стороны, его старались копировать для обеспечения динамичного экономического роста, с другой – ужасающая, картина социальных последствий индустриализации служила как бы предостережением от такого развития – развития, которого следует избегать. Поэтому немецкая промышленная революция, конечно, шла в фарватере британской, однако имела свое лицо и свою специфику.
Но наряду с национальной спецификой промышленная революция имеет ряд общих моментов. К ним относятся: существование сильной буржуазии, которая оказывает решающее влияние на финансово-экономическую политику и обладает своей долей участия в политической власти; первоначальное накопление капитала, идущего на дальнейшие инвестиции; наличие свободного наемного труда с собственным рынком труда; благоприятная окружающая среда, запасы сырья и источники энергии, а также развитая транспортная система; увеличение покупательского спроса, который делает комбинацию всех этих факторов рентабельным и прибыльным занятием.
В Пруссии зачатки промышленной революции обозначились на рубеже XVIII–XIX вв. Но этот процесс шел крайне медленно и инициировался главным образом сверху, под опекой государства и его бюрократического аппарата. Предпосылки промышленного переворота в Пруссии были созданы в ходе реформ Штейна и Гарденберга 1807-20 гг. Прежде всего к ним относилось освобождение крестьян от личной крепостной зависимости, затянувшееся, однако, до середины века. Оно устранило препятствия на пути повышения производительности сельского хозяйства, послужило одним из главных источников первоначального накопления капитала и появления свободной рабочей силы на рынке промышленного труда. Введение свободы промысловых занятий усилило позиции буржуазии и гарантировало ей свободу действий в экономической сфере, финансовая и налоговая реформы способствовали росту инвестиций в экономику как со стороны получившей ряд льгот буржуазии, так и со стороны государства, также выигравшего от реформ в финансовом плане. Наконец, создание Таможенного союза привело к постепенному формированию единого и крупного внутреннего рынка, охватившего почти всю страну.
Но эта «революция сверху» все же не создала буржуазного гражданского общества. Княжеский абсолютизм трансформировался в господство бюрократии, которая исполняла многие модернизаторские функции, присущие английской буржуазии, и закладывала основы для осуществления успешной промышленной революции в стране.
Процесс индустриализации в Германии отличался от британского и своими социальными последствиями. Консервативные и марксистские критики промышленного переворота единодушно утверждали, что именно индустриализация послужила причиной массового пауперизма, охватившего к середине 1840-х гг. 50–60 % населения Германии. Но все же это было не следствием индустриализации как таковой, а скорее – промышленной отсталости и превосходящей конкуренции иностранных товаров.
После создания в 1834 г. Таможенного союза под руководством Пруссии стало ясно, что фактического единства этого нового и крупного экономического пространства нельзя достигнуть без развитой транспортной системы. Лишь благодаря усилиям крупного экономиста Фридриха Листа (1789–1846) и нескольких рейнских фабрикантов, вопреки сопротивлению консерваторов, враждебно относившихся к технике, 7 декабря 1835 г. была открыта первая немецкая железнодорожная линия Нюрнберг-Фюрт протяженностью всего 6 км. Для сравнения: в Бельгии в это время имелось уже 20, во Франции – 141, в Англии – 544 км железных дорог. Но железнодорожная сеть росла в Германии стремительными темпами и накануне революции насчитывала около 500 км, вдвое превышая французскую.
Только железные дороги сделали возможным формирование в Таможенном союзе общего рынка с едиными предложением, спросом, ценами и равной конкуренцией. Кроме того, строительство железных дорог необычайно стимулировало развитие металлообрабатывающей промышленности, увеличившей выпуск локомотивов, вагонов, рельс.
Таким образом, к 1848 г. были заложены основы для проведения дальнейшей индустриализации. Поскольку после революции не приходилось опасаться новых политических потрясений, то становились выгодными долговременные вложения капиталов, объем которых значительно возрос. В связи с золотой лихорадкой в Калифорнии и Австралии подешевели кредиты, но одновременно с повышением спроса подскочили и цены.
Экономическому буму способствовало еще одно обстоятельство – дешевизна рабочей силы. Новым фабрикам требовалось все больше людей. Обнищавшие массы были рады получить хотя бы какую-нибудь работу с постоянным заработком. Разумеется, справедливой была критика безработицы и условий жизни и труда, в которых находилось это первое поколение фабричного пролетариата. Но следует иметь в виду, что по сравнению с массовой нищетой доиндустриальной эпохи средний рабочий жил теперь все-таки лучше. Постепенно снижалась безработица, ослабевала конкуренция со стороны английских и бельгийских товаров.
Плохие урожаи 1852 и 1855 гг. вновь привели к повышению цен на продукты, однако голода на этот раз в Германии не было. Пауперизм, эта социальная болезнь первой половины XIX в., ушел в прошлое, а последующие поколения уже не знали этого явления.
Индустриализация Германии привела к возникновению нового общества. Старый мир опрокинула не политическая революция, а переворот в экономике и производственных отношениях, тесно связанный с революцией в средствах коммуникации, от железной дороги до телеграфа.
Резкое увеличение численности населения и ухудшение условий жизни на селе заставляли многих людей уезжать в города или эмигрировать за пределы страны. Поток переселенцев устремился в наиболее развитые индустриальные области – Саксонию, Силезию, Берлин, Рурский бассейн, Вестфалию. Формирующийся фабричный пролетариат пополняли главным образом две группы: необученные сельские переселенцы и городские ремесленники, которые не могли больше существовать за счет своего труда, поскольку спрос на дешевые и массовые фабричные товары привел к резкому падению спроса на более дорогие, штучные ремесленные изделия. Только когда в 1880-х гг. в широких масштабах стал использоваться электромотор, который можно было установить в любой мастерской, ремесленные предприятия стали более конкурентоспособными. Не сбылось пророчество Карла Маркса об отмирании ремесла в промышленную эпоху.
ЖЕЛЕЗОМ И КРОВЬЮ
Господствующей тенденцией в обществе послереволюционного времени стал отрыв от традиционной почвы. Рвались семейные узы, слабели религиозные связи, исчезала традиционная местная лояльность. Индустриальная среда, фабрика, шахта не предлагали никакой замены этому. В обществе стало превалировать чувство подчинения анонимным силам и социальной атомизации. Там, где религия и прежние общественные нормы утратили свое влияние, их место заняли мифы и новое толкование смысла жизни.
С одной стороны, это были либеральные принципы свободы, счастья и как политического, так и экономического самоопределения отдельного человека. Они были направлены против господствующих абсолютистско-аристократических структур и связаны с идеей единства нации, в которой должна воплотиться общая воля свободных граждан.
Наряду с либерализмом сложилась вторая оппозиционная идеология XIX в. – социализм как классовый миф, как призыв к солидарности трудящихся масс в борьбе против власти и эгоизма частных собственников, благосостояние которых было создано рабочими.
Старый мир мобилизовал защитные силы, которые со своей стороны также опирались на влиятельную идеологию. Ею стал консерватизм, направленный как против восстания черни, так и против взлета либерального капитализма. Наконец, сформировался политический католицизм, представлявший собой реакцию мало затронутого новациями и сохранившего традиции населения в Силезии, на Рейне и в Южной Германии на натиск агрессивного прусско-протестантского либерализма и национализма.
Так возникли различные учения, которые пропагандировались политическими журналами и парламентскими фракциями, постепенно приобретавшими черты политических партий. Это стало очевидным, когда в конце 1850-х гг. произошел экономический обвал, вновь ожививший внутриполитическую жизнь. Появились первые устойчивые самостоятельные рабочие организации. Сын богатого еврейского торговца из Бреслау, зажигательный оратор и блестящий публицист Фердинанд Лассаль (1825-64), к которому Маркс всегда испытывал жгучую политическую ревность, в 1863 г. создал «Всеобщий германский рабочий союз». Почти одновременно токарь Август Бебель (1840–1913) и журналист Вильгельм Либкнехт (1826–1900) основали «Объединение немецких рабочих союзов», ставшее прообразом будущей Социал-демократической партии Германии.
Вновь оживился и парламентский либерализм. С 1858 г. в Пруссии стал править Вильгельм, принц Прусский, младший брат Фридриха Вильгельма IV, который в связи с психическим расстройством отошел от государственных дел. К всеобщему изумлению, слывший прежде ярым реакционером регент смягчил цензуру и назначил либеральное правительство. Однако, став королем, Вильгельм быстро оказался в конфликте с либеральным большинством ландтага, когда против воли депутатов начал военную реформу, по которой увеличивались численность армии и срок службы. К тому же Вильгельм намеревался практически ликвидировать ландвер, этот гражданский противовес регулярной армии, в котором числились вышедшие в запас военные после армейской службы. Возбуждение и негодование либералов в связи с этим достигли предела, их противоречия с правящим союзом короны, армии и аграрного дворянства переросли в острый конституционный конфликт.
К оживлению политической жизни вело еще одно обстоятельство. Племянник великого корсиканца император Наполеон III попытался возродить давнее французское влияние в Италии и в 1859 г. заключил с королевством Пьемонт-Сардиния союз против Австрии, владевшей северо-итальянскими территориями. В начавшейся войне союзники одержали победу, Италия стала единой.
Воодушевленную итальянским объединением немецкую общественность впервые после революции 1848 г. вновь захлестнула волна национального энтузиазма. Выпускались тысячи листовок, памфлетов, газетных статей с громкими требованиями скорейшего создания единого и мощного немецкого государства. Своего апогея национальный подъем достигв ноябре 1859 г., во время празднования всей Германией столетнего юбилея Шиллера. Но вместе с тем стало ясно, что те различные национальные движения, которые оформились в дни революции, продолжают существовать и даже окрепли в организационном отношении. Возникший в 1859 г. в Кобурге малогерманский «Национальный союз» в организационном, финансовом и пропагандистском плане значительно превосходил великогерманское католическое движение. Созданный им в 1862 г. «Союз реформы» явился на свет с опозданием, но так и остался слабым и плохо организованным.
Впрочем, положение малогерманского национального движения тоже не было устойчивым. Его главная политическая опора – либеральная фракция прусского ландтага – находилась в тяжелом конфликте как раз с той силой, которая и должна была осуществить малогерманский вариант объединения страны с прусской монархией.
24 сентября 1862 г. Вильгельм I, который в поисках выхода из ситуации уже подумывал об отречении, сделал решительный шаг и назначил премьер-министром ультраконсервативного и имевшего славу рьяного реакционера Отто фон Бисмарка (1815-98), бывшего тогда прусским послом в Париже. Это произошло после долгого разговора, в котором Бисмарк твердо заверил короля в том, что он сумеет стабилизировать положение и так прижмет либеральное большинство ландтага, что оно прикусит язык. Для немецкой общественности Бисмарк воплощал собой не только антилиберальные, но и антинациональные устремления, поскольку тогда либерализм и национализм были неотделимы друг от друга. Однако Бисмарка не понимали ни его либеральные противники, ни консервативные единомышленники. Пост главы прусского кабинета был для него всего лишь средством достижения более высокой цели. Он стремился к мощи и консолидации Пруссии на европейской сцене, что было осуществимо, по убеждению Бисмарка, только после установления прусской гегемонии в Германии и вытеснения оттуда Австрии. Бисмарк прекрасно понимал, что достичь этого можно лишь с согласия других европейских держав на изменение политической карты нейтральной Европы.
Когда в ноябре 1863 г. Дания официально включила в состав своего государства Шлезвиг, Германия ответила всплеском патриотизма. Общественность и ландтаги шумно потребовали начать национальную войну против Дании. Но они совершенно не принимали в расчет международной обстановки, обнаружив при этом поразительную политическую близорукость. Напротив, Бисмарк учитывал все обстоятельства и соотношение сил весьма тщательно.
История богата парадоксами. Именно либеральное национальное движение, преисполненное ненавистью к политике Бисмарка, способствовало ее успеху. Ничто не помешало бы планам Бисмарка больше, чем союз с немецким национальным движением, которого опасались во всех европейских столицах. Бисмарку был необходим такой конфликт, чтобы за его кулисами скрыть свои истинные намерения и дождаться удобного момента для начала активных действий. Чуждый всяким национальным эмоциям, он открыто признал легитимность прав датского короля на Шлезвиг-Гольштейн, что успокоило Лондон, Париж и Петербург. Но в то же самое время Бисмарк уже готовил нападение на Данию, поскольку полное включение Шлезвига в Датское королевство нарушало давнюю и общепризнанную автономию этого герцогства.
Строго говоря, различия между требованиями национального движения и обеими германскими державами, которые, к общему удивлению, совместно начали войну против Дании, носили в основном формально-правовой характер. Но либералы не без основания опасались того, что и произошло.
В январе 1864 г. австро-прусские войска вошли в Ютландию и одержали победу в нескольких кровопролитных сражениях. В октябре побежденная Дания запросила мира. Но Шлезвиг и Гольштейн не стали новыми членами Германского союза, чего ожидали либералы, а без лишних церемоний были, по сути, аннексированы победителями при формальной видимости временного совместного управления этими территориями.
Теперь и многие деятели либерализма осознали, что казавшаяся консервативной и даже беспринципной политика Бисмарка явно добилась успеха в отличие от постоянных неудач национально-либерального лагеря. Справедливыми оказались слова Бисмарка, сказанные им еще в сентябре 1862 г. в речи перед оторопевшими депутатами ландтага: «Великие вопросы времени решаются не речами и постановлениями большинства – это было ошибкой 1848 и 1849 гг., а железом и кровью».
Первый шаг Бисмарком был сделан. Либеральное движение оказалось крикливым, но практически бессильным. Теперь пришло время, которого еще с революции 1848 г. ожидал Бисмарк, – окончательное установление прусской гегемонии в Германии и вытеснение из нее Австрии. Это было исполнением того курса прусской политики, который начался еще в 1740 г. вторжением Фридриха Великого в Силезию. Установившееся после революции неустойчивое равновесие отношений между Австрией и Пруссией не могло скрыть их постоянного соперничества. Между ними находились средние и мелкие государства «третьей Германии», которые надеялись сохранить свою суверенность и укрепить федеративный союз политикой лавирования между Берлином и Веной.
Датская война изменила положение в центре Европы. Ни одна из великих держав не заявила протеста. Впрочем, это определила не только гениальная тактика Бисмарка, но, пожалуй, еще больше – Крымская война (1853-56), которая уничтожила прежний европейский порядок. Россия и Англия вступили в полосу глубокой вражды, и об их совместных действиях теперь не могло быть и речи. История на несколько лет приоткрыла для Германии дверь, в которую очертя голову ринулся Бисмарк.
Вене и Берлину уже с начала 1861 г. было ясно, что дело идет к вооруженному столкновению за господство в Германии. Нужен был только повод, который дал бы возможность объявить противника агрессором. Такой повод был найден, когда только что объединившаяся Италия стала открыто поддерживать Пруссию. Мечтавший о реванше за поражение 1859 г. венский кабинет в марте 1866 г. объявил о начале мобилизации австрийской армии. Теперь военная машина пришла в движение, но уже 3 июля война внезапно закончилась полной победой Пруссии над австро-саксонскими войсками в решающем сражении при Кёнигреце в Богемии. Блестящую победу Пруссии обеспечили ее военно-техническое превосходство, отлично подготовленная армия и стратегический талант начальника генерального штаба Гельмута фон Мольтке (1800-91), который впервые в истории войн в полной мере использовал железную дорогу и телеграф для координации действий всех прусских армий, всегда находившихся там, где им надлежало быть. Вильгельм I, который скрепя сердце согласился на эту братоубийственную войну, был воодушевлен теперь победой настолько, что непременно захотел въехать на белом коне в поверженную Вену. С огромным трудом Бисмарку удалось отговорить короля от этого намерения. Бисмарк не желал чрезмерного унижения Австрии, рассчитывая в будущем иметь ее в качестве нейтральной стороны, а не противницы в предполагаемом столкновении с Францией.
Еще до начала «немецкой войны» Пруссия объявила недействительным Венский акт 1815 г. о создании Германского союза, в то время как Австрия действовала именно как глава этого союза. Так что это была война скорее не между Пруссией и Австрией, а между Пруссией и Германским союзом. Поддержавшие Австрию саксонские и южногерманские войска носили черно-красно-золотые нарукавные повязки, сражаясь против воюющей под черно-белыми знаменами прусской армии.

Объединение Германии 1866-1871 гг.
По Пражскому миру Австрия покинула Германию, преобразованную теперь в Северо-Германский союз во главе с Пруссией. Он состоял из 22 государств, а вне союза оставались пока четыре южногерманские монархии – Бавария, Баден, Вюртемберг и Гессен-Кассель. Но они были тесно связаны с Пруссией военной конвенцией и рамками Таможенного союза, составляя единое экономическое пространство.
Наполеон III, которому за соблюдение нейтралитета Берлин обещал Саарскую область, своей близорукой внешней политикой помог осуществить то самое немецкое объединение, которому он стремился помешать. Бисмарк знал, что завершить объединение можно будет только в случае устранения французской угрозы, а Наполеон дал ему искомый повод. В 1866 г. Франция оказалась ни с чем. Бисмарк бесцеремонно отклонил ее требования о компенсации за нейтралитет, и страну охватило чувство уязвленной гордости, требующее выхода.
В начале 1870 г. испанские кортесы предложили вакантный трон принцу Леопольду из боковой католической ветви дома Гогенцоллернов. Во Франции ожил давний страх перед немецким окружением, и Наполеон заявил резкий протест. Возможно, Бисмарк отказался бы от своих намерений, если бы не знал, что Франция находится в изоляции и не может рассчитывать на поддержку Англии, Австрии или России. Он не хотел активно способствовать развязыванию войны, но и не стремился избежать ее. Вильгельм же был готов удовлетворить французские пожелания и предложить испанский престол негерманскому принцу.
Взволнованная французская общественность на этом не успокоилась. Посол Парижа Винсент Бенедетти отправился на курорт Эмс, где отдыхал прусский король, чтобы передать ему требование гарантий того, что никогда ни один гогенцоллерновский принц не станет претендовать на испанский трон. Вильгельм справедливо воспринял это как дипломатическую пощечину и отклонил требование, на что и рассчитывал Наполеон. Король отправил в Берлин Бисмарку депешу о ходе и результатах переговоров, вполне сдержанную и объективную. Но Бисмарк так отредактировал текст, что он приобрел унизительный для Франции смысл, и в таком виде в тот же день, 13 июля 1870 г., передал его в берлинские газеты. Он верно полагал, что французское правительство по внутриполитическим причинам не потерпит этого дипломатического поражения. Бисмарк отлично знал и авантюризм Наполеона III, который, не задумываясь, опрометчиво и без всякой внешнеполитической подстраховки 19 июля объявил войну.
Франко-германская война 1870-71 гг. стала уже войной современной техники и массовых армий, которая позволяла предчувствовать ужасы тотальной войны XX столетия. На первом этапе решающую роль сыграли техническое оснащение и стратегическое превосходство прусской армии и ее генштаба под руководством Мольтке. Немецкая сторона лучше провела мобилизацию и осуществила развертывание сил на широком фронте. Исход войны решили точно спланированные Мольтке крупные сражения под крепостями Мец и Седан. Действуя строго по предписаниям генштаба, немецкие войска, понеся минимальные потери, принудили французов к капитуляции. Под Седаном в плен попал и сам Наполеон.
Второй этап войны, на котором армия новорожденной Французской республики попыталась переломить ход войны в свою пользу и добилась некоторых успехов, не сказался на конечной победе немцев. 28 января 1871 г. было заключено перемирие, за которым в феврале последовал прелиминарный мир. Окончательную точку поставил заключенный 10 мая Франкфуртский мир, по которому Франция теряла Эльзас и Восточную Лотарингию и должна была выплатить контрибуцию в 5 млрд. золотых франков.
Общественность Германии единодушно требовала возвращения «исконно немецких» Эльзаса и Лотарингии. Прусский генштаб из стратегических соображений настаивал на аннексии Вогезских гор с их многочисленными проходами и крепости Мец. Бисмарк не мог противостоять этим требованиям, хотя знал, что такие условия ставят под угрозу его цель – надолго устранить военную опасность на западной границе, поскольку Франция непременно будет стремиться к реваншу.