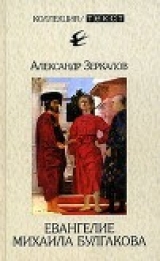
Текст книги "Евангелие Михаила Булгакова"
Автор книги: Александр Мирер
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Титулование «игемон» оказывается, таким образом, разлитой и повторяемой меткой. Она отсылает нас к истокам трагической буффонады, созданной Булгаковым. (Не лишено интереса попутное наблюдение: этот фрагмент Тосефты можно истолковать как пародийный пересказ евангельского суда над Иисусом, тем более что в конце притчи старец признает себя виновным в ереси «Иисуса сына Пантеры»…)
Итак, если предположить, что Булгаков знал приведенный текст, то Талмуд окажется сюжетным источником почти евангельского ранга. У меня есть сильнейший соблазн думать, что Булгаков знал агаду о рабби Элиэзере. Ведь его теологическая реформа – отрыв реалии от власти Бога – направлена против иудейской составляющей в христианской религии и этике. Иудаизм сообщил глобальной религии Христа дух племенной узости, земного императива. Иудейский бог Яхве, ставший после христианской реформы Богом Отцом, олицетворяет идею этики, жестко и однозначно заданной верховным существом; этики, записанной в Торе и развернуто прокомментированной Талмудом. Впрочем, об этом мы уже говорили, а дальше разберем тему еще подробней. Я хотел лишь заметить, что иронически-острый ум Булгакова должен был оценить еретическую буффонаду авторов Тосефты, их тончайшую насмешку над основополагающей, как сейчас принято говорить, идеей. А Талмуд он, как представляется, знал хорошо.
Этим соображением мы закончим анализ сюжетного перевертыша: римский прокуратор в роли провидения; «затейщик низостей», совершивший очередное злодеяние – но посеявший зерно Добра. Мы убедились, что в сюжете игемон достаточно полно повторяет действия евангельского Бога.
Двинемся теперь дальше и убедимся, что игемону приданы не только действия, но и характериологические черты, которые приписываются Богу каноническими книгами.
По Библии, ветхозаветный Бог совершенно таков, каким его описывает Левий Матвей: «черный бог, бог разбойников, их покровитель и душа». Его помощники-патриархи, например Иаков и его сыновья, были по современным меркам истинными разбойниками, и под стать им был их небесный покровитель. Воистину, он лечил подобное подобным. Одного из своих адептов он поразил смертью за прикосновение к ковчегу со святынями, падающему с телеги; убил за естественную попытку поддержать святая святых (см. 2 Цар. VI, 6,7).
Жестокость не противопоказана древнему божеству, владыке кочевников. Бог Отец, как и булгаковский герой, сознавал свою жестокость и оправдывал ее непокорностью паствы. Например, при выходе евреев из Египта он отказался пойти с народом, «чтобы не погубить Мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный» (Исх. ХХХIII, 3).
Первое новозаветное деяние Отца – порождение Сына, специально предназначенного для мучительной гибели, – тоже как-никак немалая жестокость. Игемон, пожалуй, гуманней Отца. Он хотя бы не расставлял Иешуа ловушку.
Еще одна параллель с игемоном, настолько точная, что мне самому она представляется случайной. Яхве первоначально властвовал только над Израилем, то есть над малочисленным населением Палестины – был в некотором роде и правителем, и высшим судьей. «И воспламенится гнев Мой, и убью вас мечем, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами» (Исх. XXII, 24).
Эту мысль продолжает другая. Ветхозаветный Бог требовал от своего стада, в сущности, только соблюдения законности. В цитированном периоде он предупреждает Израиль о последствиях нарушений закона, начертанного на Моисеевых скрижалях.
Мы видели, что игемон стремится соблюсти законность до последней возможности. И даже сверх нее. Осуждение Иешуа и отступление перед Синедрионом суть не только акты трусости, но и формального подчинения закону.
Но более, чем сходство игемона с Богом Отцом, нас должно интересовать сходство с Сыном – ибо он же является прямым прототипом Иешуа Га-Ноцри. Эти аналогии должны наличествовать (если предыдущий анализ был верен), поскольку теологически Отец и Сын – одно лицо. Иисус сплошь и рядом действует по ветхозаветному стереотипу – о чем тоже говорилось выше {80}.
Итак, разберемся, в каком обличье жесткие и жестокие черты Иисуса, его ветхозаветная императивность переходят вместе с земной властью к «жестокому пятому прокуратору Иудеи, всаднику Понтию Пилату».
(Тончайший намек на этот переход дан в интродукции к новелле. Если прочитать совместно последние фразы 1-й главы и первую фразу 2-й главы романа, то получится: «– Имейте в виду, что Иисус существовал… – Но требуется же какое-нибудь доказательство… – И доказательств никаких не требуется… Все просто: в белом плаще… вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат».)
Выше мы рассмотрели действия, связывающие игемона с Яхве. С Иисусом его связывают слова — пророческие высказывания. Говоря же точней, пророчества евангельского героя разделены между обоими героями Мастера таким образом, что расщепление исходного образа обнаруживается достаточно ясно.
Христос – величайший из христианских пророков не только по основополагающему значению, но и по количеству пророчеств (не считая многочисленных повторений и парафраз). Точную цифру назвать трудно, так как евангельские предсказания будущего постоянно переплетаются с поучениями, проклятиями и иными речениями. Все же, если разделить пророчества на «черные» и «белые» – предсказывающее злое или благое будущее, – то статистика получается достаточно выразительная. Примерно 40 речений «черных» и только 10 «белых».
Сейчас же приходит на память то, что Иешуа Га-Ноцри принадлежит только одно прорицание, заимствованное из Евангелия, – о светлом царстве истины. А игемону переданы черные пророчества: гибели Ершалаима, трагедии еврейского народа, злой судьбы Иешуа и собственной судьбы. При этом не важно цифровое совпадение, случайная пропорция: 40: 10 = 4: 1. Смешно было бы думать, что Булгаков высчитывал и размерял. Блестящий знаток Писания, он действовал интуитивно, отбирая те или иные речения. А интуиция неизменно действует статистически и выделяет те элементы, которые составляют большинство или, напротив, исключения из правил.
Вот другая характеристика – эгоцентрическая направленность пророческого дара. Как мы видели, мистические видения игемона эгоцентричны почти всегда – кроме одного: «Впрочем, это не поможет». Из пророчеств Иисуса примерно половина (около двадцати) относятся к его собственному будущему. Но если учесть повторения (и внутри книг, и от книги к книге), то процент эгоистических пророчеств существенно увеличится и приблизится к 80. Они характерологически соответствуют синоптическому Христу, расчетливому и осторожному вождю, обладающему всеми атрибутами человека власти, грозному и гневному обличителю, страдающему приступами угрюмости и постоянно высчитывающему свое будущее.
Из этих же звеньев склепаны кандалы игемона. Мастер не утрировал черты, заимствованные у Бога Сына, как не усиливал черты, взятые у Бога Отца. Он только убрал светлые пятна, оставив черные.
Среди пророчеств игемона два служат прямой отметкой заимствования. Они помещаются в цитированной уже речи прокуратора к Каифе, и не только воспроизводят Иисусовы пророчества, но по духу и стилю не отличимы от гневных обращений к «книжникам и фарисеям». (И ведь очень похоже, что свои знаменитые филиппики Христос обрушивал на толпу, когда «его уносил, удушая и обжигая, самый страшный гнев, гнев бессилия» (с. 452). Если оставить в речи игемона к Каифе только заимствования, она не теряет связности: «Так знай же, что не будет тебе… отныне покоя! Ни тебе, ни народу твоему… заведомых мятежников в Ершалаиме прячете от смерти. И не водою… как хотел я для вашей пользы, напою я тогда Ершалаим! Нет, не водою!.. Вспомни мое слово… Придет под стены города… легион… тогда услышишь ты горький плач и стенания!.. И пожалеешь, что послал на смерть философа с его мирною проповедью!» (с. 453–454).
Подобные речи несколько раз звучат в Евангелии, так что любой внимательный читатель их замечает: «Да приидет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле… все сие придет на род сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. XXIII, 35–38).
У Луки стихи о Иерусалиме дословно повторяются, и в другом месте Лука прибавляет: «Враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду» (XIX, 43). «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его» (XXI, 20).
Примечательно, что после сопоставления текста с источником читатель может услышать в словах игемона новую интонацию – ревность. Он, как Иисус, пытался заслужить в Ершалаиме любовь и признание, но это не удалось, и разочарование породило ненависть.
Но мы опять отвлеклись от темы. Цитированное пророчество об Иерусалиме входило в круг эсхатологических речений, предсказывающих бедствия Страшного Суда (как и подавляющее большинство Иисусовых пророчеств). Да, опять суд! Едва ли не каждая параллель с религиозными источниками приводила нас к теме суда и возмездия – теперь она замыкается теологически. Как часто бывает, следуя течению мысли, мы пришли к истокам. По всей видимости, Мастер, анализируя евангельского героя, начал с того, что разъял его этическое учение. Выделились три главных компонента: условие спасения в нравственном кодексе Нагорной проповеди {80}; поощрение – царство праведных; наказание – Страшный Суд. В последнем были выделены две ступени наказания: земная и потусторонняя {82}. (Подчеркну еще раз, что горнее наказание в проповедях Христа почти не просматривается. Напротив, нагнетается мысль о земном ужасе – «конце света»).
Дальнейшее читатель, без сомнения, видит: из разделенных компонентов суда сложились булгаковские герои. Иешуа дана Нагорная проповедь, и «царство истины», и неясная – а потому смягченная – загробная власть. Игемон получил право земного суда; всю власть эсхатологического страха, внутренне противоречивую, а потому неправедную {83}. (Фиксируем третий результат: Бог Нового Завета отсепарирован на две составляющие, новую и старую. См. гл. 28 и гл. 31.) И уже вторично – на этой основе – стали строиться характеры, создаваться отношения героев и между собой, и с сюжетом первоисточника. Все потянулось как нить из клубка. Игемон стал отождествляться с ветхозаветным Богом, потому что теперь, после расщепления Судьи, евангельские заимствования из Ветхого Завета очутились на поверхности. С той же неизбежностью исчез единый мессия, правозвестник Страшного Суда, – поскольку эсхатологическая идея расщепилась на две полярные идеи суда и прощения и исчезла.
Феноменальная конструкция новеллы опирается на две феноменальные по точности находки. Первая: узел евангельских противоречий – проповедь Страшного Суда. Вторая: земной судья Израиля в Евангелиях имеется, он уже задан. Дальнейшие ассоциации настолько естественны и логичны, что я не уверен даже, что Мастер их обдумывал. Достаточно пробурить скважину до артезианского слоя – фонтан ударит.
Наше затянувшееся рассуждение наконец-то замкнулось. По-видимому, Мастер действительно расщепил евангельского героя и разделил его черты между своими персонажами. Сейчас, постфактум, этот замысел кажется мне уже не дерзким и странным, а естественным (может быть, потому, что за работой я глубже проник в источники). Условно-единый облик Иисуса из Назарета фактически содержит даже не два, а несколько отдельных образов. Недаром все попытки историко-литературных транскрипций Евангелия – включая знаменитую ренановскую – оказывались совершенно неудачными. Полифония сохраняется только в оригинальном евангельском тексте, который читается как бы через стереоскопические очки традиции. Через них мы видим одно изображение там, где изображений несколько (а большинство наших современников и читают фрагментарно, в меру своих пристрастий). Попросту говоря, мы заранее знаем, что все, сказанное в Четырехкнижии, сказано об одном человеке. Но представьте себе, что нам нужно перелить в современную литературную форму эти четыре повести об одном герое, и сейчас же обнаружатся разрывы, решительно не поддающиеся объединению – если пытаться ничего не упустить из Иисусовых черт.
Нетрудно слить автора Нагорной проповеди с грозным глашатаем Страшного Суда. Можно объединить и иудейского мессию с основателем новой веры, враждебной иудаизму. Совместить идеолога глобальной религии с проповедником религиозной исключительности, Бога с сыном многодетного плотника, ангела кротости с властолюбцем. По отдельности все это несложно. А требуется соединить все, добавив еще: безграничную отвагу; осторожность, граничащую с трусостью; смирение; надменность; величайшую самоотверженность и величайший эгоцентризм.
Мы знаем, что европейские писатели постоянно используют подобные пары отталкиваний-притяжений. Но – пары, а не пять-шесть противопоставлений разом; не кипящую смесь противоречий, которые, будучи устранены, создают новые противоречия. Их нельзя устранить психологически корректным путем. Литературный образ неизбежно развалится минимум на две личности, насильственно загнанные в одно тело. Выйдут стивенсоновские доктор Джекил и мистер Хайд. Единый образ, созданный примитивным талантом евангелистов и гением традиции, не удастся переписать в современном ключе.
Новая европейская литература требует внутреннего диалога – на то она и унаследовала евангельские традиции. Но она требует и точных, житейским опытом проверяемых деталей. Она логична, как все современное сознание. Создавая – и разрешая – пары противоречий, она опирается на реальные противоречия психики, такие, как рефлексия. В худшем случае писатель приводит героя на грань безумия, заставляет его метаться между крайностями. (Как мы видели, Мастеру пришлось даже двоих героев снабдить некоторыми психическими аномалиями.) Но Бог сомневаться, метаться, рефлексировать не может, ибо Он все знает наперед, и не то что уверен в истине – Он сам должен быть ею.
Литературный богочеловек вынужден метаться от меча к оливковой ветви, от кары к прощению. Именно так получилось у Гегеля в его попытке реставрации Христа: «Оба они, и борьба и прощение, должны иметь свои границы. Поэтому и Иисус колеблется между тем и другим больше в своем поведении, чем в своем учении»[28][28]
Г. Ф. Гегель. Философия религии (в дальнейшем – Гегель). М., 1976. Т. I. С. 130.
[Закрыть] (курсив мой. – А.З.).
Великий диалектик – горячий и убежденный христианин – относил свое суждение к Человеку, на время забывая о всеведении Бога, о Его абсолютной самоуверенности. А эту черту, «постоянное однообразное выпячивание своего «я», относил к Богу, который желал «обособить свою личность от черт иудейского характера»[29][29]
Там же, с. 163.
[Закрыть].
Важнейшее противоречие Нового Завета Гегель был вынужден обойти с помощью типичного софистического приема. Я имею в виду тот же проклятый вопрос о суде и наказании. Гегель отметил, что Иоанн вручает Иисусу право земного суда, а Матфей это право отрицает (см. Ин. V, 22, 27; Мф. XVIII, 11). Первое суждение было отнесено Гегелем к Человеку, второе – к Богу[30][30]
Там же, с. 157–159.
[Закрыть]. Но ведь Иисус мог либо судить, либо не судить, и никак не мог одновременно делать и то, и другое…
Иными словами, Гегель, хотя и против своего желания, выделил в облике Христа две несовместимые личности.
Мастер их разделил.
По-видимому, он прибег к единственной литературной операции, позволяющей сохранить и все ипостаси Иисуса, и основные черты его характера. Он разделил теологические и психологические пары между двумя людьми, причем на каждого из них хватило внутренних противоречий и рефлексий…
Чтобы не перегружать изложение, я опускаю детальные сопоставления игемона с его вторым – и главным – прототипом. Читатель может найти в Евангелиях черты вспыльчивости, властности, презрительности, эгоцентризма, переданные игемону (например, Мф. ХХIII; Лк. IX, 41; 11, 23), равно как и зеркальные черты, оставленные для Иешуа. Читатель может убедиться, что между героями поделены дуалистические элементы биографии Иисуса, например: плебейско-царское происхождение. Подобным образом расщеплены: военный вождь и странствующий проповедник; вельможа, на умащение которого затрачивается состояние, – и нищий; бунтарь – и ретроград, провозгласивший «кесарево – кесарю».
Операция, которую я назвал расщеплением образа Иисуса, весьма многозначительна. Это – абсолютно вольное толкование канонического сюжета, т.е. религиозная ересь. Но не атеистическое построение, ибо идея Бога сохраняется, причем на первый план выдвигается максима доброго бога. Она – идеальный стержень христианской религии, отличающий это верование от предшествующих. Нравственную победу Иешуа над Пилатом можно трактовать как символ торжества новой религии. Теологический план жестко связан с этическим.
Максима злого бога, сосуществующего с добрым, обозначает взгляды автора на европейскую этику. Последняя трактуется как внутренне противоречивая система. Древние нормы кары и жестокости доминируют над новыми нормами прощения – тогда как идея всепрощения доминирует над идеей неизбежного наказания. В понимании Мастера христианская этика дуалистична: ее нормативный свод опирается и на Добро, и на Зло.
32. Предварительный итог (об интерпретациях)
Метод анализа, примененный в данной работе, можно назвать имитационным. Он воспроизводит поведение дотошного читателя, начавшего чтение «с нуля» – без знания источников, – затем отложившего книгу, чтобы познакомиться с Евангелием и другими объявленными Мастером раритетами, и лишь тогда вернувшегося к чтению.
По ходу дела читатель вновь обращался к Евангелию, углубляя свои познания; открывал для себя все новые источники, следуя за булгаковскими значками, – пока не дочитал рассказ до конца. (В некоторых главах был применен и нормальный литературоведческий анализ, т.е. разбор произведения как замкнутого на себя мирка. Но и там мы на каждом шагу обращались к источникам, сочетая нормальный анализ с имитационным.) «Окончательная» интерпретация, полученная в предыдущей главе, опирается на весь текст рассказа и на все источники, заявленные Берлиозом. (Талмуд пока не интерпретирован до конца.)
Оставляя в стороне вопрос об истинности последней трактовки (как и всех предыдущих), хочу рассмотреть следующее обстоятельство. На каждом этапе аналитического – от ввода одной порции внешней информации до следующей порции – читатель видел некую художественную картину и создавал для себя интерпретацию рассказа, кажущуюся законченной. После очередного значка и очередного обращения к источникам все предыдущие картины несколько менялись. Появлялась новая суммарная трактовка, столь же убедительная, и так далее. Новые художественные глубины появлялись следом за новыми пакетами информации, затребованными Булгаковым, и каждый раз новелла как бы становилась иной. В первом приближении это происходило столько же раз, сколько воображаемый читатель обращался к основным источникам.
Но представим себе не абстрактного читателя-аналитика, а реальную аудиторию. Очевидно, большинство читателей незнакомо с тем или иным сочинением древних авторов; некоторые – с Библией; лишь малая часть помнит тексты всех источников настолько хорошо, чтобы по памяти сравнивать их с новеллой. Далеко не все захотят и смогут знакомиться с литературой по ходу чтения, тем более что книги древних – объемистые, неторопливые и довольно редкие.
Следовательно, большие группы читателей не приходят к последней трактовке новеллы, а останавливаются на той из промежуточных, которая соответствует их знанию вспомогательной литературы. В строгом понимании это опасный недостаток произведения – ибо оно затрагивает и трактует важнейшие проблемы этики и религии. Вернее, это было бы дефектом, если бы набор интерпретаций оказался лестницей с недостающими ступенями. Если бы незнание того или иного источника закрывало для читателя что-то по-настоящему важное в содержании рассказа.
По моему мнению, этого не происходит. Понимание генерального смысла рассказа о Понтии Пилате не зависит от знания источников. Последний тезис не может быть развернут здесь, в работе, ограниченной частью большого произведения. Мы попытаемся лишь проверить тезис на работоспособность: выявить структуры, не зависящие от уровня читательской подготовки, и убедиться, что в нравственном плане они более важны, чем высказывания, требующие от читателя знания источников.
Проделаем беглый анализ, имитируя на этот раз опрос читателей. Разобьем их на группы по знакомству с источниками, объявленными Берлиозом. Предположим, что в ходе чтения новеллы читатели не обращаются к вспомогательной литературе, и попытаемся воссоздать их понимание этики и христологии, т.е. смысловых составляющих рассказа.
Группа А: читатели, знакомые с Евангелиями понаслышке, а с остальными книгами незнакомые. Группа отождествит Иешуа с Христом, практически не заметив противоречий с Писанием. Новелла будет воспринята как захватывающий рассказ евангельского сюжета. Теперь разделим группу А на две подгруппы: верующих (А1) и безбожников (А2). Обе подгруппы посчитают рассказ соответствующим их убеждениям, и обе заметят, что Иешуа олицетворяет Добро.
Группа Б: читатели, знающие только Библию. Отступления от Писания будут замечены. Верующие (Б1) будут шокированы этими отступлениями, в особенности принижением Иисуса, но с удовлетворением отождествят Иешуа и Нагорную проповедь. Безбожники (Б2) смутятся последним сопоставлением, но в целом сочтут рассказ нейтральной реставрацией евангельского сюжета. Теология Мастера покажется, в общем-то, чуждой обеим подгруппам. Группу людей, знакомых с Талмудом, можно не рассматривать отдельно, так как применение Талмуда не меняет этического и теологического смысла вещи – оно свидетельствует лишь о широте взглядов Булгакова и о его принадлежности к школе известного философа В. С. Соловьева.
Группа В: читатели, знакомые с Библией и с «Анналами» Тацита. Отношение к теологии – то же, что у группы Б. Но теперь вероисповедное значение рассказа отодвигается на второй план. Главной становится тема доносчиков, «закона об оскорблении величия», и повествование обретает смысл трагического памфлета на действительность 30-х годов нашего столетия. Подгруппа В1 (но не В2) увидит ассоциации с гонениями на церковь в 20–30-х годах. Тема добра усиливается по сравнению с прочтениями А и Б, так как смыкается с темой гражданского мужества. (Аналогии со сталинским принципатом замечаются читателями всех групп, но предыдущие группы воспримут их менее остро.)
Группа Г: читатели, знающие сверх предыдущего Флавия и Филона. На этом уровне был проделан наш анализ. Теологическая составляющая усиливается по сравнению с группой В; христология Мастера становится, пожалуй, более приемлемой – и для Г1 и для Г2. Для Г2 – благодаря еретическому духу, для Г1 – вопреки ему, ибо связь христологии с этикой для читателя группы Г становится неразрывной. Оба звучания усложнились, усилились – и объединились. Рассказ стал во многом символическим; сама его многосложность как бы символизирует сложность темы. Зло превратилось в самостоятельную этико-религиозную категорию, но после этой метаморфозы Добро получило еще большее значение: высшего владыки надо всем, в том числе и над Злом.
Приведенная градация, разумеется, не претендует на полноту. Возможны и другие – в конечном итоге групп столько, сколько читателей. Но известно, что лишь узкий эксперимент приводит к обозримым результатам. Наш эксперимент – хотя он, без сомнения, не был чистым – позволил сделать три наблюдения.
Первое: всем читателям преподается идея добра и прощения как главная этическая ценность. В этом можно видеть генеральный смысл рассказа, его императив.
Второе: христология Мастера интерпретируется по-разному от группы к группе.
Третье: этика везде связана с религией, но связь эта необязательна, так как характер ее меняется в зависимости от мировоззрения читателя.
Итак, при несомненной вариантности рассказа в нем нашлась постоянная составляющая, заметная всем и важная для всех: добро и его спутник, терпимость. Мы наблюдали не самодовлеющую игру концепций, а обойму подрассказов, рассчитанную на обойму читателей. Повести из одного стручка, они построены вокруг этической идеи, вокруг программы-максимум, обязательной при любом прочтении. Напротив, религиозное содержание оказалось не императивным, расплывчатым – каждый трактует его так, как хочет.
Может быть, такое устройство рассказа случайно, может быть – намеренно (я склоняюсь к последнему мнению, но ни в коем случае на нем не настаиваю). Во всяком случае, евангелие Михаила Булгакова организовано в дидактическом плане много лучше, чем его прототип. Мастер не закрывал глаза на мучительный разрыв между нравственным идеалом и реальным состоянием общества – как и евангелисты. Но, в отличие от последних, он снял противоречие между идеей прощения и мстительным Судией («борьба и прощение» Гегеля). Прощение стало всегда-добром, наказание – всегда-злом, несмотря на его объективную необходимость. Это простейшая ценностная шкала помещена уже на внешнем уровне «А» и повторяется при любом прочтении, обеспечивая единство аудитории. Пусть мое сравнение покажется дерзким, но аудитория Евангелий никогда не была единой, в ней вычленяются группы с взаимно противоположной этикой – от квакеров до черносотенцев. Вследствие этической анархии Четырехкнижия его аудитория также анархична. (Особая тема: Евангелия – как раз такое произведение, которое требует внешней структуры для организации аудитории. Поэтому на его базе построились сотни церквей с различными этиками. Тема церкви-организации превосходно разработана в цитированной книге Б. Даннэма, к которой я и отсылаю читателя.) Продолжая аналогию, можно сказать, что ясная этическая идея создает демократическое единство читателей «Мастера и Маргариты».
Особое внимание, уделенное в этой главе отношениям между книгой и читателем, стимулировалось не только потребностями анализа. Как мне кажется, адресация к широкой аудитории (в том числе и элитарной) присуща всем лучшим вещам Булгакова. «Книга едина с читательской массой» – для него это утверждение было не трюизмом, а методическим руководством. Он видел перед собой не одинокого ценителя – под лампой с абажуром, – а огромный, битком набитый зал, в котором каждый человек вправе рассчитывать на внимание автора, на свой, ему адресованный подрассказ. И сумма этих подпроизведений, этих откликов на слышимые писателем голоса читателей ощущается в результате каждым читателем как необыкновенная глубина единого произведения. Можно сравнить его с китайскими прорезными шарами: в отверстиях одного сюжета просвечивают второй и третий, и конца им не видно.
Пожалуй, теперь можно считать доказанными тезисы, заявленные в 13-й главе (в той мере, в которой можно что-то доказать, обсуждая художественную прозу). Новелла о Пилате – не попытка реставрировать Евангелие и не полемика с ним, а самостоятельное, хотя и христианское по духу произведение. Это рассказ не религиозный и не антицерковный одновременно, ибо допускает и то, и другое толкование с существенными натяжками. Это рассказ и не исторический, так как во многом он скомпилирован из легенд. По жанру он, скорее всего, принадлежит к философской фантастике.
Однако же разбор нельзя считать законченным. В нем не рассматривалась важнейшая по теме рассказа связка с нашим временем: христологическая «лекция» Берлиоза. В ходе разбора позиция Булгакова не только не уточнилась, но стала менее понятной, ибо мы удостоверились, что его отношение к истории Христа, мягко говоря, своеобразно. С другой стороны, мы убедились, что примирение сторон исключено, ибо фундаментальное значение, которое Булгаков придает всей христианской мифологеме, а линии Иоанна и Нагорной проповеди в особенности, категорически несовместимо с начетническим атеизмом Берлиоза, с императивом безбожия.
Это необходимо, по любимому выражению Булгакова, «разъяснить». Прибегнем вновь к предположению, несколько раз себя оправдавшему: вся информация, использованная автором, имеет не одно значение, а минимум два. А мы не затронули огромный корпус источников, сообщающих исторические детали. Следовательно, есть открытый вопрос, есть неисследованная информация. Ей будет посвящена следующая часть.








