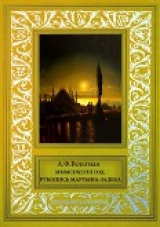
Текст книги "MMMCDXLVIII год
(Рукопись Мартына Задека)"
Автор книги: Александр Вельтман
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
– Я еду с тобою; верю словам твоим; ничто не удерживает меня здесь! – и вдруг опять задумалась. – А Лена? Дочь его, которая меня любит… У которой нет матери?
– Возьми ее с собою, – отвечал неизвестный на вопрос, который Мери невольно сделала сама себе.
– Хорошо; иди же в пристань; вот дорога… Я буду вслед за тобою…
Там встретит тебя Исаф, помни: Исаф, главный сторож острова. Эол не любит много говорить; тем для тебя удобнее быть на него похожим. Но, впрочем, и молчание одного редко похоже на, молчание другого. Но время молчания Эола говорят его вспыльчивые, но мрачные взоры. На устах его видна бывает только улыбка презрения; голос его отрывист и резок; походка медленна; всех корабельщиков называет он Ветрами; только те, которых предпочитает он и любит, пользуются его ласками и особенною свободою дружеского обращения с ним. Но на Нимфе Альзаме нет таких, которые были бы близки к Эолу. Иди же в пристань; не забудь имя Исафа; он тебя ожидает, а я пойду за дочерью Эола. Она должна, хотя в последний раз, подобно мне, увидеть отца своего!
Мери скрылась с виду. Неизвестный натянул на себя плащ, надел шапку и пошел по тропинке, ведущей к пристани…
Дорога шла холмами; приближаясь к берегу, поднялась она на возвышенность, с которой открылось все пространство моря и вся равнина Цитерская, ограничиваемая слева волнистым местоположением, покрытым садами и кустарниками, а справа отдельною горою, над которой возвышалась обзорная башня.
Неизвестный остановился. Прекрасная картина весенней светлой ночи, чистый, свежий воздух, одушевили его; он как будто утолял палящую жажду, всматриваясь, то в ясное небо, то в полное светило ночи, плывущее в высоте, то в бледный лик его, отражающийся и рассыпающийся в волнах моря. Перед ним, между скалистыми оградами залива была пристань острова; в ней стоял корабль, с движущимися на нем людьми и мелькающими огнями.
Насмотревшись перед собою, он оглянулся назад; но озаренная луной обзорная башня, как уединенный памятник, пробудила в нем неприятные чувства, и напомнила о заключении, о бедственных днях, которым не видел еще пределов. Отвратив взоры от башни и окинув извивающуюся дорогу к селению острова, в котором сквозь деревья видны были уже огни, неизвестный пошел медленными шагами к набережной.
Приближаясь к ограде, он увидел на каменной площадке, близ схода на воду, сидящего человека, а у лестницы корабельную ладью с несколькими гребцами.
Он мог уже различать голоса и слова.
– Какой попутчик дует в спину!
– Да, не нужно ловить боковых, Нимфа пойдет на одном востоке.
– Не отгадаешь, куда вздумает плыть Эол: может быть придется идти на пролом!
– Куда? Вот новость!.. Не в мастерскую ли землю? К Босфорану не дорога плавать Нимфам: там гребни и хвосты отобьют!
– Тишком, не размахивая крыльями, можно везде проплыть!.. Эол кажется слетал туда на днях. Чорт его знает, откуда явился он опять на острове?
– Тс! Кажется, идет! – сказал вдруг сидевший на площадке схода.
Неизвестный подошёл.
– Здорово, ветры! – произнес он громко.
– Здравствуй, начальник! – отвечали несколько голосов.
– Исаф здесь?
– Здесь, старый слуга твой!
– Готово?
– Все с нами, ветры в руках!.. Куда велишь? – прокричали гребцы, и готовы уже были принять мнимого Эола в ладью.
– Постойте! – сказал неизвестный. – Исаф, я жду Мери, она едет со мною.
– Мери? – возразил Исаф с удивлением. – Женщин хорошо возить из похода, а не в поход!.. Не на новое ли поселенье? Ты же, начальник, давно собирался в Океан. А старуха твоя?
Неизвестный молчал.
– Впрочем, зачем беспокоить старость, – продолжал Исаф, не дождавшись ответа. – А заключённый в башне?
– Едет! отвечал неизвестный.
– Едет! А, теперь понимаю: верно Северу поручил ты второй обоз… Не за свое только дело брался он, за сторожу… Каков заключенный… к иному мало двух чертей на часы!.. Знаем мы сторожа, да таим про себя! Иному в глаза не гляди– взглядом с ног сшибет; с иным слова не вымолви – разжалобит, всю душу вытянет; иного подле стены не сажай; иному железные цепи – стекло; иной сторожа вместо себя засадит, да еще уговорит опоясаться оковами. Был же такой случай!.. Каков язык… уверит хоть кого, что все равно: сторожем быть или заключенным; выслушай, задумайся, смотрит – он на воле, с крыльев тюремную пыль стряхнул, а ты сидишь в рогатке!..
– Исаф! – сказал неизвестный – иди скорее назад, скажи Мери, что я жду ее, но скажи так, чтоб никто не слыхал этих слов; про меня также никому ни слова: понимаешь?
– Понимаю! – отвечал Исаф подумавши, и пошел в остров. Приближаясь уже к дому Эола вспомнил он, что в связках ключей от башни и от подземельных ходов, которые он сдал Северу, был его складной, дорожный ножик. Столь необходимую для похода собственность, он и умирая не оставил бы в наследство недругу своему; и потому Исаф решился зайти сперва за ножом, а потом за Мери.
Он не застал Севера дома; но всех прочих домах его также не было.
«Верно в подземелье!.. Да что ж он делает по ночам с заключенным? Э! Не девица ли красавица у него под замками?… Должно быть так!..» – думал Исаф, и любопытство придало ему быстроты.
Торопливо вошел он в грот, вырубил огонь, зажег складной фонарь, который носил всегда за пазухой… и окинул взорами подземелье.
– Точно здесь! – сказал он, проходя отпертые железные двери.
Под сводами послышались, ему глухие стоны, но Исаф привык преодолевать внезапный ужас. Не останавливаясь, он прислушивался к ним и шел вперед. Хотя образы пленников колдунов и сети нечистой силы, живо представлялись воображению его, но редкие стоны казалось выходили из башни. Уже подошёл он к двери ведущей на последнюю лестницу. Стоны, утихли, но вдруг повторились: протяжнее, почти под ногами Исафа. Холодный пот обдал его, он остановился, свет ударил на пол… Кто-то лежал на земле.
«Это привидение, кажется, не поднимается само на ноги!» – думал, он, приходя в себя и рассматривая лежащего перед ним окровавленного человека.
– Север! – вскрикнул наконец Исаф. Волоса у старика стали от ужаса дыбом. – Я это предчувствовал! Не за свое ремесло, друг, ты взялся! Что, приятель, теперь поверил, что стены, замки да оковы плохая помога худому сторожу! Что, друг! Где твоя золотая птица? А?.. Эге, бедный! Как расклевала лицо!.. Пустой пистолет!.. Послал верно пулю вдогонку, да не по той дороге!.. Ну, приятель, жаль!.. Что-то скажешь?.. Кажется, еще есть надежда!.. Может быть, можно еще спасти тебя, да сказать Эолу, покуда не уехал; он же тебя любит как брата!.. Ну, не думал я, что ты в другой раз сядешь мне на плечи!..
С трудом довлек Исаф бесчувственного Севера до дома, принадлежавшего Эолу.
– Здесь ему скорее подаст помощь добрая Мери; а я, между тем, пойду сказать Эолу, – говорил он, складывая на крыльце бремя с плеч своих и входя в дом. В комнатах было темно; тишина перерывалась только одним храпением.
– Мери, Мери! – произнёс Исаф. Ответа не было.
– Мери! – повторил он громко.
– Мери! – раздался сиповатый голос. Никто не отвечал.
Часть шестая
И вы ропщете, волны морские? Жалуетесь друг на друга ветрам, или друг другу на ветры?
XI
– На острове крик!.. Там меня хватились!.. Едем! Ждать опасно! Мери, садись в ладью!
– Мери, Мери! Что будет делает бабушка, когда мы уедим? Что, как к ней придет Красный?
– Не бойся, Лена, у бабушки Врасанна!
– Здравствуй, атаман! – вскричали гребцы, когда мнимый Эол и Мери с Леной вошли в ладью.
Ладья покатилась. Подъехали к кораблю; спустили лестницу; все вошли на палубу.
Толпа людей с опаленными лицами, закаленных в бурях жизни и моря, стояла для встречи начальника Стаи Нереид. Резким голосом приветствовали они вступление его на Альзаму.
– Эол! – сказал кормчий, и приятельски протянул к нему руку. Многие также приблизились к мнимому атаману; но он предупредил намерение их.
– К месту! – вскричал он. Все исполнили приказ, кроме кормчего, который остался подле него и с сердцем произнес:
– Поздоровайся сперва с старыми служивыми, Эол! Еще успеешь плюнуть в море!.. Или забыл кормчего, который вынес тебя из-под громовой тучи?
– А, это ты?.. Помню! – отвечал неизвестный, опасаясь, чтобы подобный знакомец и старый служивый не снял с него Эоловой личины.
– То-то же! – продолжал кормчий, обиженный равнодушием. – За добро плати хоть памятью! Куда прикажешь ехать? На подводный камень или в пучину?
– По пути к Босфорану.
– К Босфорану? – повторил кормчий. – Это значит в огонь! С нашим же товаром приедем мы туда? С ланцетами и пиявками? Не худо! Только чтоб там самому не пустили крови!.. Впрочем, по мне все равно: голова за всё отвечай!.. Мое дело поставить на место!.. Эй, нетопыри!.. Боковой и Стрелу! Южному вкось! На милю от пристани… Волю!
Канаты затрещали, между парусами зашумел ветер; казалось, что берега мрачные, как тучи, двинулись с места и быстро удалялись от корабля.
Неизвестный, Мери и маленькая Лена спускались уже в каюту, для них приготовленную, как вдруг палубный спросил: какой значок выкинуть?
– Ты сам должен знать, какой приличен!
– Твой любимый Бой? Здесь еще можно помериться силами со всяким, кто придёт на вызов, и проучить того, кто вздумает не посторониться. За каналом притихнем! Там мы выкинем просто Белый.
– Хорошо! – отвечал мнимый начальник Нереид, и сошел в каюту. Мери и Лена были уже там.
Мери трепетала за него. Кормчий мог легко отличить ложного Эола от настоящего. Первый шаг на корабль открыл ей всю опасность положения, избавленного ею незнакома.
– Я не предвидела, – сказала она ему, – что мы встретим здесь этого страшного человека, которого Эол называл всегда правым своим крылом, без которого не вылететь бы ему из какой-то беды. С ним ты должен быть осторожен, обходиться ласковее; подобные люди дорого ценят память за одолжения.
– Трудно мне принять на себя все короткие знакомства Эола!
Мери села в углу каюты и успокаивала маленькую Лену, которая боясь корабельного шума, прижалась к ней со страхом.
Неизвестный ходил взад и вперед. Он кажется не позволял себе предаваться мыслям; рассматривал внимательно предметы, находящиеся в каюте: стену, украшенную различным оружием, койки, проч., но взоры его невольно остановились на песочных часах.
– Когда человек спокоен и доволен собою, тогда он не думает измерять, сколько времени еще осталось ему быть счастливым! Мери! если прошедшая жизнь твоя не тайна, то расскажи мне ее.
– Ни один поступок не упрекает совесть моей, что ж буду я таить? – отвечала Мери. Жизнь моя так единообразна и печальна, как поверхность моря… его волнуют только бури!
Неизвестный сел подле Мери внимать её словам:
– Голос отца и матери памятен мне, он говорил всегда сердцу моему что-то ласковое, приятное; но я не знаю отца и матери, я не видела их. Если б теперь привезли меня на ту землю, где я родилась, где провела четыре года первоначальной жизни, я не узнала бы ничего родного. Я еще была ребёнком, когда болезнь глазная лишила меня зрения; я была слепа и не знала никаких радостей кроме сладкого чувства, когда мать и отец сажали меня подле себя и лаская называли слепой любовью.
Однажды услышала я глубокие вздохи моей матери; отец мой прощался с нею; потом обнял он меня и сказал: прощай, Мери! таким печальным голосом, что я заплакала…
Это были последние слова его! С тех пор я не знаю, что сделалось с отцом моим. Печаль моей матери по сию пору отзывается в душе моей: она вздыхала, брала меня к себе на руки, и слезы её падали на мое лицо, когда я обнимала и утешала ее.
Вскоре после отъезда отца моего, какой-то незнакомый человек стал ходить к нам часто. Он искал меня так же, как и батюшка, но я боялась его. Часто слышала я голос его, но не разбирала, что говорил он; ибо он говорил всегда тихо. При нем мне делалось грустно, при нем матушка не обнимала меня. Я радовалась только тому, что она перестала грустить и плакать; потому, что и у меня болело всегда сердце, когда она плакала.
В один день услышала я опять горькие слезы моей матери; эти слезы показались мне горячее тех слез, которые, она проливала при разлуке с отцом моим. Незнакомец утешал ее; я подбежала к ней, она схватила меня в объятия и назвала себя несчастною…
После этого слова на веки погибло во мне сладкое чувство, которое я знавала прежде!
Мы куда-то поехали.
– Скоро ли мы будем у батюшки? – спросила я; мать моя сжала меня в своих объятиях, и, утопая в слезах, не отвечала ни слова.
Незнакомый человек приказал ей перестать плакать, и она перестала.
Как теперь помню я, что какой-то шум оглушал меня, мне было страшно; помню, что внесли меня на какую-то лестницу, стук и шум увеличились; у меня закружилась голова, и я упала без памяти. Это мгновение, как минута смерти, лишила меня всего!
Не знаю, что было со мною до того времени, в которое я очувствовалась; жар томил меня; я лежала где-то, без сил; слышала чьи-то незнакомые голоса, звала мать мою; но мне отвечали, что ее нет дома, что она скоро будет. Я плакала неутешно!
Мери остановилась, слезы покатились градом из глаз её; жалким голосом проговорила она:
– То были слезы на вечную разлуку с моею матерью! Она для меня уже не существовала!
У каких-то недобрых людей была я. Никто не водил меня, не смотрел за мною и не спрашивал: чего хочу я; часто бывала я голодна, но боясь, чтоб меня не бранили, молчала.
В одно время услышала я чей-то голос, он был приятен для меня, потому что давно не испытывала я радостного чувства и не знала ни чьей ласки. Этот человек подошёл ко мне и спросил меня, родилась я слепою, или лишилась зрения от болезни? Я помнила, что меня лечили от глаз, и сказала ему это.
– Если другие лечили тебя безуспешно, – отвечал он, то я могу быть счастливее других.
Не знаю, что сделал он с моими глазами – мне даже показалось, что он совсем их вынул, потом чем-то обвязал. После уже узнала я, что это были очки, в которых вместо стекол натянуты были двенадцать соединённых между собою прозрачных пленок; каждый день срывал он по одной и с каждым днем ощущение света более и более давало мне чувствовать, что незнакомец возвратил мне зрение.
Но зачем он возвратил мне его, когда уже со мною не было ни отца, ни матери? Слепота моя не мешала мне плакать; об них бы только плакала я!.. Но теперь зрение дало мне ещё столько новых предметов для слез, столько душевной скорби…
– Не плачь, Мери; милая Мери не плачь! – вскричала Лена и обняла ее.
Мери не могла удержать слез своих; крепко сжала она ребенка в объятиях.
– Не понимаю, какие чувства говорят мне о тебе, доброе дитя, но знаю, что только ты одна привязываешь меня еще к жизни! – произнесла Мери и осыпала Лену поцелуями.
Рассказ несчастной девушки тронул неизвестного до глубины сердца, но, когда он увидел взаимные слезы и ласки двух невинных существ, в глазах его также заблистало чувство прекрасной души.
– Не много остается мне досказать, – продолжала Мери, успокоясь от волнений, внутренних горьким воспоминанием, – но эти несколько слов будут заключать в себе то время жизни, по которому можно предсказать человеку, счастие, или бедствие предназначены остальному его существованию!
Когда открылись глаза мои, я не поняла, что со мною сделалось, мне казалось, что рассудок мой помутился. Я не могла отдать себе отчета, что со мною было прежде. Я стала жалеть о той темноте, которой меня лишили. В сердце моем происходило какое-то неприятное, болезненное волнение. Прежде жила я ощущением, слышала и помнила звуки голоса отца и матери, осязала прикосновение их, и была счастлива! После разлуки с ними одно только чувство давало мне знать, что я лишилась их; но получив зрение, я вдвойне испытываю потерю свою!
Добрый незнакомец думал подарить меня светом, и дал мне новое средство чувствовать несчастия!
Не скоро привыкла я различать предметы, долго поверяла я зрение осязанием. Все окружающее меня мне не нравилось. Дом и люди, у которых я жила, были чужды для чувств моих. Все мысли мои были заняты желанием взглянуть на отца и мать. Напрасно спрашивала я про них. Мне не отвечали, как будто вопросы мои относились до какого-нибудь сна, который, как игра воображения, никем не мог быть истолкован.
Таким образом прошло несколько лет; мне минул уже 12-й год; вдруг неизвестный человек приехал к нам… Он с удивлением взглянул на меня; не знаю, что во мне так поразило его. В доме у нас он был как хозяин; при нем обращение со мною всех в доме переменилось: все старались предупреждать мои желания. Как будто имея на меня какое-то право, однажды сказал он, что я должна ехать с ним; я не могла противиться, потому что я не знала: кто я и кому принадлежу; я даже рада была удалению от людей, которых я не могла любить. Он избавил меня от них, я чувствовала к нему благодарность.
Мы поехали морем. Вступив на корабль, я предалась невольной грусти; все чувства мои старались припоминать прошедшее; я слышала тот же шум, те же отвратительные звуки голосов; все было мне уже знакомо, хотя я никогда еще не видала корабля; но на нем не было уже подле меня того существа, которое я называла своей матерью, и которого ласки были для меня так дороги и сладостны; я старалась уверить себя, что-то был сон; хотела представить себе образ матери, но старания мои были напрасны. Она, кажется, не имела на себе земного образа, не могла явиться взорам; но являлась мне в образе мысли, в образе сладостного чувства, которое родители мои называли любовью.
Мы приехали на остров, с которым и тебя познакомило несчастие. Покровитель мой… Эол… поручил меня своей престарелой матери, и уехал неизвестно куда.
Там нашла я это милое дитя. Эол ласкал и любил Лену, как дочь свою, но кто была её мать, это было тайною для меня; может быть, подобно мне, она лишилась ее на веки!.. Я желала заметить…
Внезапное колебание корабля, скрип и треск мачт прервал слова Мери.
– Сложи крылья! – раздался на палубе резкий голос кормчего.
– Волю левому перекосному!
– Перебой в право!
– Туго!
– Что это значит? – спросила Мери.
– Мери, Мери! Кто это сердится? – вскричала Лена, и прижалась к Мери.
– Верно выходят тучи, – сказал неизвестный. – Это предосторожности; нам опасаться нечего; я уверен, что корабли Эола пройдут безопасно и между Вельтонскими морскими вихрями.
Качка корабля увеличивалась более и более, удары и плеск валов, о плечи Альзамы, сливались с треском снастей и с громкими голосами матросов.
Слова неизвестного не успокоили Мери. Непривычка быть на море во время опасности, начинала на нее действовать: голова её кружилась, какое-то беспокойное чувство взволновало ее, невольный трепет пробежал по ней как холодная волна. Неизвестный замелил это, хотел успокоить ее, но вдруг корабельный вестовой вошел в каюту.
– Эол! – сказал он. – С юга тучи, будет гроза, по Миртовому морю нет пути; ветер несет к полуострову.
– Тем лучше, войди в какую-нибудь пристань! – отвечал мнимый Эол.
– Кормчий взял уже путь к острову Соколиному; я думаю, мы успеем еще долететь туда; и кстати, там есть наши!
– Идти по ветру!
– Воля твоя! До сих пор на этих берегах для нас пристани не было! – произнес вестовой корабля, и вышел вон.
Едва он удалился, неизвестный обратил внимание на Мери. Положение ее было ужасно: то забываясь, походила она на мрамор; то очнувшись и вспыхнув, с ужасом всматривалась она во все, как в пустынное отдаление, и отыскивала предмета, который бы мог обратить её внимание; то обняв плачущую Лену и устремив взоры на неизвестного, она уподоблялась безумной деве, влюбленной в образ Архангела.
Неизвестный сел подле нее; она склонила к нему на плечо голову, взглянула на него, прижала к груди, слезы заструились из очей; но вдруг, как будто на миг возвращенная к памяти, вскричала:
– Болезнь убивает меня! Вот дочь Эола! Кто бы ты ни был, замени ей отца! – Беспамятство прервало её слова.
Лена обнимала ее и плакала; неизвестный с жалостию смотрел на больную.
Вошедший кормчий был свидетелем всего; он слышал слова Мери. – Не умрет! – сказал он громко, – это душа знакомится с морем!
– В какую западню приказал ты ехать? – продолжал он, внимательно всматриваясь в лицо неизвестного.
– К берегам Пелопонесским – отвечал он.
Кормчий вымерял глазами мнимого Эола.
– Да есть ли там место для нас? – сказал он злобно. – Впрочем, для нашего брата всякий честный человек уступит угол, даст надежный приют, куда ни день не проникнет, ни громовая стрела не пролетит!.. Не хочешь ли в пристань Напольскую? Там уж я был гостем! В заклепах Кастронских ржа съела на мне связку цепей!
– Иди исполнять, что приказано! – сказал неизвестный, удерживаясь от гнева.
– Ступай сам править кормой, молодец! – хладнокровно отвечал кормчий. – Кажется, ты не в свое стадо попал!.. Не думаешь ли отдать его под волчий надзор? Нет, друг! Как хочешь свисти, а не попадешь в ветры! Тяжела ворона для соколиного полета!..
Неизвестный не дал кончить дерзких слов, обнаруживающих тайну, он бросился на кормчего и схватил его за грудь.
– Товарищи! – вскричал кормчий резким голосом; но голос его слился с шумом бури, с треском снастей и с воем ветров.
На палубе все готовились встретить бурю. Туча, как чёрная полночь, покрыла уже все небо; только на северо-западе видна еще была светлая полоса, как трещина в стене мрачной темницы; но и она уже исчезла подобно погибающей надежде.
Нельзя было отличить моря от неба; только перед раскатом грома, в мгновение полета молнии, заметно было, что морские черные валы, оттеняемые струями пены, поднимаются как горы, а черные тучи, волнуясь, несутся от юга к северу.
Вой ветра, падение волн и перекаты грома заглушали голоса отчаянных пловцов; но они не в первый уже раз недели пламенное небо и разъяренное море.
– Что-то скажет теперь наша старая Суратская Нимфа? Кряхтит!
– Не чудо, ей скоро минет сто лет!
– За то не даром ей прозванье вековая; ребра из Телиму, а одежда из нетленного Наньму.
– Эге! ломит становую!
– Где ж кормчий?
– Чорт его знает!
– Кажется пошел спросить у Эола, куда плыть.
– Время спрашивать воли начальства; теперь, но всем грозная воля бури.
– И то правда: в царстве небесном да в беде – все равны!
– Слышишь, как бранится! Только не приведи Владычица, чтобы она съездила своей огненной плеткой по нашим ребрам! – прожжёт кожу проклятая, засмолит волоса!
– Да что ж, шутит с нами кормчий?
– Да и Эола как будто нет на корабле?
– Ломит, ломит и прочь тряпки! Прочь крылья! – раздалось вдруг несколько голосов на палубе. Порыв вихря взнес корабль на огромный вал, как на скалу, и, сбросил оттуда в бездну. Как будто со Скардонского порога упали яростные воды на палубу Альзамы, и матросы онемели.
– Народы! – раздался повелительный голос.
– Ветры! – повторил тот же голос.
– Кажется, голос Эола. Пойдем, здесь делать теперь нечего, работа кончена.
Несколько человек бросились в каюту. Там Мери лежала без чувств, на шее её повисла маленькая Лена. Кормчий плавал на полу в крови, а мнимый Эол, показывая на него рукою, сказал к вошедшим:
– Не хотел повиноваться! Бросьте; его в море, там он будет волен!
Молчаливо и быстро как цейлонский тигр, который бросается на свою жертву и влечет ее в логовище, пираты схватили труп кормчего и повлекли на палубу. Там дали они свободу и языку и чувствам своим, которые пробудил в них неожиданный конец кормчего и ужас бури, угрожающей общей гибелью.
В мраке тучи вспыхнула молния; громовая стрела пронеслась над Альзамой и осветила страшное лицо покойника.
– Вот он, наша зеница! Только его и видели!
– Прощай, друг! Упился смертию, опохмелится на том свете!
– Прощай, приятель! В широком море, не в могиле – велик простор!
– Ступай, брат, восвояси, будь здоров! Вечная память, вечная память, вечная память!
– Ну, дорогу, товарищи.
С сими словами альзамцы раскачали кормчего и хотели перебросить чрез обвод корабля, но налетевший вал ударил в корабль, волна хлынула, окатила всех, и выбила покойника из рук; он грянулся о помост.
– Море не принимает!
– Не легок!
– Ну, еще!..
– Раз, два, три! Ага!.. Теперь пошел на всех парусах!
– Где-то ему будет пристань?
– В какую ни попадет, везде один прием!
Долго стояли еще они, придерживаясь за палубный обвод; когда вспыхивала молния, всматривались они в пенистые валы, чтоб взглянуть еще раз на труп кормчего, в белой одежде, облитый кровью и перепоясанный красною шалью.
Не веря чужим предрассудкам, не молясь, и не считая покойника жертвой принесенною разъяренному морю для спасения жизни всех прочих, они однако же удивились, заметив, что море стало утихать, а на востоке небо отделилось от моря.
– Смотрите! – вскричал один из них, – не даром море не хотело принять его: налег на море… и притихло! Ай, друг!
– Чу, идет!
Мнимый Эол показался на палубе.
– Опасность, кажется, прошла? – спросил он громко. – Кто из вас может заступить место кормчего?
– Только один и был у нас на помощь ему, вот он!
– Кормой править, пожалуй, а звезд считать не умею! – отозвался тот, на которого показали.
– Мы обойдемся без звезд, берег близко. Готовьте паруса! В первой пристани я найду, кем заменить кормчего.
– Сбудешь с рук голову, другую не скоро наживёшь! – говорили шепотом между собою альзамцы.
Прояснившееся с востока небо осветило отдаленный остров, лежавший прямо на север. Корабельщики всматривались в берег, который был виден.
– Это, кажется, Георгий, нижняя островская караульня!
– Ну, здесь молча не пройдешь!
– Выбирай, что честнее: или схватку на чья взяла, или прячь железо и свинец под спуд, да под пестрым флагом объявляй себя торгашом!
– Оружие под спуд и выкинуть купеческий флаг! – сказал неизвестный, вслушавшись в слова корабельщиков.
Все с неудовольствием посмотрели друг на друга.
– Начальник! – сказал один из матросов, – чтоб наша Нимфа нас не выдала; она не похожа на купеческое судно. Не лучше ли пройти мимо, или наплевать в глаза Босфоранским морякам: двадцать четыре ядра закачены в дуло пусть просвистят им в уши, если вздумают запрашивать: кто и откуда!
– Что приказано, то исполнять! – отвечал он, и сошел с палубы.
– Этого с нами не случалось прежде: Омут не водит дружбы с домовым и с лешим.
– Чего доброго, пожалуй еще потребуют за проезд платы.
– В моем кошеле, кроме железной полосы ничего нет!
– Если пристанут, то и пущу в ход свинцовую монету!
Так толковали между собой отчаянные альзамцы, нехотя сдвигая орудия, скрывая заслонами корабельные амбразуры, и снося орудия под спуд.
Между тем Альзама, на легких, медленно приближалась к острову. Выставленный боковой парус стал склонять ее в сторону, по направлению к острову Зее. Пираты хотели лучше пройти остров Георгий мимо, нежели назвать себя купцами. Но покушение их было уже поздно: с острова заметили Альзаму, и военный полет плыл к ней на встречу.
С полета подали знак для переговоров выстрелом.
– Выставьте купеческий, да отвечайте!
Громкий выстрел из орудия потряс Альзаму; ядро просвистело и впилось в полет, высланный с острова.
– Ну, чорт его дери, улетело! Я и забыл, что орудие заряжено на бой! Холостыми сроду не стрелял, даром пороху не жег! – сказал стрелец.
Островской сторожевой полет принял выстрел за вызов. Тремя выстрелами отвечал он; с острова двинулся военный корабль ему на помощь.
– Ну, заварилась! – вскричал палубный. – Выдвигай орудия! Доставай клад из-под спуда! Да якорь в море! Крепче стоит, вольнее рукам!
Между тем как альзамцы распоряжались по обычаю, сообразно с обстоятельствами, неизвестный возвратился в каюту. Мери уже очувствовалась, припадок прошел; она была спокойна. Лена, не зная, как выразить свою радость, ласкала ее и обнимала.
– Мери, скоро будем мы под надежным кровом – сказал неизвестный, – где ограждено спокойствие каждого любовью и честью; там я поручусь, за счастие Мери, если воля её рассудка сильнее, навыка к ложной причине слез, и если, в память отцу и матери, она хочет исполнить желание их, чтобы Мери была счастлива.
– Если счастие одно для всех, то я исполню их волю; если ночная птица может любить день, я буду счастлива! – отвечала Мери.
– Мери, – сказал неизвестный, – привычки и наклонности человека есть приобретение, сделанное им в продолжении жизни; кто ж запретит ему сбросить с себя эту ношу, если она тяготит его и лишает спокойствия.
– И память есть приобретение; но эту ношу не сбросить с себя!
– В памяти, как в зеркале, отражаются те предметы, на которые оно наведено. Отклони его от ложной цели.
Вдруг раздался выстрел.
– Мы вступили в пристань!
Новый выстрел с корабля потряс стены его; в след за сим еще несколько выстрелов; слышно было, как ядра гудели в воздухе.
Неизвестный остановился в недоумении.
– Что это значит? – спросила беспокойно Мери.
– Боюсь! – закричала маленькая Лена.
Шум, стук и всеобщее движение на Альзаме заглушилось громом новых выстрелов с корабля.
– Это встреча с каким-нибудь из моих кораблей! Тем лучше!.. Если счастие будет благоприятствовать, то мы спасены. Будь спокойна, Мери!
Он хотел идти, но Мери удержала его за руку.
– Помни, что ты не Эол! – вскричала она.
– Я очень помню, кто я! – отвечал он, сорвал со стены пистолет и палаш, и выбежал на палубу.
Там уже царствовал беспорядок.
– Ну! Кончено! – кричали несколько голосов на Альзаме, – последнюю надежду вашу перебило ядром!
– Не подарим же жизни своей!
– Готовь багры! Бросай лапы! Притягивай воротом!
И вот, корабли царские сцепились с Альзамой. Как львы бросились альзамцы на неприятелей, битва загорелась. Неизвестный, в толпе сражающихся не наносил удары, но только отражал их. Он подобен был Ясону, выброшенному на берет Делиона, принятому в мраке ночи за врага, и сражающемуся с союзником своим, для того только, чтоб не наменять закону чести, который повелевал скрывать свое имя во время битвы.
Но он уже утомился; царские воины окружили его.
– Друзья! – вскричал один альзамец. – Сюда! На помощь начальнику!
Несколько человек бросились на воинов и отбили его; но пуля впилась в неизвестного и он упал.
Альзамцы дрались как непобедимые; но число превозмогло: большая часть из них была уже перебита, несколько человек раненых должны были отдаться в плен.
– Где ваш атаман? – спросил их начальник царского корабля – У нас нет атамана, мы не разбойники! Берем только с бою!
– Кто ж у вас главный?
– Есть у нас начальник, вот лежит он. Если б Эол был жив, не взять бы вам его руками! – а теперь возьмёте.
– Эол? – вскричали все на корабле царском. И толпа бросилась смотреть на плавающего в крови мнимого Эола.
– Если в нем есть еще признаки жизни, – сказал начальник царского корабля, – то сберегите ее. Вслед за вестию к Царю о нашей добыче, мы и его отправим в Босфоранию.
XII
От берегов Савы, по каменной, прекрасной дороге, подымаясь на отлогий скат горы, ехал длинный ряд карет, сопровождаемый значительным отрядом конницы.








