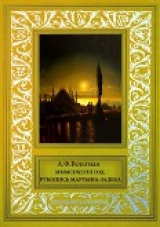
Текст книги "MMMCDXLVIII год
(Рукопись Мартына Задека)"
Автор книги: Александр Вельтман
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Часть третья
Он жаждал достигнуть до той высоты, с которой можно окинуть одним взором всю землю, и раскаялся – земля показалась ему черным пятном на ризе вселенной.
V
На другой день солнце блистательно восходило над вершиною Бугорлу, при подошве которой лежала некогда древняя Халкедония; тень от Леандровой башни легла поперёк пролива; шум пространной Босфорании проснулся.
Еще не успело пробить на городской башне восьми часов, как от всех уже мест и направлений, дорожки к старому главному дворцу были проложены и утоптаны заботливостью людей, без которых не стоит ни одно царское здание.
В несколько мгновений, все пустые покои сделались жилыми; и все, на своем и не на своем месте, ожидало появления Властителя. Царский дворецкий, близ дверей опочивальни, давно уже ждал пробуждения Иоанна и звука колокольчика; но вдруг к удивлению, его, громко раздалось:
– Филип!
Дворецкого звали не Филипом.
– Филип! – раздалось снова из царской опочивальни.
– Кого зовёт Царь? – спросил он у двух вестовых охранной стражи.
– Не знаем! – отвечали они.
По всему дворцу пошли искать Филипа, известного Царю; и наконец нашли его в сарае, взваливающего на себя вязанку дров. Это был Филип истопник. Придворные слуги окружили его и торжественно повели во дворец. Не смотря на уродливость его, на одежду и низкий сан, двери пред ним отворились, и он боязливо вступил в опочивальню царскую.
Дворецкий прислушивался в дверях; но Иоанн не так громко говорил с Филипом истопником, как произнёс его имя. Вскоре Филип вышел.
– Что? – спросили его.
– Властитель приказал подать себе завтрак и вина.
– Завтрак и вина? – повторил дворецкий с удивлением. – Вина, которого он никогда не пил?
– Да – отвечал истопник Филип – приказал мне скорее принести завтрак и вина.
– Тебе?
– Да, никому другому кроме меня не велел он входить к себе без приказания.
Дворецкий пожал плечами, и хотел исполнять волю Иоанна.
Чрез несколько минут золотой поднос отдан был на руки новому слуге царскому, и он отнес его в опочивальню; возвратясь, он объявил, что Царь требует к себе доктора, который на днях приехал в Босфоранию.
– Не болен ли Царь? – спросили все с участием.
– Верно не здоров, – отвечал Филип, – не может ни говорить, ни смотреть на свет.
Собрали всех дневальных, чтоб разослать их по Босфорании искать доктора, которого требует к себе Властитель. Но по общему совету, Филип истопник должен был отправиться в царскую опочивальню узнать об имени его.
Филип скоро воротился, и объявил, что Властитель не желает толковать своих приказаний.
Нечего было делать; все дворцовые дневальные и рассыльные поскакали по городу искать доктора, который на днях приехал, неизвестно откуда, где остановился и как называется.
В десять часов утра, по заведенному порядку, дворцовая сборная палата наполнилась царедворцами и сановниками правления, как нижний Египет водами Нила. Некоторые пришли с огромными бумажниками. Важность дел ясно выражалась на их лицах; казалось, что под рукою у них были таинственные книги судеб.
Удивление резко было отпечатано на всех лицах, как страсти на рисунках последнего издания Лаватера. Рассказы про внезапный отъезд Властителя из долины гротов, про неожиданное переселение в Старый дворец, являлись во всех возможных одеждах, какие только своенравное воображение может себе представить. Никто не постигал странностей и перемен.
– Это должна быть болезнь, известная под названием: «черная немочь», – произнес важно главный придворный доктор, тронутый тем, что Иоанн призывает для пользования себя неизвестного медика, иностранца, тогда, как он, придворный медик, составил несколько томов подробного изложения болезней, коим могут быть подвержены земные Владыки, и вернейших способов предупреждать и лечить оные. Сия книга прославила имя сочинителя, хотя ему не удавалось видеть в продолжении всей своей жизни больного Царя; ибо Иоанн знал, что здоровье зависит от умеренности, деятельности и осторожности, а не от трав и минералов.
– «Черная немочь», – повторял он важно, и хотел уже сделать подробное описание сей болезни; но приезд Верховного Совещателя прервали слова его, и общие суждения о болезни царской.
Вельможа вошел в сборную палату; всеобщее уважение к его летам, достоинствам и званию, выразилось мгновенной тишиной.
Он спросил о Властителе. Рассказы о событиях утра увеличили удивление любимца Иоаннова.
– Мы не должны судить о воле и намерениях Властителя, который облечен доверенностью народа, – произнёс он важно. Уверенный, что вход в царский кабинет для него никогда не прегражден, он, не останавливаясь в сборной палате, прошел чрез длинный ряд дворцовых покоев, приблизился к опочивальне, и ожидал уже, что Вестовой отворит ему двери; но слова истопника Филипа: – позвольте, Ваша Светлость, Государь Властитель не приказал впускать без доклада! – поразили его как громом.
После продолжительного невольного молчания, он приказал доложить: угодно ли Государю Властителю принять первого Верховного Совещателя, с бумагами, известными Его Величеству.
– Государь приказал оставить бумаги до следующего дня, – сказал Филип, возвратясь из опочивальни.
– До следующего дня? – произнес с удивлением Верховный Совещатель, – до завтра?.. От 24 часов времени часто зависит честь Царства. Отнеси этот бумажник к Государю Властителю; если Его Величеству не угодно видеть меня, то по крайней мере, не угодно ли будет ему взглянуть на эти бумаги.
Филип понес бумажник к Иоанну.
– Чрез час будут они рассмотрены и подписаны, – сказал он выходя оттуда, – но Государь Властитель приказал Вашей Светлости принести к нему все подписанные им вчера бумаги.
– Подписанные вчера бумаги? Вчера был не мой день. Внутреннее управление до меня не касается!
– Что ж прикажете доложить? – спросил Филип.
– Доложи Государю Властителю: какие бумаги угодно ему иметь?
Главный докладчик, истопник Филип, отправился снова в опочивальню. Четвертый выход его также был скор, как и прежние.
– Государь требует последний указ, подписанный Иоанном.
– Указы не по моей части, но я дам знать о воле Властителя Совещателю внутреннего управления.
С сими словами Верховный Совещатель удалился. Переговоры с Иоанном чрез посредника Филипа истопника ему не нравились.
После удаления вельможи, Филип, утомленный новою должностью, отер пот с лица и сел подле дверей в широкие кресла. Он уже был случайным человеком, а случайный человек как бы ни был туп на понятия, но, стоя выше других, должен же что-нибудь вообразить о себе, вывести из положения своего тьму заключении о своем уме, о своих достоинствах и о своем превосходстве над другими. Кто ж не согласится, что для задумавшегося Филипа о своих достоинствах, вопрос Дворецкого: откуда он родом, и кто его отец? был слишком неприличен, припоминая ему, что отец его был храмовым сторожем, а мать просвирнею… К счастию звон колокольчика избавил его от обязанности отвечать, и докладчик Иоанна бросился в царскую опочивальню, потом стрелой в сборную палату, и запыхавшись, произнёс отрывистым голосом: где же Доктор?
– Вот три врача, – отвечали посыльные, – все трое приехали они вчерась в Босфоранию, но ни один неизвестен лично Государю Властителю.
– Как зовут их? – спросил Филип; но привыкнув уже к торопливости придворной, он не дождался ответа и сам обратился к ним с тем же вопросом.
Двое из приведенных потомков Гиппократа начали что-то рассуждать на неизвестном Филипу истопнику языке, а язык третьего был ему понятен.
– Как тебя зовут? – повторил Филип.
– Олоф Эмун – отвечал доктор.
Филип отправился к Властителю. Вскоре к Иоанну позвал он Олофа Эмуна. Похожий на дубового Капко-Ороло, любимого слугу глиняного бога Кэрмэта, Эмун покатился по длинному ряду дворцовых покоев, и пыхтя вошел в царскую опочивальню. Там был полусвет. Иоанн сидел подле ложа в глубоких креслах.
Из блистающих светом и драгоценностями покоев, Эмун вошел, как будто под покров ночи. Он приблизился к мраморной статуе, представляющей победителя Востока, Юга и Запада, и поклонился ей низко.
Неподвижность её и громкий вопрос справа: как тебя зовут? смутили его несколько; но доктор не совсем потерял присутствие духа: он надел очки, осмотрел комнату, отыскал настоящее положение Иоанна, и повторил почтительный поклон, произнеся робко:
– Олаф Эмун. Откуда и давно ли здесь?
– Сего дня только приехал из Холморугии – отвечал Эмун уродливым произношением.
– Умеете лечить?
– Все болезни, какие угодно.
– Ложь! Мнимой потомок Эскулапа!
Эмун затрепетал, отступил несколько шагов назад.
– Где у тебя средства против болезни, которой корень скрыт в самом создании человека? Дай мне его! Где у тебя средство против мятежной мысли, которая родится, чтоб быть мучительницею вечною, мысли, которая есть бессмертный плод смертного? Вынь ее из головы моей своими пальцами, я озолочу тебя! Где у тебя средство против желания? Убей желания, не убив человека, я буду тебе молиться!
Властитель умолк.
Испуганный Эмун стоял, потупив глаза.
– Смотри, чем я болен – умеешь ли ты сократить биенье пульса?
Трепещущий Эмун прикоснулся к пульсу Иоанна; долго думал, хотел что-то говорить – и не смел.
– Не трудись делать своих заключений! Внутренний мой огонь хочешь ты измерить своим холодным правилом? – оно ложно. Твоя помощь нужна мне только для глаз и для груди; у меня болят глаза видишь?.. Дай мне зонтик и примочку….
– Для груди пилюли? – прибавил Доктор.
– Да, утоли этот жар пилюлею! Наведи на меня сон, которой бы уподобился жизни бесчувственного и равнодушного! Ступай, готовь лекарство и будь безвыходно при мне.
– А жена, и дети, Ваше Величество? – спросил. Эмун, низко поклонившись.
– Жена и дети пусть также живут здесь – отвечал Иоанн.
Успокоенный Эмун, на подобных основаниях, готов был вечно сидеть на хребте Кавказском возле Прометея и залечивать его раны.
Почти бегом отправился он в сборную палату.
– Кто здесь дежурный по части Медицины? – спросил он с важностью, как уполномоченный Властителем.
– Здесь есть главный придворный медик, – отвечали ему.
– Где он?
– Я – он! – сказал сердито придворный медик.
– А! хорошо; прикажи сей же час позвать ко мне аптекаря.
– Ты здесь не в своей атмосфере! она для тебя вредна, – отвечал придворный Доктор.
– Я умею очищать атмосферу от миазмов! – сказал Эмун надувшись.
– А я умею таким уродам вскрывать череп и очищать мозг! – вскричал придворный медик и вышел из сборной палаты.
Терпеливый Эмун отправился к своему семейству в гостиницу. Там, в несколько мгновений приготовил он примочку, зонтик, пилюли, и сделал нужные распоряжения для переселения во дворец. Жена его, три дочери, два сына и кухарка уложили весь домашний скарб в повозку, приставили к дышлу двух мулов Богемской породы, надели на них шлеи, и двинулись с места.
На древнем языке, который славился чистотой и приятностью, и сохранился до сего времени, как звучный древний отголосок в стенах Тавроменских, дорогой сочиняли они и поверяли друг другу планы для будущей экономии во время роскошной жизни, но дворце.
Между тем Иоанну принесли требованные им бумаги с собственноручною подписью. Долго занят он был делами; но кончив оные, и отослав Государственный бумажник к первому Верховному Совещателю, потребовал к себе Эмуна.
Эмун представил Иоанну необходимость держать строгую умеренность в пище и питье, и хотел назначить диетный стол; но, к удивлению, его, Иоанн предпочтительно потребовал блюд жирных и раздражительных, и Архипелагского крепкого вина. Не смея противоречить воле Властителя, Доктор заметил только, что часто в болезнях бывает ложный аппетит, который невозможно отличить от настоящего без особенных и глубоких познаний в медицине.
– Ложный аппетит, – сказал Иоанн, – есть он и для духа! Ненасытное честолюбие стремится в высоту, и что же? Над ним час от часу более и более отверзается беспредельность, а под ним растёт бездна!..
Отрывисто остановив речь свою Иоанн задумался.
– Причина ложного аппетита, – продолжал некстати Эмун, – состоит в расслаблении органов, извлекающих соки для питания тела; голод и жажда есть ничто иное, как органическое объяснение потребностей тела; и потому, тело, не удовлетворяясь пищею принятою в желудок, не перестает объяснять свои требования посредством голода и жажды.
Не отвергая решительно мнения Эмуна, Иоанн кончил обед и вышел на набережную галерею, с которой была видна вся пристань Босфоранская. Корабли, как стадо всплывавших на поверхность моря китов, стояли рядами, а мачты, как лес Озугилы, после двухлетних пожаров, чернелся посреди светлых вод залива. За пристанью гостиные дворцы возвышались посреди садов над правильными рядами строений; они были светлы, как нарисованные на темном грунте близких гор, покрытых лесом. Прямо, за Босфором виден был берег Азии; издали он, казалось, усажен был цветами; но это был не цветник, а фарфоровый увеселительный город, построенный со всем великолепием и причудами вкуса Юглу-чжин-дзан-ю, усаженный рядами тополей и огороженный узорчатыми решёткам.
Босфор был наполнен небольшими судами и лодками, которые беспрестанно перелетали с одного берега на другой. Иоанн приподнял зонтик, и внимательно рассматривал очаровательную природу, украшенную всей роскошью зодчества; можно было подумать, что он искал места, где бы создать еще новое чудо. Попечительный Эмун прервал его, высокие соображения. Уверенный в благотворном действии пилюль своих, как Монголец в могуществе деревянного кумира Юлкурсуна, бога целителя он, упрашивал Иоанна принять их, и не напрягать очей своих на предметы, в которых ярко отражалось солнце.
– Я сам знаю, что мне опасно, и где необходима осторожность. Если б ты дал мне лекарство, которое наполнило бы чем-нибудь душевную пустоту и осветило бы в глазах моих мир, я был бы тебе благодарен; но, что мне в твоих пилюлях, разрешающих или сжимающих, производящих испарину или закрывающих поры. Однако же, я решаюсь принять твою пилюлю, только в старом вине с берегов Рейна; оно подействует на душу.
– В вине? – вскричал удивленный Эмун; но, не смея противоречить Властителю, и зная, что сильный позыв больного на что-нибудь, есть требование самой натуры, он покатился исполнять требование натуры. Вскоре предстал он пред Иоанна, как в рыцарские времена мундшенк Германского Императора, с бокалом, на дне которого жили тогда главные удовольствия жизни.
Иоанн наполнил кубок, бросил на дно пилюлю и залпом опорожнил.
– Теперь поедем с тобою по городу. Я не привык сидеть в четырех стенах – они всегда похожи на темницу.
Повеление Властителя Эмун передал Филипу; от Филипа пронеслось оно как стрела к дневальным; от дневальных, как солнечный луч к главному конюшему; от главного конюшего, как сильный запах, распространилось между кучерами и слугами царскими; и вот, через несколько минут, извещение, что колесница готова, дошло, по тому же пути, подобно Генетайскому отголоску, до слуха царского.
Царский дворецкий подал Иоанну бархатную коронную шапку, накинул на него легкий плащ. Властитель скорыми шагами пошел через ряды покоев дворцовых. В сборной палате сановники и царедворцы ожидали его выхода, и встретили низким поклоном. Но молчание и невнимание было ответом.
У подъезда стояла уже Софийская коляска, запруженная двумя Иэменскими жеребцами, под сбруей, унизанной перлами Бах-арейна. Иоанн сел в коляску, посадил с собою тучного Доктора, и кони белые как снег, и гордые как павлины, запряженные в колесницу Юноны, поднялись на дыбы и пустились по широкой площади.
Равнодушный к приветствиям и восклицаниям народа, Иоанн пронесся по Серальской улице, выехал на набережную, и мимо дома Сбигора-Свида велел ехать тише.
Слухи о событиях во дворце еще больше увеличили вообще любопытство видеть Иоанна.
– Смотри, сын Эскулапа! – вскричал он, приподнимая зонтик и обратив взоры на балкон, на котором стояла Клавдиана, – смотри, вот лекарство от всех болезней! Смотри на эти глаза!
Но незамечательный и равнодушный всему прекрасному в природе, Эмун думал только о глазах Иоанна. Он заботливо взглянул на них, и заметив пылающие взоры, принял их за воспаление, и советовал Иоанну не смотреть на свет.
– Молчи, сова! – отвечал Иоанн, проезжая мимо Клавдианы и не сводя с нее очей.
Все заметили внимание Властителя к дочери Сбигора. Черные глаза его показались веем красными и больными, перемена в лицо также была замечена; и тогда, как он был уже во дворце, прогнал от себя своего нового медика, предлагавшего ему пилюлю, и погрузился в то состояние, в котором ленивый Эндимион желал пробыть несколько столетий, весь город был уже в движении, перенося с одного конца на другой новость, от которой зависело столько перемен.
В тот же еще день мелкие души, как крылатые насекомые, слетелись жечь крылья свои на свет Сбигорова дома, который был освещен несравненно ярче обыкновенного.
VI
Между тем, как Иоанн, к удивлению, всей Босфорании, совершенно переменяет образ своей жизни, а к удивлению, попечительного Эмуна запивает лекарственные пилюли масляным вином Критским, резким Цоллернским, пенистым Лианским, и другими слезами винограда, которого первородные кисти, на высотах Карк-Уры, были причиною возрождения греха после Всемирного потопа, летопись обращает внимание наше на один из небольших Архипелагских островов.
Повторим слова предания.
Несколько веков спустя после того времени, когда на всем земном шаре было только еще два человека, Цитерея, дочь Владетеля одного большого острова на Средиземном море, – но не того острова, который отделял сие море от Атлантиды, обратившейся в последствии в Ливийские песчаные волны, – влюбилась в сына пастуха златорунных овец отца своего. Хотя в то время красота пастухов считалась еще лучшею и самою правильною красотою; но всякий, одаренный способностями человеческими, может предвидеть все препятствия и горе, которым подвергается дева высокой породы, жертвуя сердцем своим породе происшедшей от Зулоса.
Ничто не могло бы быть ужаснее печали Цитереи, если б решительность не превышала в ней обдуманности.
Когда человеческий род был еще младенцем, тогда и женщины были немного проще, доверчивее и добрее нежели теперь. Тогда голос природы был в них повелительнее, кровь 30-ю градусами горячее; и потому сын пастуха, встретив Цитерею в заповедных лугах, сказал ей:
– Пойдем со мною в Альмовую рощу!
– Нельзя! – отвечала она. – Я Царевна, а ты пастух.
– Ну, так поедем на другой остров, там я и сам буду Царем!
– Хорошо! – произнесла Цитерея, и пошла приготовляться в дорогу.
Между тем любимец её соорудил Ладью в четыре шага длиною и в полтора шириною. Когда все было готово, Царевна оставила дом родительский. При сиянии полной луны вышла на берег; сердце её сжалось, она вздохнула, уронила несколько слёз на песок, на мелкие камни, на раковины, и вступила в ладью. Кормчий отчалил от берега и пустился стрелою в море. Вскоре он устал, опустил весла и стал смотреть на Цитерею, которая задумавшись сидела против него. Как единственный попечитель, который остался ей на земли, он поставил себе обязанность утешить, успокоить Цитерею, сел подле неё, вздохнул и не мог говорить. В это время челнок колыхнулся; Цитерея вскрикнула, и испуганная, невольно прижалась к своему любимцу, а он невольно сжал ее в своих объятиях.
Как хорош был тогда мир, когда всеми действиями человека располагала сама природа!
Погрузившись таким образом в сладостную забывчивость, они не хотели уже выходить из этой бездны блаженства. Челноком взялся править ветер, всегда готовый исполнять сию обязанность, если кто имеет к нему полную доверчивость. Счастливцы утопали в море восторгов, не заботясь о том, что есть возможность утонуть и в Средиземном море.
В один прекрасный день, солнце точно также светило, как и в первый день от создания мира. Цитерея и единственный её попечитель, сидели друг подле друга и ласкали двух голубков, воспитанников Царевны, не забытых дома; вдруг, неизвестно с когортой стороны, налетели тучи, небо покрылось грозою, ветр заревел, челнок заколыхался.
Ни один из древних поэтов не взялся бы описать того ужаса, в котором тогда была Цитерея.
Как ни велик был страх Царевны, но её жестокий любимец не хотел разделить его с нею, вопреки закону любви: все пополам. Однако же он готов был выскочить из ладьи, чтоб бороться с разъяренными волнами, которые осмеливались прикасаться к Цитереи. Положение её было точно горестно: кроме крупных каплей проливного дождя, на грудь её падали и крупные слезы раскаяния. Но все прошло благополучно. Небо прояснилось, солнце ярко загорелось, и скоро осушило и платье, и слезы Цитереи.
Испытав один раз опасность, мы уже начинаем предвидеть опасность; и потому влюбленные мореплаватели положили на совете своем искать пристани. Они заметили наконец, сколь неосновательно положение их, и как неудовлетворительно то, что любовь называет: все в мире.
Без счастия и без предопределения, не скоро достигли бы они до берега; но судьба заботилась об них, как волчица об Ромуле и Реме. Очень неудивительно, что вскоре земля представилась их взорам, а волны морские принесли утлый челнок не к скалам, о который бы он мог разбиться, а к пристани удобной и закрытой от всех неблагоприятных ветров Средиземного моря. Приближаясь к берегу, в изъявление радости и примирения с судьбою, они обняли друг друга и пустили на волю эмблему любви. Голуби быстро понеслись в глубину цветущего острова и не возвратились.
– Я здесь Царь! сказал гордо юноша. Цитерея сплела венок и надела ему на голову; а он, поцеловав ее объявил торжественно всему острову, что она Царица земли Цитеры.
Прекрасный грот порфировой скалы, осененный миртами, оливами, финиками и лаврами, был избран столицей нового царства.
Вскоре мудрые подвиги и труды любимца Цитереи были, как должно полагать, причиною огромного населения необитаемого острова. Ясон, торговавший Колхидскою шерстью, первый посетил остров.
– Как называется ваше земля? – спросил он у сбежавшегося народа.
– Цитера – отвечали ему несколько сот голосов.
– Кто ваш Царь?
– Наш отец.
Ясон нисколько не удивился этому ответу, ибо все Аргонавты, бывшие с ним в экспедиции, были также родные его дети.
* * *
Далее невозможно было развернуть свитка, на котором были начертаны предания о острове Цитере. Пропустив несколько десятков, сот, тысяч или миллионов столетий, пролетевших не только над Цитерою, но и над всем земным шаром, подобно туче саранчи, оставляющей повсюду, следом своим, одно истребление, мы обратимся к тому времени, в котором с воображения снова снимаются оковы, и оно одно делается всему владыкою.
После перемен, которые, в продолжение всех вышеозначенных столетий, претерпел земной шар, от землетрясений, от наводнений, и от влияний на него соседственных миров, а более от своенравия его населения, ничем не довольного и желающего преобразовать все по-своему, остров Цитера также изменился. Кто видел Ивельлину в молодости и встретил в Старости, тот может спросить себя: неужели и девственная красота мира также потухнет, как твои ланиты, красавица, которой я дивился? Неужели и под твоим цветным поясом, верная спутница солнца, охладеет внутренний жар, как в отжившем сердце Ивельлины? Неужели ослабеет и твой голос, природа? Побелеют и твои золотые локоны, божество Пророка Бактрианы и Фарсисов?
* * *
Когда Властитель Иоанн разбил Флот Эола и взял в плен всех крылатых нимф его, Цитера, насиженное гнездо Пиратов, было забыто. Как Феникс, Нереиды возродились снова. Имя Эола снова загремело на морях, но Иоанн был уже за морем, как выражались жители холодных степей и лесов; он путешествовал, а без него никто не решился на подвиг, который мог бы снова возвратить свободу морям и спокойствие берегам их.
Хотя остров Цитера в новые времена не столь уже был привлекателен, как в те времена, когда корабль Арго, построенный из лесов Додоны, приставал к нему, но нельзя было бы не отдать справедливости тому, кто выбрал сей остров для надежного прибежища и спокойного местопребывания. Остров был неприступен, как небо для нераскаянного грешника. Клятва Эола, что он обратит весь остров в Вулкан, если законная сила овладеет им, подкрепляла общее мнение, что подземелья острова наполнены пороховыми бочками, а пристань защищена как Олимп от нападений Тифона.
Широкая равнина простиралась от набережного возвышения до ската гор, усеянного холмами, покрытыми кустарником, плодоносными деревами и изредка высокими тополями. За деревьями были видны строения, как загородные дома в садах роскошной Смирны. За крайним возвышенным холмом, в выдавшейся скале, был грот, называвшийся гротом Царицы. Над скалою, озиравшею весь остров, была укрепленная башня, в раде тех, которые Вобан поместил в первую свою систему укреплений; она служила маяком во время ночи и сторожевым оком во время дня, чтоб на остров не залетели чужие птицы.
На третий год после несчастного побоища близ Олинта, в начале весны, Эол отправил всех Нимф своих искать приключений и добычи к южным берегам Средиземного моря и в Восточный Океан, а сам пустился, по выражению его, собирать слухи.
Остров опустел; остались только сторожевые, и семейства пиратов, которые хотя были врагами законов, власти освященной и блага общего, но имели также свои обязанности и в своем кругу также понимали и испытывали чувства сродные человеку. Они знали дружбу, любовь, сожаление и родство; но сии священные зависимости были для них мгновенны; ибо беспокойный дух, как, большой страдалец, искал только средств к утолению боли, а не к возращению прочного здоровья.
Подле крайнего холма, почти под навесом скалы, где был грот Царицы, осененный деревами и кустарником, стоял дом Эола; в нем жила старая женщина, которую почитали матерью Эола; восьмилетняя девочка, которою называли его Дочерью, и девушка шестнадцати лет, с задумчивой наружностью и иногда с слезами во взорах.
Черты лица и томные глаза её были столь привлекательны, так отражалась в них душа созданная для любви и для страдания, что кажется ничто в мире не могло бы примирить ее с равнодушием и спокойствием.
Старуха, прикованная бессилием к постели, издавна страдала уже бессонницею, и потому Мери была жертвою её вечного бодрствования. Но время ночей она должна была сидеть подле старухи, слушать усыпительные рассказы её и не спать; а во время дня тешить дремоту её чтением повестей и былей, до которых старуха была охотница.
Однажды, вскоре после отъезда Эолова, около вечера, старуха, обложенная подушками, по обыкновению, лежала. Мери, пользуясь её дремотой, сидела подле окна и склонив голову на руку, смотрела, на синие волны, позолоченные лучами заходящего солнца, и на отдаление моря, в котором белелись паруса плывущего корабля. Маленькая Лена, любившая ее как мать свою, была подле неё и молча вырезывала из бумаги мальчиков.
Забывчивость Мери была нарушена кашлем, предвестником пробуждения старухи.
– Что ты делаешь, Мери! – произнес хриплый голос. – Возьми книгу прочитай что-нибудь.
Иногда горько расстаться с задумчивостью, как с внимательным и снисходительным другом, которому поверяешь свои сокровенные чувства. Мери вздохнула, взяла лежавшую на окне книгу, открыла заложенную страницу и стала читать:
– Ты можешь идти, но помни, что счастие заключается в нас самих; если ты отдалишься от самого себя, ты удалишься и от своего счастья.
Не верь глазам своим и слуху своему там, где освещает предметы и говорит про них твое самолюбие.
– Постой, постой, Мери! Это какие-то отеческие наставления; уж я не ребенок слушать их, переверни листочек.
Мери исполнила приказание и читала следующее:
– Он встал вместе с зарею и взошёл…
– Кто он?
– Царь Соломон, – отвечала Мери и стала продолжать:
– Взошёл на холм Мелло, ограждённый кедрами. Солнце восходило над Солимом во всем своем блеске и величии.
– Прекрасна и роскошна одежда твоя, солнце! – сказал он. – Благотворны лучи твои, светильник мира! Постоянно течение твое, источник пламени! Брось же на меня презрительную улыбку! Смотри на блестящую одежду мою, окованную золотом, осыпанную перлами, алмазами, яхонтом и изумрудом! Все блестит, всё горит! Но это твой свет, о солнце! Снисходительно ты, или презираешь, не срывая с меня твой блеск! который в безумной гордости я назвал своим?
Но не гордись же и ты, солнце! Твоя блистательная одежда была бы подобна мраку, если бы на ней не отражались лучи другого светила, другого солнца, более величественного и более благотворного!
И ты, не то море света, в котором плавает вселенная и утопает ум!
И ты, подобно мне, ложный благодетель, раздаватель чужих даров, чужого богатства, всему, что тебя окружает!
Не жалей же, солнце, чужого богатства! Расточай лучи свои, лей на меня больше света, чтоб не сказали вам, что мы живем только для себя!
– Перестань, Мери! Этого я не понимаю. Читай мне какую-нибудь историю.
Перевернув несколько страничек, Мери снова стала читать:
– Княгиня Ариадна, после смерти мужа своего, Владетеля богатой земли, платившей дань Царю Славянскому, должна была, по законам, в течении года, выбрать мужа из сановников достойных и по породе своей имевших право на верховное Княжение, или лишиться владений и сана, предоставить Вышнему совету выбор Правителя и довольствоваться наследственным замком, находившимся близ столицы в Карпатских горах.
– Что это, быль? – спросила старуха.
– Не знаю, – отвечала Мери.
– Как не знать; про Карпатские горы я слыхала; верно быль. Ну!
Но время остановки, листочек в книге перевернулся; Мери не заметила и продолжала:
– Таким образом прошло время траура. Дворец Ариадны открылся для гостей. Праздники, обеды, балы, древние рыцарские турниры, возобновились. В шумных удовольствиях она забыла, что день лишающий ее всех прав, приближается.
– Какая ветреность! – пробормотала старуха, – да который год был ей?
– Должно думать, что она была очень молода, если так любила удовольствия.
– Что тут думать; чтоб узнать лета, не думают, а смотрят в лицо, да и то не узнаешь: кто даст мне семьдесят второй? А если б прежняя ноги, я сама только и думала бы о пирах, да о гулянье.
Мери продолжала:
– Скромный, молчаливый и любимый всеми Граф Войда, по-видимому, не обратил на себя внимания её. Все, сожалея, забыли его; предметом общего внимания сделались два юноши богатейших и почтенных Фамилий, Олег и Самбор. Они были равны и по достоинствам и по всему, что входит в смесь сравнения людей, особенно таких, которые должны быть светлым центром какой бы то ни было сферы.
Соперничество честолюбия поселило в них пылкую любовь к Ариадне, а любовь к Ариадне поселила соперничество любви. – Страсть не знает снисхождения и уступчивости; и потому Олег дал клятву: что тот, кто будет обвялен Верховным Князем, женихом Ариадны, должен, до венчания, битвою с ним откупить право, которое внимание Ариадны дает ему на её сердце. Самбор дал точно такую же клятву.








