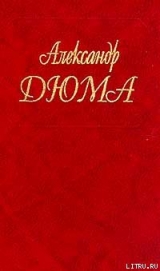
Текст книги "Катрин Блюм"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Глава III. Отец и сын
Тогда дядюшка Гийом вышел, аббат Грегуар и мадам Ватрен остались стоять напротив друг друга.
Естественно, аббат согласился принять на себя ту миссию, которую возложил на него главный лесничий, вынужденный покинуть поле боя не потому, что он считал себя побежденным, а потому, что боялся достигать своей цели средствами, которые ему было стыдно использовать. К несчастью, за те тридцать лет, в течение которых аббат Грегуар был исповедником Марианны, он хорошо изучил ее, знал, что главным недостатком матушки Ватрен было упрямство, и не питал больших надежд победить там, где Гийом потерпел неудачу.
Таким образом, несмотря на уверенный вид, аббат внутренне имел некоторые сомнения, приступая к исполнению своей миссии.
– Дорогая мадам Ватрен, – сказал он, – кроме разницы в религии, есть ли у вас другие возражения против этого брака?
– У меня, господин аббат? – переспросила старушка, – никаких! Но мне кажется, что этого достаточно!
– Честно говоря, матушка Ватрен, мне кажется, что вместо того, чтобы говорить «нет», вы должны согласиться!
– О, господин аббат, – воскликнула Марианна, поднимая глаза к небу, – и это вы меня склоняете к тому, чтобы я дала согласие на подобный брак?!
– Да, именно я.
– В таком случае я вынуждена сказать вам, что ваш долг – возражать против него!
– Мой долг, дорогая мадам Ватрен, заключается в том, чтобы давать тем, кого я встречу во время моего короткого земного пути, как можно больше счастья, в особенности тем, кто к нему стремится.
– Этот брак погубит душу моего сына: я отказываюсь!
– Ну, ну, будьте благоразумны, дорогая мадам Ватрен, – продолжал настаивать аббат, – разве Катрин, хотя она и протестантка, не любила и не уважала вас, как родную мать?
– О! В этом смысле я ничего не могу возразить! Всегда, надо отдать ей справедливость!
– – Разве она не почтительна, не добра, не благодарна?
– Нет, напротив!
– Она ведь набожна, искренна, скромна?
– Да.
– В таком случае, дорогая мадам Ватрен, ваша совесть может быть совершенно спокойна: религия, научившая Катрин всем этим добродетелям, не может погубить душу вашего сына!
– Нет, нет, господин аббат, нет, это невозможно! – повторила Марианна, упорствуя в своем упрямстве.
– Я вас прошу! – сказал аббат.
– Нет!
– Я вас умоляю!
– Нет, нет, нет!
Аббат возвел глаза к небу.
– О, милосердный Боже, – прошептал он, – тебе достаточно одного взгляда, чтобы понять, что делается в сердцах человеческих! Ты видишь, в каком заблуждении находится эта мать, принимающая свое ослепление за набожность! Господи, просвети ее!
Но добрая женщина продолжала делать отрицательные знаки. В этот момент Гийом, который, несомненно, подслушивал у дверей, вошел в комнату.
– Ну что, господин аббат, – спросил он, бросив на жену быстрый взгляд, – стала ли она благоразумнее?
– Я надеюсь, мадам Ватрен подумает, – ответил он.
– А! – воскликнул Гийом, сжимая кулаки.
– Старушка заметила этот жест, но невозмутимо продолжала стоять на своем.
– Делай, что хочешь, – сказала она, – я знаю, что ты – хозяин, но если ты их поженишь, это будет против моей воли!
– Тысяча чертей! Вы слышите, господин аббат? – спросил Ватрен.
– Терпение, дорогой мсье Гийом, терпение! – ответил аббат, видя, что добряк начинает горячиться.
– Терпение, – воскликнул старик, – но поистине не в человеческих силах иметь терпение в подобной ситуации! Из-за подобного упрямства можно потерять человеческий облик!
– Ну-ну, – сказал, аббат вполголоса, – у нее доброе сердце, она преодолеет свои заблуждения!
– Да, вы правы, я не хочу заставлять ее насильно покоряться моему решению, я не хочу, чтобы она разыгрывала роль несчастной матери, жены-мученицы. Я даю ей сегодняшний день на размышление, и если сегодня вечером она мне не скажет: «Старик! Нужно поженить наших детей…» – Гийом пристально посмотрел на жену, но та снова покачала головой, только усиливая раздражение главного лесничего. – Если она не захочет мне сказать этого, – продолжал он, – то тогда… послушайте, мсье аббат, мы вместе уже двадцать шесть лет, да… 15 июня исполнится двадцать шесть лет, но мы расстанемся, как будто все это было вчера, и мы проведем остаток наших дней каждый сам по себе!
– Что он говорит? – в ужасе спросила старушка.
– Мсье Ватрен! – воскликнул аббат.
– Я говорю… я говорю правду! – сказал он. – Ты слышишь, жена?
– О да, да, я слышу! О, какая я несчастная! – И матушка Ватрен бросилась на кухню, захлебываясь в рыданиях.
Она, казалось, пребывала в таком отчаянии, что даже была готова сделать шаг к примирению.
Оставшись наедине, главный лесничий и аббат посмотрели друг на друга. Аббат первым нарушил молчание.
– Мой дорогой Гийом, – сказал он, – не падайте духом и имейте терпение!
– Нет, вы видели когда-нибудь что-нибудь подобное? – в ярости вскричал Гийом.
– У меня есть надежда, – сказал аббат, скорее для того, чтобы утешить старика, чем будучи уверенным в этом, – нужно, чтобы дети увидели ее и поговорили с ней!
– Нет, они ее не увидят и не будут говорить с ней! Она должна сама прийти к этому, а не под влиянием жалости! Иначе мне не о чем говорить с ней! Чтобы дети ее увидели, чтобы дети говорили с ней? Нет, мне стыдно даже подумать об этом! Я не хочу, чтобы они знали, что у них такая глупая и упрямая мать!
В этот момент в полуоткрытой двери показалось взволнованное лицо Бернара.
– Прошу вас: ни слова об упрямой старухе, господин аббат! – прошептал Гийом.
Бернар заметил взгляд, который бросил на него отец; его молчание отнюдь не уменьшило беспокойство молодого человека.
– Так что же, батюшка? – осмелился спросить он робким голосом.
– Кто тебя звал? – спросил Гийом.
– Батюшка! – почти умоляюще прошептал Бернар.
Эта мольба проникла в самое сердце Ватрена, но он даже не подал виду и резко спросил:
– Я тебя спрашиваю: кто тебя звал? Отвечай!
– Никто… я знаю… но я надеялся…
– Убирайся! Ты был глуп, если надеялся!
– Батюшка! Дорогой батюшка, – взмолился Бернар, – одно слово! Одно!
– Убирайся!
– Ради Бога, батюшка!
– Убирайся, говорю тебе! – закричал дядюшка Гийом. – Тебе здесь нечего делать!
Но семья Ватрена была подобна семье Оргона note 31Note31
Имеется в виду персонаж комедии Ж. -Б. Мольера «Тартюф».
[Закрыть]. Каждый был упрям по-своему. Вместо того, чтобы подождать, когда гроза пройдет и его отец успокоится, и прийти позже, как тот ему и советовал, пусть и в несколько грубой форме, Бернар решительно вошел в комнату и твердым голосом сказал:
– Батюшка, матушка плачет и не отвечает мне. Вы плачете и гоните меня…
– Ты ошибаешься, я не плачу!
– Спокойствие, Бернар, спокойствие, – сказал аббат, – все может измениться!
Но вместо того, чтобы внять голосу аббата, Бернар слышал только голос отчаяния, которое начало закипать в нем.
– О, как я несчастен! – прошептал он, думая, что мать согласилась на этот брак, а отец возражает. – Я так любил моего отца все двадцать пять лет моей жизни, а мой отец меня не любит!
– Да, несчастный ты человек! – вскричал аббат. – Потому что ты богохульствуешь!
– Но вы же прекрасно видите, господин аббат, что мой отец меня не любит, – сказал Бернар. – Ведь он отказывает мне в единственной радости моей жизни!
– Вы слышите, что он говорит? – воскликнул Гийом, вспыхивая от нового приступа гнева. – Вот как он меня судит! О, молодость, молодость!
– Но, – продолжал Бернар, – это не значит, что из-за этого непонятного каприза я оставлю бедную девушку. Если у нее здесь всего лишь один друг, то этот друг заменит ей всех остальных!
– Я тебе уже три раза сказал, чтобы ты ушел, Бернар! – еще раз повторил Гийом.
– Я ухожу, – сказал молодой человек, – но мне двадцать пять лет, и я имею полную свободу действий, и если мне так жестоко отказывают, то существует закон, дающий мне право взять то, в чем мне отказывают!
– Закон! – гневно воскликнул дядюшка Гийом. – Да простит меня Бог! Сын произносит слово «закон» перед своим отцом!
– Разве это моя вина? – Закон!..
– Вы меня к этому вынудили!
– Закон! Вон отсюда! Ты грозишь своему отцу законом! Вон отсюда, несчастный, и не смей никогда показываться мне на глаза!
– Отец мой, – сказал Бернар, – я ухожу, потому что вы меня прогоняете. Но запомните тот час, когда вы сказали своему сыну: «Уходи из моего дома!», – и пусть вина за то, что случится потом, падет на вашу голову. – И, схватив свое ружье, Бернар, как безумный, бросился вон из дома.
Дядюшка Гийом чуть было не бросился к своему ружью, но аббат остановил его.
– Что вы делаете, господин аббат, – удивленно вскричал старик, – разве вы не слышали, что сказал этот несчастный?
– Отец, – прошептал аббат, – ты слишком суров со своим сыном!
– Слишком суров? – воскликнул Гийом. – И вы тоже это говорите? Так это я суров с ним или его мать? Вам и Богу это известно! Слишком суров! У меня были полны глаза слез, когда я с ним говорил! Когда я люблю его, вернее, любил его, как любят единственного сына… Но теперь, – гневно продолжал главный лесничий, – он может идти куда ему угодно! Пусть делает, что хочет, только бы я его больше не видел!
– Несправедливость порождает несправедливость, Гийом! – торжественно сказал аббат. – Берегитесь, после того, как вы были столь жестоки в своем гневе, остаться еще и несправедливым!
Бог уже простил вам ваш гнев и вашу вспыльчивость, но он никогда не простит вам несправедливость.
Едва аббат закончил, как в зал вошла бледная и испуганная Катрин. Ее большие голубые глаза неподвижно смотрели в одну точку, и крупные слезы, похожие на жемчужины, струились, по ее щекам.
– О, дорогой папочка, – воскликнула она, с ужасом посмотрев на грустное лицо аббата и мрачную физиономию главного лесничего, – что случилось, что здесь произошло?!
– Так, а вот и другая! – прошептал дядюшка Гийом, вынимая трубку изо рта и кладя ее в карман, что было у него признаком крайней степени возбуждения.
– Бернар молча поцеловал меня три раза, – продолжала Катрин, – взял свою шапку и охотничий нож и убежал куда-то, как сумасшедший!
Аббат отвернулся и принялся вытирать влажные глаза носовым платком.
– Бернар, Бернар… негодяй, а ты… ты… – без сомнения, Гийом остановился, не решаясь произнести какие-либо проклятия в адрес Катрин, но при виде нежного и умоляющего выражения в глазах девушки весь его гнев растаял, как тает снег под солнечными апрельскими лучами. – А ты… ты… – прошептал он, смягчаясь, – ты добрая девушка! Поцелуй меня, дитя мое!
Затем, легко отстранив свою племянницу, он повернулся к аббату.
– Мсье Грегуар, – сказал он, – действительно, я был слишком суров, но, как вы знаете, это по вине матери… Пойдите к ней и попытайтесь уговорить ее… а что касается меня, то я пойду прогуляюсь по лесу. Я всегда замечал, что темнота и одиночество дают прекрасные советы!
Пожав руку аббату, но даже не осмелившись посмотреть в сторону Катрин, он вышел из дома, пересек дорогу и скрылся в чаще леса.
Чтобы избежать объяснения, хотя он очень его хотел, аббат направился на кухню, где наверняка мог найти матушку Ватрен, которая ушла туда, исполненная отчаяния и горя, но Катрин его остановила.
– Во имя неба, мсье аббат, сжальтесь надо мной и расскажите, что здесь произошло!
– Дитя мое, – ответил достойный священник, взяв руки девушки в свои, – вы так добры, так послушны и так благочестивы, что и здесь, и на небе вас могут окружать только друзья. Не теряйте надежды, не обвиняйте никого и положитесь на милосердие божье, молитвы ангелов и любовь своих родителей, которые все уладят!
– Но что я должна делать? – спросила Катрин.
– Молитесь, чтобы отец и сын, покинувшие друг друга в гневе и слезах, встретились с прощением и радостью!
И оставив Катрин немножко успокоенной, если не более уверенной в себе, он направился на кухню, где матушка Ватрен, качая головой, повторяла: «Нет! Нет! Нет!» – и плача, снимала шкурки с кроликов и месила тесто.
Катрин посмотрела вслед аббату, ничего не понимая в его напутствии так же, как она глядела вслед своему приемному отцу, ничего не понимая в его молчании.
– Боже мой! Боже мой! – спросила она вслух. – Кто-нибудь может мне объяснить, что здесь произошло?
– С вашего позволения я могу это сделать, мадемуазель Катрин, – сказал Матье, опираясь на оконный наличник.
Появление Матье вызвало почти радостное чувство у бедной Катрин. Поскольку бродяга в какой-то степени пришел от имени Бернара, чтобы дать ей какие-то сведения о нем, несмотря на всю свою гнусность, он казался ей просто некрасивым.
– Да, да, – воскликнула девушка, – скажи мне, где Бернар и почему он ушел?!
– Бернар?
– Да, да, мой дорогой Матье, говори! Я тебя слушаю!
– Хорошо! Он ушел… ну, он ушел потому, что… – и Матье засмеялся своим скрипучим смехом, в то время как Катрин вся обратилась в слух. – Он ушел, – начал бродяга, – Боже мой! Не ужели вам нужно об этом говорить?
– Да, потому что я тебя об этом прошу!
– Хорошо! Он ушел, потому что мсье Ватрен его выгнал!
– Выгнал? Отец выгнал сына? А почему?
– Почему? Потому что он хотел жениться на вас, несмотря ни на что, безумец!
– Его выгнали? Его выгнали из-за меня! Из отчего дома!
– Да, я так думаю. Здесь был крупный разговор. Видите ли, я был в пекарне, так что я все слышал, невольно, конечно. Я не слушал, но они так кричали, что я вынужден был слушать. В тот момент, когда мсье Бернар сказал дядюшке Гийому: «Вы будете виноваты во всех тех несчастьях, которые с вами произойдут!» – я подумал, что сейчас старик схватится за ружье, и тогда было бы не до смеха! Он вполне может попасть в ворота с расстояния двадцати пяти шагов!
– О, Боже мой, Боже мой! Бедный милый Бернар!
– Да, ведь он рисковал из-за вас, и это стоит того, чтобы увидеть его еще раз – хотя бы для того, чтобы помешать ему наделать глупости!
– Да, да, увидеть его, о большем я и не мечтаю! Но как? -
– Он будет ждать вас вечером… -
– Он будет меня ждать?
– Да, мне это поручено передать вам!
– Кем?
– Кем? Бернаром, конечно!
– Где он будет меня ждать?
– У источника Принца.
– Когда?
– В девять часов.
– Я пойду туда, Матье, пойду!
– Это точно?
– Ручаюсь тебе!
– Иначе мне опять попадет… он вовсе не ангел, этот господин Бернар, не такой уж у него мягкий характер! Сегодня утром он дал мне такую пощечину, что до сих пор щека горит… но не думайте, я не злопамятен!
– Будь спокоен, мой добрый Матье, Бог воздаст тебе! – сказала Катрин, поспешно поднимаясь в свою комнату.
– Я очень надеюсь на это, – сказал Матье, провожая ее глазами до тех пор, пока за ней не захлопнулась дверь.
Затем, улыбаясь демонической улыбкой, явно свидетельствующей о том, что несчастная наивная душа попалась в ловушку, он повернулся и быстрым шагом направился в сторону леса, делая какие-то знаки.
Увидев эти знаки, на некотором расстоянии показался всадник, поспешно направляющийся в его сторону.
– Ну что? – спросил он, останавливая коня прямо перед Матье.
– Прекрасно, все идет наилучшим образом, другой наделал столько глупостей, что им, как кажется, сыты по горло, кроме того, скучают по Парижу!
– Что я должен делать?
– Что вы должны делать?
– Да.
– А вы это сделаете?
– Разумеется!
– Ну, тогда поезжайте скорее в Вилльер-Котре и набейте ваши карманы деньгами. В восемь часов начинается праздник в Корси, а в девять часов…
– В девять часов?..
– В девять часов та, что не могла поговорить с вами сегодня утром и не вернулась через Гондревиль только из-за того, что боялась огласки, будет ждать вас у источника Принца.
– Но… она согласилась уехать со мной? – радостно вскричал Парижанин.
– Она согласна на все! – подтвердил бродяга.
– Матье, – сказал молодой человек, – ты получишь двадцать пять луи, если ты мне не солгал! До вечера, до девяти часов!
И, вонзив шпоры в бока своего коня, он галопом помчался по направлению к Вилльер-Котре.
– Двадцать пять луи! – прошептал Матье, глядя, как он мчится среди деревьев, – это неплохая сумма, не считая мести! Я ведь сова! А сова – это птица, предвещающая несчастья! Мсье Бернар, сова желает вам доброго вечера! – И, сложив ладони вместе, он два раза издал крик, напоминающий крик совы:
– Добрый вечер, мсье Бернар! – и с этими словами углубился в самую чащу леса, ведущего в деревню Корси.
Глава IV. Деревенский праздник
Двадцать пять лет назад, то есть в то время, когда происходили события, о которых мы собрались вам рассказать, праздники в деревнях, расположенных вокруг Вилльер-Котре, были настоящими праздниками не только для этих деревень, но также и для самого городка.
Особенно часто они справлялись в начале года, когда наступали теплые весенние дни, и деревенька просыпалась, улыбаясь майским солнечным лучам, с веселым шумом появлявшимся среди листвы, подобно птичьему гнездышку, из которого только что вылупились малиновки или синицы. И все, кто по каким-либо причинам хотел принять участие в празднике из-за любопытства, удовольствия или торговых дел, начинали к нему готовиться, причем приготовления начинались за две недели до начала праздника в деревне и за неделю – в городке.
В кабачках протирали столы, мыли полы, чистили оловянные кубки и вешали при входе новые вывески.
Скрипачи выпалывали траву и подметали на площадке, где должны были состояться танцы; под кронами деревьев вырастал целый палаточный городок, но это был вовсе не вражеский лагерь, а самодельные кабачки.
Юноши и девушки готовили праздничные костюмы, словно солдаты, идущие в бой.
В то утро все просыпались еще на рассвете, и тотчас же начинались приготовления к празднику.
Устанавливали вертушку для игры в колечки и столики на колесиках, выстраивали глиняных кукол для стрельбы из арбалета; испуганные кролики, печально опустив уши, ждали того часа, когда бросок кольца решит их судьбу, и из корзинки торговца они попадут в кастрюлю выигравшего.
Итак, праздник в деревне начинался с утра. Но совсем не так рано начинался праздник в городе, который посылал своих представителей только к трем или четырём часам пополудни, если только узы родства с деревенскими фермерами или приглашения наиболее уважаемых жителей деревни не нарушали этих устоявшихся традиций.
Около трех или четырех часов – в зависимости от того, насколько далеко деревня находилась от города, – на дороге появлялась длинная процессия.
Впереди ехали верхом молодые денди, за ними – аристократы в каретах, а замыкали шествие пешие горожане.
Это были клерки из конторы, налоговые служащие и разряженные рабочие, ведущие под руку хорошеньких девушек, в чепчиках с голубыми или розовыми лентами, насмешливо разглядывающих ситцевые юбки проезжающих мимо них дам.
В пять часов все уже были в сборе, и праздник приобретал свое истинное значение, так как на нем присутствовали все три основные группы: аристократы, буржуа и крестьяне. Все танцевали на одной площади, но при этом не происходило смешения сословий, каждое из них составляло свою группу; единственной группой, которую хотели разрушить, была группа гризеток.
В девять часов карусель танцующих рассыпалась, и все горожане отправлялись в город: аристократы в каретах, а клерки, служащие, рабочие и гризетки – пешком. Это были неторопливые прогулки под сенью больших деревьев, овеваемых легким весенним ветерком. Они были прелестны и надолго оставались в памяти людей.
Эти праздники были в моде в каждой деревне, но в силу своего удачного расположения Корси занимала среди них первое место. Невозможно себе представить более живописного места, чем эта маленькая деревенька, расположенная между Надонской долиной и прудами Раме и Жавей.
В десяти минутах ходьбы от Корси находился дикий и в то же время прелестный уголок, где протекал ручеек, который назывался источником Принца. Вспомним, что именно возле этого источника Матье назначил свидание Катрин и Парижанину, и вернемся в Корси. С четырех часов пополудни праздник был в полном разгаре.
Но мы перенесемся не на сам праздник, а в один из самодельных кабачков, о котором только что упоминали.
Этот кабачок, который возобновлял свое короткое трехдневное существование каждый год, во время праздника, помещался в старом заброшенном доме лесничего, в остальные триста шестьдесят дней он был закрыт.
Во время праздника инспектор отдавал этот дом одной доброй женщине, которую звали матушка Теллье, трактирщице из Корси, которая устраивала там трактир на это время.
Как мы уже сказали, праздник длился три дня. Но всего было пять радостных дней в году, потому что кроме самого праздника существовал еще день приготовлений к нему и день уборки после праздника.
Пока длился праздник, трактир жил, пел, шумел; так было всегда. Затем он закрывался, и триста шестьдесят дней стоял мрачный, молчаливый, словно погруженный в глубокий сон. Трактир был расположен на полпути к Корси, около источника Принца и, естественно, был остановкой на пути тех, кто шел к источнику.
Поэтому в перерыве между кадрилями влюбленные, которые нуждались в уединении, и все другие участники праздника останавливались в трактире матушки Теллье, чтобы выпить стаканчик вина и съесть пирожное. С пяти до шести часов вечера трактир блистал во всем великолепии, но затем постепенно начинал пустеть, и к десяти часам деревянные ставни закрывались, и трактир погружался в сон, который охраняла некая особа по имени Бабет, которая заменяла матушку Теллье и пользовалась ее доверием.
На следующий день домик, словно зевая, открывал свои двери, затем, подобно глазам, одно за другим – ставни окон и, как и накануне, ждал своих посетителей.
Посетители в основном располагались под навесом, образованным перед домом из побегов плюща, винограда и повилики, которые вились по столбам, поддерживающим этот зеленый шатер.
На противоположной стороне, у подножия громадного бука, окруженного другими деревьями, словно детьми, находился шалаш, в котором днем хранилось вино, которое подавали вечером, так как матушка Теллье была не настолько уверена в трезвости и порядочности своих земляков, чтобы оставлять соблазнительный напиток на ночь под открытым небом, хотя ночью было гораздо прохладнее, чем днем.
Итак, к семи часам вечера, когда на площади царило праздничное оживление, в трактире матушки Теллье собиралось самое блестящее общество. Оно состояло из тех, кто пил вино за десять, двенадцать и пятнадцать су (у матушки Теллье было три вида расценок) и любителей пирожных.
Для особо проголодавшихся имелся омлет, салат, копченая свинина и колбаса.
Все пять столиков были заняты, так что матушка Теллье и мадемуазель Бабет едва успевали обслуживать многочисленных посетителей.
За одним из столиков сидели двое лесничих, которые участвовали в охоте на кабана, которого наш друг Франсуа загнал этим утром, Бобино и Лаженесс.
Бобино, толстый весельчак с круглым лицом и выпученными глазами, был уроженцем Экс-ан-Прованса, любил подшутить над другими и любил, когда шутили над ним. Он картавил, выговаривая слова, как настоящий провансалец. Он любил нападать и умел защищаться, и в том и в другом случае употребляя выражения, которые цитируют до сих пор, хотя он умер пятнадцать лет назад.
Лаженесс был высокий, сухой и худой человек, получивший свое прозвище note 32Note32
Лаженесс (la jeunesse) молодость.
[Закрыть] в 1794 году от герцога Филиппа Эгалите Орлеанского и с тех пор сохранивший свое прозвище. Он был столь же серьезен, сколь весел Бобино, и столь же скуп на слова, сколь Бобино болтлив.
С восточной стороны дома находились остатки изгороди, раньше огибавшей дом, а теперь имеющей всего пять-шесть футов в длину и доходящей до шалаша, оставляя открытым фасад дома.
За этой изгородью – калитка, которая была открыта, вернее, значительная часть ее отсутствовала и сохранились лишь опорные столбы. За ней находился маленький холмик, покрытый мхом, на котором возвышался огромный дуб, раскинувший свои ветви над маленькой долиной, где протекал источник Принца.
Около этого холма Матье играл в кегли с двумя или тремя бездельниками, но мы должны заметить, что подобные бездельники встречались туг довольно редко. А дальше, в таинственной тени лесных деревьев, на зеленом ковре, покрытом мхом, который приглушал шаги, неясно виднелись фигуры гуляющих пар. Одновременно с голосами сидящих в кафе и гуляющих в лесу слышался звук играющих скрипок и кларнета. Музыка прерывалась очень редко, и лишь для того, чтобы кавалер мог отвести свою даму на место и пригласить другую.
А теперь, когда занавес поднялся и действие, к которому даны все соответствующие пояснения, началось, проведем наших читателей в зеленую беседку, где матушка Теллье и Бабет обслуживали посетителей.
Матушка Теллье в тот момент была занята тем, что подавала одному изнеженному аристократу омлет со свиным салом и стакан вина за двенадцать су, а в это время Бабет принесла Бобино и Лаженессу большой, словно кирпич, кусок сыра, который должен был помочь им закончить вторую бутылку вина.
– Ну, – с важным видом говорил Лаженесс Бобино, который, откинувшись назад, слушал его с насмешкой, – если ты в этом сомневаешься, то можешь увидеть его своими собственными глазами. Когда я говорю «собственными», ты понимаешь, что это моя манера выражаться… Я говорю об этом новеньком, который недавно приехал. Он из Германии, с родины отца Катрин, и его зовут Милдет.
– И где этот парень будет жить? – спросил Бобино со своим певучим провансальским акцентом, о котором мы уже упоминали.
– На другом краю леса, в Монтегю, у него есть небольшой карабин, не больше этого, – с пятнадцатидюймовым стволом, 30-го калибра. Он берет подкову, прибивает ее к стене и с расстояния пятидесяти шагов может попасть в каждую из дырочек на этой подкове!
– Разрази меня гром! – смеясь, произнес Бобино свое любимое проклятие. – Должно быть, стена вся уже в дырках! А почему этот парень не хочет сделаться кузнецом? Когда я увижу это сам, то я в это поверю, не так ли, Моликар?
Эти слова были обращены к вновь вошедшему, который был поддавалой в игре в кегли с Матье. Он вошел, сопровождаемый проклятиями игроков, которые обещали, что они будут использовать его ноги вместо палок при игре.
Услышав свое имя, ученик Бахуса, как называли в то время современного Каво note 33Note33
Каво – буквально «кабачок». Общество поэтов-песенников, созданное в 1729 г. и прекратившее свою деятельность в 1805 г. Она была возобновлена в 1805 г. Туффе, Каппелем и Беранже.
[Закрыть], Моликар обернулся и сквозь пелену, застилавшую его глаза, попытался разглядеть того, кто его позвал.
– А! – прошептал он, вытаращив глаза и раскрыв рот. – Это ты, Бобино?
– Да, это я.
– Что ты говоришь? Повтори, пожалуйста, сделай любезность!
– Да ничего, пустяки, просто этот весельчак Лаженесс говорит здесь мне разные глупости.
– Но, – возразил Лаженесс, задетый в своем самолюбии рассказчика, – это вовсе не глупости, уверяю тебя!
– Кстати, Моликар, – спросил Бобино, – чем закончилась твоя тяжба с соседом Лафаржем?
– Моя тяжба? – переспросил Моликар, которому в том со стоянии, в котором он находился, было сложно быстро переключиться с одной мысли на другую.
– Ну да, твоя тяжба!
– С цирюльником Лафаржем?
– Да.
– Я ее проиграл. -
– То есть как проиграл?
– Я ее проиграл, потому что на меня наложили наказание.
– Кто на тебя наложил наказание?
– Мсье Бассино, мировой судья.
– И к чему он тебя приговорил?
– К штрафу в три франка.
– А что же ты ему такого сделал, этому цирюльнику? – спросил Лаженесс со своей обычной серьезностью.
– Что я ему сделал? – переспросил Моликар, ноги которого качались, подобно маятнику часов. – Я ему расквасил нос. Но без всякого умысла, честное слово! Ты ведь хорошо знаешь, какой нос у этого Лафаржа, не так ли, Бобино?
– Во-первых, уточним, – сказал шутник, – что это не нос, а рукоятка! – Да, уж, он нашел верное выражение, этот сатана Бобино… То есть я хотел сказать, Бобино, у меня просто язык заплетается!
– Ну и что же? – спросил Лаженесс.
– Что? – не понял Моликар, мысли которого уже были далеко от темы разговора.
– Он спрашивает о носе дядюшки Лафаржа!
– Действительно… – сказал Моликар, упорно пытаясь отогнать несуществующую муху, – прошло уже две недели с тех пор, как мы вместе вышли из кабачка!
– Значит, вы были под хмельком?
– Вовсе нет, – возразил Моликар.
– А я тебе повторяю, что вы были под хмельком!
– А я тебе говорю, что нет! Мы были пьяны! – и Моликар рассмеялся, радуясь, что он тоже нашел удачное выражение.
– В добрый час! – сказал Бобино.
– Ведь ты никогда не исправишься? – спросил Лаженесс.
– В чем?
– В том, что ты пьешь! – Исправляться! А зачем?
– Этот человек удивительно умен, – сказал Бобино. – Стакан вина, Моликар.
Моликар покачал головой.
– Как, ты отказываешься? -
– Да.
– Ты отказываешься от вина?!!
– Два, или ни одного!
– Браво!
– А почему именно два? – спросил Лаженесс, который обладал более математическим складом ума, чем Бобино, и считал, что у каждой загадки должно быть четкое объяснение.
– Потому что если я выпью один стакан, – ответил Моликар, – то это будет тринадцатый стакан за этот вечер!
– О, понятно! – сказал Бобино.
– А тринадцатый стакан вина может принести мне несчастье!
– Однако какой ты суеверный! Ну продолжай! Ты получишь свои два стакана!
– Мы вышли из кабачка, – продолжал Моликар, усаживаясь за столик, принимая приглашение Бобино.
– В котором часу это было?
– О, очень рано!
– И что же?
– Было около часу ночи или половины второго, я точно не помню… Я хотел вернуться к себе, как и подобает честному человеку, у которого три жены и один ребенок!
– Три жены!
– Три жены и один ребенок!
– Какой султан!
– Да нет, одна жена и трое детей, какой глупец этот Бобино! Конечно, можно иметь трех жен, но если бы у меня было три жены, то я бы никогда не вернулся домой. Я иногда туда и так не прихожу, так что с меня и одной достаточно. Итак, я решил вернуться домой, но тут мне пришла в голову эта несчастная мысль сказать цирюльнику Лафаржу, который живет на площади, где фонтан, – а я, как известно, живу в конце улицы Ларги, – так вот, мне пришла в голову эта несчастная мысль сказать ему: «Сосед, проводим друг друга. Сначала я вас провожу, а потом вы меня проводите, затем опять вы, потом опять я, и всякий раз мы будем останавливаться у матушки Моро, чтобы вместе выпить по стаканчику».
– А! – сказал Лаженесс. – Это прекрасная идея!
– Да, – заметил Бобино, – в тот день, ты, видимо, выпил тринадцать стаканов, как сегодня, и ты боялся, что это принесет тебе несчастье!
– Нет, в тот день я их, к сожалению, не считал, это мне пришло в голову позже. Итак, мы пошли, как добрые соседи, как настоящие друзья, и дошли до двери мадемуазель Шапюи, главной почтальонши, ты ее знаешь…
– Да.
– Там лежал громадный камень, но было так темно! У тебя ведь хорошее зрение, не так ли, Лаженесс? И у тебя тоже, Бобино?
Но в ту ночь было так темно, что хоть глаз выколи! В ту ночь ты бы принял кошку за полицейского!
– Никогда! – сказал Лаженесс.
– Никогда? Ты говоришь никогда?
– Да нет, он ничего не говорит!
– – Если он ничего не говорит, то это другое дело, и значит я ошибаюсь!








