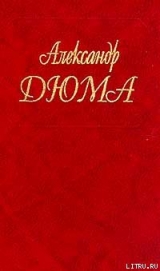
Текст книги "Катрин Блюм"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Со своей стороны дядюшка Гийом движимый теми же чувствами, что и аббат Грегуар, то есть чувством собственного достоинства и чувством сострадания к ближнему, которое свойственно добрым сердцам, попытался вывести Матье из его физического бессилия, подобно тому, как аббат Грегуар пытался вывести Матье из его морального отупения. Дядюшка Гийом заметил в Матье способность подражать пению птиц, крикам диких животных, выслеживать зверя; он заметил, что Матье, несмотря на свое косоглазие, прекрасно мог разглядеть зайца в его лежке. Он заметил, что порох в мешке Матье время от времени уменьшается, он решил, что совершенно необязательно быть похожим на Аполлонаnote 21Note21
Аполлон – сын бога Зевса в древнегреческой мифологии, покровитель музыки, искусства и стрельбы из лука.
[Закрыть] или Антиноя note 22Note22
Антиной – любимый раб римского императора Адриана (117-139). Изображения Аполлона и Антиноя стали символами мужской красоты.
[Закрыть], чтобы быть хорошим лесничим. Он подумал о том, что, может быть, удастся использовать способности Матье, чтобы сделать из него вполне приемлемого помощника лесничего. С этой целью он поговорил с господином Девиаленом, который позволил вручить ему ружье. Но после шести месяцев упражнений в своем новом ремесле Матье убил двух собак и ранил загонщика, но не подстрелил никакой дичи.
Тогда дядюшка Гийом, убедившийся, что у Матье есть все задатки браконьера и никаких качеств, нужных для лесничего, забрал у него ружье, получившее столь недостойное употребление, и Матье, не показывая обиды на то, что перед ним закрылась блестящая перспектива, которая могла ослепить и более умного и глубокого человека, чем он, вернулся к своей бродячей жизни.
В этой бродячей жизни Новый дом по дороге в Суассон и очаг дядюшки Гийома были одними из самых любимых остановок Матье, несмотря на ненависть, или, вернее, неприязнь, которую питала к нему матушка Мадлена, – слишком хорошая хозяйка, чтобы не замечать, какой урон наносит ее саду и кладовой присутствие Матье Гогелю, – и Бернар, сын хозяина дома, которого мы знаем пока только благодаря тосту, который произнес в его честь Франсуа, и который, казалось, смутно угадывал ту роковую роль, которую этот бродячий гость должен был сыграть в его судьбе.
Мы забыли также сказать и о том, что подобно тому, как никто не знал о тех успехах, которых достиг Матье, учась читать и писать у доброго аббата Грегуара, никто не знал также и о том, что его неловкость была притворной и что когда Матье это было нужно, он мог подстрелить куропатку или кабана с не меньшей ловкостью, чем любой из лесных стрелков.
Тогда почему же Матье скрывал свои таланты от товарищей и восхищенной публики? Дело в том, что Матье не только понимал, что нужно научиться хорошо читать, писать и стрелять, но в данном случае еще нужно было, чтобы его считали неуклюжим и неграмотным.
Как мы уже видели, этот подлый и злой человек, войдя в дом в тот момент, когда Франсуа начал свой рассказ, прервал его словами, в которых звучало сомнение по поводу кабана, которого молодой лесничий считал уже пойманным.
– Да уж, как в последний раз!
– О, последний раз… хватит! – возразил Франсуа, – мы об этом поговорим немного позже!
– А где же кабан? – спросил дядюшка Гийом, которому необходимость снова набить трубку на мгновение освободила язык.
– Он, наверное, уже в засолке, раз Франсуа его уже поймал, – сказал Матье.
– Еще нет, – ответил Франсуа, – но раньше, чем матушкины часы пробьют семь часов, он там будет! Не правда ли, Косоглазый?
Собака, которую тепло от камина, разожженного Матье, погрузило в сладкое блаженство, виляя хвостом по полу, усыпанному золой, отозвалась на зов хозяина дружеским ворчаньем, которое, казалось, означало утвердительный ответ.
Удовлетворенный ответом Косоглазого, Франсуа бросил на Матье взгляд, полный неудовольствия, которое он даже не пытался скрыть, и возобновил свой разговор с дядюшкой Гийомом, который, будучи счастливым от того, что у него есть свежая трубка для употребления или, вернее, для поглощения, слушал своего молодого друга спокойно и любезно.
– Я бы сказал, дядюшка Гийом, – сказал Франсуа, – что зверь сейчас находится в четверти лье отсюда, в чаще Тет-де-Салмон, около поля Метар … Насмешник обнаружил себя около половины третьего утра на лесосеке по дороге в Домплие…
– Ага! – прервал Гогелю, – а ты-то откуда это знаешь, если ты вышел из дому только в три часа утра?
– Ах, подумать только, какой он дотошный, дядюшка Гийом! – воскликнул Франсуа. – Ему хочется знать, как я об этом узнал! Я расскажу тебе об этом, друг Косоглазый, это тебе, может, когда-нибудь пригодиться!
У Франсуа была одна плохая привычка, которая очень задевала Матье: одинаково называть именем Косоглазый и человека, и животное из-за того, что и человек, и животное были поражены одним и тем же недугом, и хотя, по его мнению, собака косила гораздо более кокетливо, чем человек, одно и то же название вполне могло подходить и двуногому существу, и четвероногому животному.
На первый взгляд, это обращение оставляло и того, и другого довольно равнодушным; но нужно заметить, что это равнодушие у собаки было более искренним, чем у человека.
И Франсуа продолжил свой рассказ, ничуть не сомневаясь в том, что он добавил новую обиду к тем, которые затаил на него в своем сердце Матье Гогелю.
– Когда выпадает роса? – спросил молодой лесник. – В три часа утра, не правда ли? Так если бы кабан появился после того, как выпала роса, то он оставил бы следы на влажной земле, и в углублениях, оставленных этими следами, не осталось бы воды, а он прошел по сухой земле, и в углублениях от его следов осталась вода для малиновок, так-то вот!
– А каков возраст зверя? – спросил Гийом, рассудив, что или замечание Матье не имеет большого значения или объяснение
Франсуа должно быть вполне достаточным для Матье.
– Ему шесть или семь лет, – ответил Франсуа без колебаний, – крупный зверь!
– А, конечно! – сказал Матье. – Он ему сразу представил свидетельство о рождении!
– Да, и еще с личной подписью! Не каждый мог бы так сделать. И так как ему незачем скрывать свой возраст, я уверяю вас, что я могу ошибиться месяца на три… Не правда ли, Косоглазый? Посмотрите, дядюшка Гийом, Косоглазый говорит, что я не ошибаюсь!
– Он один? – спросил дядюшка Гийом.
– Нет, он со своей самкой, которая почти готова…
– Аи, аи, аи!
– Да, почти готова опороситься!
– Так ты еще был акушером кабанов? – спросил Матье, который не мог дать Франсуа спокойно продолжать свой рассказ.
– О, несносный болтун! Подумайте только, дядюшка Гийом, что этот молодец, которого нашли посреди леса, не знает, как узнать, должна ли самка кабана опороситься или нет! Да чему только тебя учили? Когда она тяжело ступает, а ее копыта расползаются при движении, это значит, что бедное животное вот-вот произведет на свет потомство, идиот!
– Этот кабан давно у нас появился? – поинтересовался дядюшка Гийом, который хотел узнать, как изменяется количество кабанов в его округе: увеличивается, уменьшается или остается прежним.
– Самка – да! – ответил Франсуа со своей обычной уверенностью, – а самец – нет! Ее я никогда не встречал в нашей округе, но его-то я знаю. Я как раз хотел вам сказать, дядюшка
Гийом, когда этот несносный Гогелю вошел, что я встретил моего кабана… того самого, что я ранил в лопатку две недели назад около лесосеки Д'Ивор.
– А почему ты решил, что этот тот же самый?
– О, неужели вам это нужно объяснять, – вам, опытной ищейке, который превосходит самого Косоглазого? Скажи же, Косоглазый, дядюшка Гийом спрашивает… Ну, конечно же, я знаю, что это я его ранил – единственное, вместо того, чтобы попасть в лопатку, я попал в кость!
– Гм! – сказал дядюшка Гийом, качая головой, – однако кровь-то не пошла!
– Нет, потому что пуля застряла в жировой прокладке, между шкурой и плотью… На сегодняшний день рана, как вы понимаете, уже почти зажила… Поэтому она у него чешется. И он потерся о дуб – это третий дуб налево от колодца – там, где растет гречиха. Да-да, это совершенно точно, потому что он оставил на коре дерева пучок волос от щетины. Вот, взгляните!
И в подтверждение своих, слов Франсуа вынул из кармана пучок волос, еще влажный от застывшей крови.
Взяв его в руки, Гийом осмотрел его взглядом знатока и вернул Франсуа с такой осторожностью, словно это была самая драгоценная вещь в мире:
– Честное слово, мальчик, он уже у нас в руках!.. Я говорю это, точно я видел его своими собственными глазами!
– О, да вы еще лучше его увидите, когда он, наконец, будет у нас в руках! – сказал Франсуа.
– У меня от твоих слов просто слюнки текут! – сказал дядюшка Гийом. – И даже появилась охота прогуляться в том направлении!
– О, идите! Вы увидите, что все так, как я вам говорил. Я абсолютно спокоен за это… Что же касается кабана, то он сейчас сидит в своем логове, в зарослях Тет-де-Салмон… И не церемоньтесь с мсье: подходите так близко, как вам захочется. Мсье даже не пошевельнется, – ведь мадам так плохо себя чувствует, а мсье так галантен!
– Хорошо, я иду туда сейчас же! – сказал дядюшка Гийом решительно и так сильно сжал зубами кончик своей трубки, что укоротил ее, по крайней мере, еще на три сантиметра.
– Хотите взять Косоглазого?
– А зачем?
– Действительно, ведь у вас два глаза – вы посмотрите и увидите, вы поищите и найдете… А тезку господина Матье нужно водворить в его конуру, предварительно воздав ему должное в виде куска хлеба, – ведь сегодня утром он поработал на славу!
– Эй, Матье! – сказал дядюшка Гийом, грустно посмотрев на бродягу, который спокойно ел свои картофелины на уголке камина. – Лес подскажет мне дорогу! Белка покажет, на какое дерево она взобралась, ласка – где она перебежала дорогу! А ты этого никогда не поймешь!
– А мне все равно – пойму или не пойму! На кой черт мне это нужно?
В ответ на эту беспечность Матье, совершенно для него непонятную, старый лесничий только пожал плечами.
Затем он надел куртку, в которой обычно ходил утром, натянул гетры и по привычке взял ружье в правую руку. Он взял его по привычке или, вернее, потому, что не знал, что ему делать со своей правой рукой, если она не держала ружья. И, дружески пожав руку Франсуа, он вышел из дому.
Что касается последнего, то он остался верен обещанию, данному Косоглазому. Не переставая следить взглядом за дядюшкой Гийомом, идущим по дороге в Тет-де-Салмон, он подошел к шкафу, открыл его и вынул оттуда полфунта черного хлеба. Отрезав от него маленький кусочек, он дал его собаке, прошептав:
– О, старая ищейка! Пока я ему сдавал отчет, ему просто не сиделось на месте! Косоглазый, друг мой, посмотри, какая замечательная корочка! А теперь, так как мы сегодня хорошо поработали, пойдем-ка в конуру, и повеселей!
И он, в свою очередь, вышел из дома, но не через основную дверь, а через дверь пекарни, у стены которой находилась конура мэтра Косоглазого. Сопровождаемый по пятам собакой (кусочек хлеба сгладил в ее представлении все неприятное, связанное с возвращением в будку), Франсуа скрылся из виду, особенно не заботясь об участи Матье Гогелю, которого он оставил наедине со своей картошкой.
Глава IV. Крик зловещей птицы
Едва Франсуа скрылся из виду, как Матье поднял голову, и на его лице, обычно столь неподвижном, промелькнуло выражение ума и хитрости. Затем, услышав, что шаги молодого человека замерли в отдалении, и звука его голоса не стало слышно, он на цыпочках подошел к столу, на котором стояла бутылка с вином. Благодаря своим косым глазам, он мог наблюдать одновременно за той дверью, в которую вышел дядюшка Гийом, и дверью, за которой исчез Франсуа.
Приподняв бутылку, он принялся рассматривать ее на свет, который разлился по дому– с появлением солнечных лучей, чтобы увидеть, сколько жидкости уже было выпито и, следовательно, сколько еще можно выпить, чтобы это не было особенно заметно.
– Ага! А мне-то этот старый скряга вина не предложил! И, словно, чтобы исправить упущение дядюшки Гийома, Матье поднес к губам горлышко бутылки и сделал три или четыре глотка огненного напитка с такой скоростью, словно это было целительное средство, не произнося при этом ни «гм!» как дядюшка Гийом, ни «ух!» – как Франсуа. Затем, услышав шаги в соседней комнате, быстрой неслышной походкой и с невинным видом, который обманул бы даже Франсуа, он вернулся на свое место на скамейке у камина и принялся петь песенку, которая стала модной после того, как драгуны королевы долгое время квартировали в замке Вилльер-Котре.
Матье уже дошел до второго куплета, когда на пороге двери, ведущей в пекарню, показался Франсуа.
Чтобы показать свое безразличие к присутствию Франсуа, Матье Гогелю, без сомнения, продолжил бы пение бесконечного романса и не прервал бы второго куплета, но Франсуа остановил его.
– Ага! – сказал он. – Теперь ты еще и поешь!
– А разве запрещено петь? – спросил Матье. – Если это так, то пусть господин мэр опубликует указ и торжественно оповестит об этом, и никто больше не будет петь!
– Нет, – ответил Франсуа, – это не запрещено, но это приносит мне несчастье!
– Почему?
– Потому что когда первая птица, пение которой я услышу утром, оказывается совой, я говорю себе: «Это плохо!»
– То есть это значит, по-твоему, что я – сова? Ну ладно, сова, так сова! Я могу быть кем угодно! – и, предварительно поплевав на ладони, он сложил их рупором и издал крик, удивительно напоминающий грустный и монотонный крик ночной птицы.
Франсуа невольно вздрогнул.
– Заткнись, зловещая птица! – сказал он.
– Заткнуться?
– Да!
– А что бы ты сказал, если я хотел бы кое-что тебе спеть?
– Я бы сказал, что у меня нет времени, чтобы тебя слушать… Послушай, окажи мне услугу!
– Тебе?
– Ну да, мне… ты разве считаешь, что ты никому не можешь доставить удовольствие или оказать услугу?
– Положим… А что ты хочешь?
– Я хочу, чтобы ты взял мое ружье и прислонил его к камину, пока я буду переодевать гетры!
– О! Переодевать гетры! Посмотрите-ка, мсье Франсуа боится простудиться!
– Я не боюсь простудиться, но хочу надеть мои форменные гетры, потому что инспектор должен присутствовать на охоте, и я хочу, чтобы он нашел меня в полном обмундировании, как полагается… Ну так что, тебе не трудно будет поставить сушиться мое ружье?
– Я не буду сушить ни твое, ни чье-либо ружье вообще… Пусть мне лучше размозжат голову камнем, как последней твари, если начиная с сегодняшнего дня и до самой смерти я прикоснусь к какому-нибудь ружью!
– Ну что же! Я бы сказал, что потери от этого большой не будет, если учесть, как ты с ним обращаешься! – сказал Франсуа, открывая дверцу на антресоли, где находился целый набор гетр, и принимаясь искать свои гетры среди тех, которые принадлежали семье Ватрен.
Матье продолжал следить за ним левым глазом, в то время как его правый глаз, казалось, был целиком и полностью занят последней картофелиной, которую он медленно и неуклюже чистил.
Продолжая следить за Франсуа левым глазом, он проворчал:
– Хм! А зачем мне пользоваться ружьем, когда я могу воспользоваться чем-то другим? Пусть только представится подходящий случай, и ты увидишь, что я не такой уже безрукий, как тебе кажется!
– А что же ты будешь делать, если оставишь свое ружье? – спросил Франсуа, ставя ноги на стул и начиная застегивать длинные гетры.
– Я займусь моим жалованьем! Ведь мсье Ватрен обещал взять меня дополнительным лесником, но так как Его светлости угодно, чтобы я служил один, а может быть, и два года бесплатно, то я отказываюсь! Я предпочитаю поступить в услужение к господину мэру!
– В услужение к господину мэру? Лакеем к мсье Рэзэну, торговцу лесом?!!! – вскричал Франсуа.
– Ну да, к мсье Рэзэну, торговцу лесом, или к господину мэру, это ведь одно и то же!
– Ну и ну! – сказал Франсуа, продолжая застегивать гетры, и пожал плечами, как бы выражая свое презрение к лакеям.
– Это тебе не нравится?
– Мне? – удивился Франсуа, – мне это совершенно безразлично! Я просто спрашиваю себя, что же будет со стариком Пьером?
– Боже мой! – беззаботно воскликнул Матье, – по-видимому, он уйдет!
– Он уйдет? – переспросил Франсуа, не скрывая своего волнения за судьбу старого лакея.
– Конечно! Если я занимаю его место, то нужно, чтобы он ушел! – объяснил Матье.
– Но это невозможно! – прошептал Франсуа, – он служит в доме у мсье Рэзэна уже двадцать лет!
– Вот еще одна причина, по которой он должен уйти! – заметил Матье со своей отвратительной улыбкой.
– Боже мой, какой же ты подлый человек, Косоглазый! – воскликнул Франсуа.
– Во-первых, – ответил Матье с тем простодушным видом, который он так хорошо умел на себя напускать, – меня не зовут Косоглазым. Так зовут собаку, которую ты только что отвел в конуру, а не меня!
– Да, ты прав, – сказал Франсуа, – ведь узнав, что тебя иногда так называют, бедное животное заявило, что оно принадлежит к дому дядюшки Ватрена и что хотя принадлежать к дому инспектора, несомненно, лучше и выгоднее, он ни за что не про меняет свое место на место ищейки в своре господина Девиалена!
После такого заявления, даже если ты и косишь, тебя никто не будет больше называть Косоглазым!
– Подумать только! Значит, по-твоему, я подлец, а, Франсуа?
– Для меня – да, и для всех остальных тоже!
– А почему?
– А тебе разве не стыдно лишать последнего куска хлеба несчастного старого Пьера? Что с ним станется, если у него отнимут его место? Ему ведь придется просить милостыню, чтобы прокормить жену и двух детей!
– Ну и что? Ты прекрасно можешь выделить ему пенсию из тех пяти тысяч ливров жалованья, которое получаешь как помощник лесничего!
– Я не смогу выделить ему пенсию, – ответил Франсуа, – потому что на эти пять тысяч франков я должен содержать мою мать, и забота о бедной женщине для меня прежде всего! Но всякий раз, когда он захочет прийти ко мне, для него всегда найдется тарелка лукового супа и немножко жаркого из кроликов – обычной пищи лесников… Лакей у господина мэра! – продолжал он, застегивая другую гетру, – как это на тебя похоже, сделаться лакеем!
– Ба! Я меняю ливрею на ливрею! – воскликнул Матье, – но я предпочитаю ту, у которой полные карманы, той, в которой они пусты!
– – Эй, эй! Минуточку, дружище! – остановил его Франсуа, – впрочем, я ошибся, ты мне вовсе не друг… Наша одежда – это не ливрея, а униформа!
– Не все ли равно, вышитый на воротнике дубовый листочек и галун на рукаве так похожи! – сказал Матье, покачав головой, причем и в жестах, и в словах выражалось безразличие, которое он испытывал к обоим предметам обсуждения.
– Да, – сказал Франсуа, который не мог допустить, чтобы последнее слово осталось не за ним, – но только вышитый на воротнике дубовый листочек обязывает к работе, не так ли? А галун на рукаве дает возможность отдохнуть… Не это ли решило твой выбор в пользу галуна, лентяй?
– Может быть! – ответил Матье, и внезапно, как будто эта мысль только что пришла ему в голову, добавил: – Кстати… говорят, что Катрин сегодня возвращается из Парижа!
– Что еще за Катрин? – спросил Франсуа.
– Ну… Катрин… это Катрин… это племянница дядюшки Гийома, кузина мсье Бернара, которая закончила свое учение на белошвейку и модистку в Париже и которая снова поступит, в магазин мадемуазель Риголо, на площади Ла Фонтен, в Вилльер-Котре… – Ну и что же? – спросил Франсуа.
– Ну, если она вернется сегодня, то я уеду только завтра. Вероятно, здесь будет свадьба и пир в честь возвращения этого зеркала добродетели!
– Послушай, Матье, – сказал Франсуа гораздо более серьезным тоном, чем раньше, – когда ты говоришь в моем присутствии или присутствии других о мадемуазель Катрин в этом доме, ты должен отдавать сe6e отчет в том, с кем ты о ней говоришь!
– Почему?
– Да, потому, что мадемуазель Катрин – дочь родной сестры мсье Гийома Ватрена! – Да, и возлюбленная мсье Бернара, не так ли?
– Что до этого, Матье, то я бы на твоем месте, всегда отвечал, что ты ничего об этом не знаешь!
– Ну уж нет! Можешь не заблуждаться на этот счет, я расскажу все, что знаю… Что я видел, то видел, а что слышал, то слышал!
– М..да, – сказал Франсуа, глядя на Матье со смешанным чувством неприязни и презрения, так что невозможно было понять, какое из них преобладает, – ты абсолютно прав, решив сделаться лакеем; это действительно твое призвание, Матье! Шпион и до носчик! Удачи тебе в твоем новом ремесле! Если Бернар спустится, скажи ему, что я жду его в ста шагах отсюда, на нашем обычном месте, которое называется «Прыжок Оленя», понял?
И вскинув ружье на плечо тем легким и уверенным движением, которое отличает всех, умеющих обращаться с этим оружием, он вышел, повторяя:
– О, я не ошибся, Матье, ты действительно подлец и негодяй!
Матье смотрел ему вслед со своей вечной улыбкой; затем, когда молодой лесничий исчез из виду, проблеск мысли снова показался на его лице, и в его голосе нарастала угроза по мере того, как тот, кому угрожали, удалялся:
– Ах, ты не ошибаешься! А! Я еще и подлец! Я плохо стреляю! Собака Бернара отказалась, чтобы ее называли тем же прозвищем, что и меня! Я, оказывается, шпион, лентяй, доносчик! Терпение! Терпение! Сегодня еще не конец света и, может быть, я еще успею отплатить тебе за все!
В этот момент ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж, заскрипели, дверь открылась, и на пороге появился красивый мужественный молодой человек лет 25 в полном охотничьем снаряжении, только без ружья.
Это был Бернар Ватрен, сын хозяев дома, о котором мы уже два или три раза упоминали в предыдущих главах.
Форма молодого человека была безукоризненна: голубая куртка с серебряными пуговицами, застегнутая снизу доверху, подчеркивала его ладную фигуру. Брюки из облегающего бархата и кожаные гетры, доходящие ему до колен, позволяли увидеть его длинные и стройные ноги. У него были светлые с чуть рыжеватым оттенком волосы и несколько более темного оттенка бакенбарды, прикрывающие румяные щеки, молодой свежести которых не смогла коснуться сила солнечных лучей.
В чертах лица молодого человека, которого мы только что вывели на сцену, было столько привлекательности, что, несмотря на холодный блеск его светло-голубых глаз и немного заостренный подбородок (признак сильной воли, порой доходящей до упрямства), нельзя было сразу же не почувствовать искреннего расположения к нему.
Но Матье был не из тех людей, которые поддаются такого рода чувству. Физическая красота Бернара, столь резко контрастирующая с его уродством, вызывала у бродяги чувство злобы и зависти. Естественно, он был готов перенести любое горе, чтобы только на Бернара оно свалилось вдвойне, и ни на минуту бы не поколебался потерять глаз, если бы только Бернар потерял оба глаза, или сломать ногу, лишь бы только Бернар сломал обе ноги.
Это чувство было в нем настолько непобедимо, что, несмотря на все его усилия, улыбка, адресованная Бернару, получалась кривой и натянутой.
В тот день улыбка вышла еще более унылой и неприветливой, чем обычно. В этой улыбке была какая-то нетерпеливая непонятная радость – это была радость Калибана note 23Note23
Калибан – персонаж пьесы В. Шекспира «Буря», олицетворяющий злую силу, вынужденную подчиняться высшей силе (Ариэлю), но всегда выступающую против него.
[Закрыть] при звуке первого раската грома, предвещающего бурю. Но Бернар не обратил никакого внимания на эту улыбку. Он был полон молодости, жизни и любви, идущей из глубины его сердца. Он посмотрел вокруг себя с удивлением и даже каким-то беспокойством.
– Хм! – сказал он. – Мне показалось, что я слышал голос Франсуа. Разве его здесь сейчас не было?
– Он здесь был, это точно! Но ему надоело вас ждать, и он ушел!
– Ну, ничего! Мы встретимся в условленном месте! – И, подойдя к камину, Бернар снял со стены ружье; продул стволы, чтобы убедиться, что в них ничего нет, и всыпал порох в оба ствола. Затем он достал из своей охотничьей сумки два фетровых пыжа.
– Как, – удивился Матье, – вы всегда пользуетесь пыжами?
– Да, так порох лучше держится… Странно! Куда я подевал свой нож?
Бернар порылся во всех карманах, но так и не нашел предмет, который был ему нужен.
– Хотите, я дам вам свой? – спросил Матье.
– Да, давай!
И, взяв нож, Бернар пометил крестиками две пули, после чего вставил их в ствол ружья.
– Что вы там делаете, мсье Бернар? – поинтересовался Матье.
– Я помечаю мои пули, чтобы их можно было узнать, если возникнет сомнение. Когда двое стреляют в одного и того же кабана и попадает только один, то, как правило, хотят узнать, кто его убил! – с этими словами Бернар направился к двери.
Матье следил за ним своим косым глазом, и на его лице появилось выражение невероятной жестокости.
Когда молодой человек был уже на пороге двери, он сказал:
– Эй! Еще минуточку, мсье Бернар! С того момента, как ваш дорогой Франсуа, ваша любимая собачонка, подомнет кабана, вы останетесь без добычи! Кроме того, в такое утро, как это, собаки не будут иметь нюха!
– Так, так! Так что же ты хочешь мне сказать? Говори!
– Что а хочу сказать?
– Да!
– Это правда, что прекраснейшая из прекраснейших приезжает сегодня?
– О ком это ты говоришь? – нахмурив брови, спросил Бер нар.
– О Катрин, разумеется!
Едва Матье произнес это имя, как раздался звук звонкой пощечины, оставившей след на его щеке.
Он отошел на два шага назад. Выражение его лица ничуть не изменилось, он лишь поднес руку к щеке.
– Ну и ну! – удивился он, – что это с вами сегодня утром, мсье Бернар?
– Ничего, – ответил молодой лесничий. – Просто я хочу заставить тебя отныне произносить это имя с тем уважением, которое все к нему питают, и я в первую очередь!
– О! – сказал Матье, все еще не отнимая руки от лица и одновременно ища что-то в кармане, – когда вы узнаете, что написано в этой бумаге, то вы пожалеете о той пощечине, которую вы мне дали!
– В этой бумаге? – повторил Бернар.
– Ну да!
– Покажи мне эту бумагу!
– О! Терпение!
– Покажи мне эту бумагу, говорю тебе!
И, сделав шаг в сторону Матье, он вырвал бумагу у него из рук. Это было письмо, на котором была следующая надпись: «Париж, улица Бург-Лабе, ¦ 15, мадемуазель Катрин Блюм».








