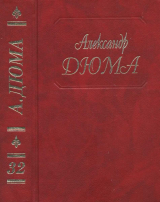
Текст книги "Сальватор. Часть. 1, 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В ту минуту как г-жа де Маранд вошла в спальню, спрашивая: «Ты готова, Кармелита?» – и уронила за собой портьеру, в дверях гостиной лакей объявил:
– Монсеньер Колетти.
Воспользуемся несколькими мгновениями, пока Кармелита отвечает подруге, и бросим взгляд на его высокопреосвященство Колетти, входящего в гостиную.
Читатели, вероятно, помнят имя этого святого человека, прозвучавшее однажды из уст маркизы де Латурнель.
Дело в том, что монсеньер был исповедником маркизы.
Его высокопреосвященство Колетти был в 1827 году не только в милости, но и пользовался известностью, да не просто пользовался известностью, а считался модным священником. Его недавние проповеди во время поста принесли ему славу великого прорицателя, и никому, как бы мало ни был набожен человек, не приходило в голову оспаривать ее у г-на Колетти. Исключение, пожалуй, представлял собой Жан Робер; он был поэт прежде всего и, имея на все особый взгляд, не переставал удивляться, что священники, располагавшие столь великолепным текстом, как Евангелие, как правило, отнюдь не блистали вдохновением и красноречием. Ему случалось завоевывать – и с успехом! – в сто раз более непокорных слушателей, чем те, что приходили на церковные проповеди, чтобы укреплять свой дух, и ему казалось, что, доведись ему подняться на кафедру священника, он нашел бы гораздо более убедительные, более гремящие слова, чем все приторные и скучные речи этих светских прелатов, одну из которых он нечаянно услышал, проходя как-то мимо. Тогда-то он и пожалел, что не стал священником: вместо кафедры у него теперь в распоряжении был театр, а вместо слушателей-христиан – неподготовленная аудитория.
Хотя его высокопреосвященство Колетти носил тонкие шелковые чулки – это в сочетании с фиолетовым одеянием свидетельствовало, что перед вами высокое духовное лицо, – монсеньера можно было принять за простого аббата времен Людовика XV: его лицо, манеры, внешний вид, походка вразвалку выдавали в нем скорее галантного кавалера, привыкшего к ночным приключениям, нежели строгого прелата, проповедующего воздержание. Казалось, его высокопреосвященство, подобно Эпимениду, проспавшему в пещере пятьдесят семь лет, заснул полвека назад в будуаре маркизы де Помпадур или графини Дюбарри, а теперь проснулся и пустился в свет, позабыв поинтересоваться, не изменились ли за время его отсутствия нравы и обычаи. А может, он только что вернулся от самого папы и сейчас же угодил во французское общество в своем одеянии ультрамонтанского аббата.
С первого взгляда он производил впечатление красавца-прелата в полном смысле этого слова: розовощекий, свежий, он выглядел самое большее на тридцать шесть лет. Но стоило к нему присмотреться, как становилось ясно: монсеньер Колетти следит за своей внешностью столь же ревностно, что и сорокапятилетние женщины, желающие выглядеть на тридцать: его высокопреосвященство пользовался белилами и румянами!
Если бы кому-нибудь удалось проникнуть сквозь этот покрывающий кожу слой штукатурки, он похолодел бы от ужаса, обнаружив под видимостью жизни все признаки болезни и разрушения.
Живыми на этом лице, неподвижном, словно восковая маска, оставались лишь глаза да губы. Глазки – маленькие, черные, глубоко сидящие – метали молнии, порой сверкали весьма устрашающе, потом сейчас же прятались за щурившимися в ханжеской улыбке веками; рот, из которого выходили умные, злые слова, разившие иногда сильнее яда, был небольшой, изящно очерченный, с насмешливо кривившейся нижней губой.
Эта физиономия могла временами выражать ум, честолюбие, сладострастие, но никогда не выражала доброту. При первом же приближении к этому человеку становилось ясно: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он был в числе ваших врагов, равно как никто не горел желанием подружиться с ним.
Был монсеньер невысок ростом, но – как выражаются буржуа в разговоре о священнослужителях – «представителен». Прибавьте к этому нечто в высшей степени высокомерное, презрительное, дерзкое в его манере держать голову, кланяться, входить в гостиные, выходить оттуда, садиться и вставать. Зато он будто нарочно припасал для дам свои изысканные любезности; глядя на них, он щурился с многозначительным видом, а если женщина, к которой он обращался, нравилась ему, его лицо принимало непередаваемое выражение сладострастной нежности.
Именно так, полуприкрыв веки и помаргивая, он вошел в гостиную г-жи де Маранд, где собрались почти одни дамы; генерал, давно и хорошо знавший его высокопреосвященство Колетти, услышал, что лакей докладывает о монсеньере, и процедил сквозь зубы:
– Входи, монсеньер Тартюф!
Доклад о его высокопреосвященстве, его появление в гостиной, поклон, жеманство, с каким усаживался в кресло проповедник, ставший известным во время последнего поста, на мгновение отвлекли внимание присутствующих от Кармелиты. Мы говорим «на мгновение», потому что прошло не более минуты с того времени, как г-жа де Маранд уронила портьеру, и до того, как портьера вновь приподнялась, пропуская двух подруг.
Разительный контраст между г-жой де Маранд и Кармелитой бросался в глаза.
Неужели это была все та же Кармелита?
Да, она, но не та, чей портрет мы списали когда-то из «Монографии о Розе»: румяная, сиявшая, поражавшая выражением простодушия и невинности; теперь она не улыбалась, ноздри ее не раздувались, как раньше, когда она вдыхала аромат целого поля роз, благоухавших под ее окном и украшавших могилу мадемуазель де Лавальер… Нет, сейчас в гостиную входила новая Кармелита – высокая молодая женщина с ниспадавшими на плечи по-прежнему роскошными черными волосами, но ее плечи были словно высечены из мрамора. У нее было все то же открытое и умное лицо, но оно было будто выточено из слоновой кости! Те же щеки, когда-то окрашенные румянцем юности и здоровья, ныне побледнели и стали матовыми.
Ее глаза, и раньше удивлявшие своей красотой, теперь, казалось, стали чуть ли не вдвое больше. Они и прежде горели огнем, но теперь искры стали молниями. Вокруг ее глаз залегли тени, и можно было подумать, что эти молнии сыплются из грозовой тучи.
Губы Кармелиты, когда-то пурпурные, с трудом оживали после той страшной ночи и так и не смогли вернуть себе первоначальный цвет. Они едва достигли бледно-розового кораллового оттенка, однако прекрасно дополняли портрет Кармелиты – настоящей красавицы – и в то же время придавали ее красоте нечто неземное.
Одета Кармелита было просто, но очень изящно.
Три подруги уговорили ее пойти на этот вечер; к тому же она решила как можно скорее обеспечить себе независимое существование. И вопрос о том, в чем Кармелита предстанет перед публикой, долго обсуждался всеми подругами. Само собой разумеется, что Кармелита в этом обсуждении не участвовала. Она с самого начала заявила, что считает себя вдовой Коломбана и всю жизнь будет носить по нему траур, а потому пойдет на вечер в черном платье. Остальное же она предоставила решать Фраголе, Лидии и Регине.
Регина решила, что платье будет из черного кружева, а корсаж и юбка – из черного атласа. Украсит его гирлянда темно-фиолетовых цветов, являющихся символом печали и известных под именем аквилегий, а в гирлянду будут вплетены ветки кипариса.
Венок сплела Фрагола, лучше других разбиравшаяся в сочетании цветов, в подборе оттенков; как и гирлянда на платье, как и букетик на корсаже, венок состоял из веток кипариса и аквилегий.
Ожерелье черного жемчуга, дорогой подарок, преподнесенный Региной, украшал шею Кармелиты.
Когда девушка, бледная, но нарядная, появилась на пороге спальни г-жи де Маранд, ожидавшие ее выхода вскрикнули от восхищения и в то же время от страха. Она была похожа на античное видение – Норму или Медею. Собравшиеся не смогли скрыть изумления.
Старый генерал, обычно настроенный весьма скептически, понял, что перед ним святая преданность и величие мученицы. Он поднялся и стоя стал ожидать приближения Кармелиты.
Едва Кармелита появилась в гостиной, Регина поспешила ей навстречу.
Рядом с двумя дышащими жизнью и счастьем молодыми женщинами она выглядела как призрак.
Гости провожали взглядами эту молчаливую группу со все возраставшим любопытством, почти с волнением.
– До чего ты бледна, бедная сестричка! – заметила Регина.
– Как ты хороша, о Кармелита! – воскликнула г-жа де Маранд.
– Я уступила вашим настойчивым просьбам, мои любимые, – проговорила в ответ их подруга. – Но, может быть, пока не поздно, мне следует остановиться?
– От чего же?
– Вы знаете, ведь я не открывала фортепьяно с тех пор, как мы пели вместе с Коломбаном, прощаясь с жизнью. А вдруг мне изменит голос? Или окажется, что я ничего не помню?
– Нельзя забыть то, чему не учился, Кармелита, – возразила Регина. – Ты пела, как поют птицы, а разве они могут разучиться петь?
– Регина права, – поддержала подругу г-жа де Маранд. – И я уверена в тебе, как уверена в себе и ты сама. Пой же без смущения, дорогая моя! Могу поручиться, что ни у кого из артистов никогда не было более благожелательно настроенной публики.
– Спойте, спойте, сударыня! – стали просить все, за исключением Сюзанны и Лоредана: брат разглядывал красавицу Кармелиту с изумлением, сестра – с завистью.
Кармелита поблагодарила кивком собравшихся и пошла к инструменту.
Генерал Эрбель сделал два шага ей навстречу и поклонился.
– Господин граф! – произнесла г-жа де Маранд. – Имею честь представить вам самую дорогую свою подругу, ведь из трех моих подруг она самая несчастливая.
Генерал опять поклонился и с галантностью, достойной рыцарских времен, промолвил:
– Мадемуазель! Сожалею, что госпожа де Маранд поручила мне столь легкое дело, как разгласить повсюду похвалу вашему таланту. Поверьте, я приложу к этому все силы и все равно буду считать себя вашим должником.
– О! Спойте! Спойте, сударыня! – снова попросили несколько голосов.
– Вот видишь, милая сестричка, – заметила г-жа де Маранд, – все ждут с нетерпением… Так ты начнешь?
– Сию минуту, если вам угодно, – просто отвечала Кармелита.
– Что ты будешь петь? – спросила Регина.
– Выберите сами!
– У тебя нет любимого произведения?
– Нет.
– У меня здесь весь «Отелло».
– Пусть будет «Отелло».
– Ты будешь аккомпанировать себе сама? – спросила Лидия.
– Если некому это сделать… – начала Кармелита.
– Я с удовольствием сяду за фортепьяно, – торопливо предложила Регина.
– А я буду переворачивать страницы! – подхватила г-жа де Маранд. – Тебе нечего бояться, когда мы с тобой рядом, не правда ли?
– Мне нечего бояться, – отозвалась Кармелита, грустно качая головой.
Девушка в самом деле была совершенно спокойна. Холодной рукой она коснулась руки г-жи де Маранд; лицо ее выражало полную невозмутимость.
Госпожа де Маранд направилась к фортепьяно и выбрала из стопки партитуру «Отелло».
Кармелита осталась стоять, опираясь на Регину; будуар был на две трети полон.
Гости расселись и затаив дыхание стали ждать.
Госпожа де Маранд поставила ноты на фортепьяно, а Регина села за инструмент и блестяще исполнила бурную прелюдию.
– Споешь «Романс об иве»? – спросила г-жа де Маранд.
– С удовольствием, – ответила Кармелита.
Госпожа де Маранд раскрыла партитуру на предпоследней сцене финального акта.
Регина повернулась к Кармелите, готовая начать по ее знаку.
В эту минуту лакей доложил:
– Господин и госпожа Камилл де Розан.
XVIРОМАНС ОБ ИВЕ
Глухой протяжный вздох, похожий на стон, вырвался при этих словах у трех или четырех человек из тех, что собрались в гостиной.
Затем наступила глубокая тишина. Казалось, все присутствующие знали историю Кармелиты и потому не смогли сдержать скорбного восклицания при неожиданном появлении молодого человека с горящим взором, улыбкой на устах и беззаботным выражением на лице, хотя именно Камилла де Розана можно было в определенном смысле считать убийцей Коломбана.
Стон вырвался из груди у Жана Робера, Петруса, Регины и г-жи де Маранд.
А Кармелита не вскрикнула, не вздохнула: у нее перехватило дыхание, и она застыла подобно статуе.
Когда г-н де Маранд услышал имя Камилла, он тут же вспомнил, что именно этого человека ему рекомендовал его американский корреспондент. Хозяин дома пошел навстречу гостю со словами:
– Вы прибыли как нельзя более кстати, господин де Розан! Не угодно ли вам будет присесть и послушать! Госпожа де Маранд уверяет, что нам предстоит насладиться самым прекрасным голосом из всех, какие ей доводилось когда-либо слышать.
Он предложил руку г-же де Розан и проводил ее к креслу, в то время как Камилл пытался в стоявшем перед ним призраке узнать Кармелиту, а когда узнал, едва слышно вскрикнул от изумления.
Лидия и Регина метнулись к подруге, полагая, что ей нужна помощь, что она вот-вот упадет в обморок. Однако, к немалому их удивлению, Кармелита, как мы уже сказали, продолжала стоять, глядя в одну точку; только лицо ее стало мертвенно-бледным.
Ее неподвижный, безжизненный взгляд ничего не выражал, как бы утратив способность видеть, а сердце, казалось, остановилось, будто вся она внезапно окаменела. На молодую женщину смотреть было тем более страшно, что, помимо смертельной бледности, залившей ее щеки, на ее будто высеченном из мрамора лице волнение никак не выражалось.
– Сударыня, – обратился г-н де Маранд к своей супруге, – я имел честь говорить вам об этих двух лицах.
– Займитесь ими, сударь, – отвечала г-жа де Маранд. – Я же полностью принадлежу Кармелите… Видите, в каком она состоянии…
Бледность Кармелиты, ее остановившийся взгляд, застывшая поза действительно поразили г-на де Маранда.
– Боже мой, мадемуазель! Что с вами? – с состраданием спросил он.
– Ничего, сударь, – отозвалась Кармелита, и заставила себя поднять голову, как свойственно сильным натурам в минуту испытания, когда нужно взглянуть несчастью в лицо. – Со мной ничего!
– Не пой! Не нужно тебе сегодня петь! – шепнула Кармелите Регина.
– Почему я не должна петь?
– Это испытание выше твоих сил, – заметила Лидия.
– Посмотрим! – возразила Кармелита.
На ее губах мелькнуло бледное, неживое подобие улыбки.
– Так ты хочешь петь? – переспросила Регина, вновь усаживаясь за фортепьяно.
– Сейчас я не просто женщина, я – артистка!
И Кармелита сделала три шага, еще отделявшие ее от инструмента.
– Господи, помоги! – промолвила г-жа де Маранд.
Регина снова сыграла прелюдию.
Кармелита запела:
Assisa al pie d’un salice…[5]5
Сидя у подножия ивы… (uni.)
[Закрыть]
Ее голос звучал уверенно, и уже со второй строки слушателей охватило искреннее волнение: они сопереживали горю Дездемоны, а не страданиям Кармелиты.
Трудно было сделать более удачный выбор, учитывая положение несчастной девушки: смятение Дездемоны, когда она поет первый куплет, обращаясь к чернокожей рабыне, своей кормилице, ее смертельный страх в определенном смысле выражали тоску, сжимавшую сердце Кармелиты. Гроза, нависшая над палаццо прекрасной венецианки, ветер, разбивший готическое окно в ее спальне, гром, с треском разрывающийся вдалеке, темнота ночи, печально мерцающий огонек лампы – все в этот мрачный вечер, вплоть до меланхоличных стихов Данте в устах гондольера, проплывающего в своей лодке, повергает несчастную Дездемону в бездну отчаяния; все предвещает несчастье, в каждой мелочи – зловещее предзнаменование:

Nessun maggior dolore Che ricordarsi del tempo felice, Nella miseria…[6]6
Тот страждет высшей мукой, // Кто радостные помнит времена // В несчастий… (ит.) – Данте, «Божественная комедия», «Ад», V, 121–123. – Перевод М Лозинского.
[Закрыть]
Ария статуи в моцартовском «Дон Жуане», а также отчаяние доньи Анны, когда она натыкается на тело своего отца, – вот, может быть, единственные две сцены, сравнимые по силе с этой пронзительной сценой томительных предчувствий.
Итак, повторяем, музыка величайшего итальянского композитора как нельзя лучше выражала муки Кармелиты.
Разве храбрый, верный, сильный Коломбан, по которому она носила в душе траур, не напоминал мрачного и преданного африканца, влюбленного в Дездемону? А отвратительный Яго, язвительный друг, сеющий в сердце Отелло ядовитые семена ревности, разве не был в известном смысле похож на американца, немало зла принесшего по легкомыслию с той же легкостью, с какой Яго причинил его по злобе?
Кармелита при виде Камилла почувствовала себя в положении, описанном Шекспиром, а романс, который она исполняла с такой твердостью и выразительностью, был настоящей пыткой: каждой нотой он вонзался ей в сердце, будто холодная сталь клинка.
После первого куплета все зааплодировали с воодушевлением, с каким непременно встречает новый талант публика, если она беспристрастна.
Второй куплет по-настоящему удивил слушателей; перед ними была уже не женщина, уже не певица, изливающая поток жалоб, теперь пело воплощенное Страдание:
I ruscelletti limpidi A caldi suoi sospiri…[7]7
Прозрачные ручейки // Их страстным вздохам внимали… (ит.)
[Закрыть]
А припев был исполнен с такой трогательной печалью, что вся поэма отчаяния девушки прошла, должно быть, в этот момент перед глазами тех, кому ее история была знакома, как, наверно, проходила она перед ее собственным взором:
L’aura fra i rami flebile Ripetiva il suon…[8]8
Легкий ветерок среди ветвей // Жалобно звук повторял… (ит.)
[Закрыть]
Регина стала почти столь же бледна, как и Кармелита; Лидия плакала.
И действительно, никогда еще голос, проникновеннее этого (а ведь описываемое нами время было богато прославленными певицами: Паста, Пиццарони, Менвьель, Зонтаг, Каталани, Малибран умели увлечь слушателей), не волновал так сердца тех, кого на музыкальном итальянском языке называют dilettanti[9]9
Любители (ит.).
[Закрыть]. Однако да позволено нам будет сказать несколько слов (для тех, кто знаком с творчеством великих певиц, которых мы только что назвали), чем отличалась наша героиня от известных исполнительниц.
У Кармелиты был от природы голос необычайного диапазона: она могла взять «соль» нижнего регистра с той же легкостью и звучностью, с какой г-жа Паста брала «ля», и могла подняться до верхнего «ре». Таким образом, девушка исполняла – в этом состояло чудо ее пения – партии и для контральто и для сопрано.
Не было на свете сопрано чище, богаче, эффектнее, с большим блеском исполняющего фиоритуры, gorgheggi, если нам будет позволено употребить это слово, придуманное неаполитанцами и обозначающее горловое журчание, которым злоупотребляет, по нашему мнению, всякое начинающее сопрано.
Когда же Кармелита исполняла партии контральто, она была неподражаема.
Всякий знает чарующее, колдовское, так сказать, действие контральто: оно поет о любви с большей силой, чем сопрано, о печали – с большей выразительностью, о страданиях – с большей энергией. Обладательницы сопрано – soprani – выпевают, будто птицы: они нравятся, завораживают, восхищают; обладательницы контральто – contralti – волнуют, беспокоят, увлекают. Сопрано – голос чисто женский: в нем заключена нежность; зато контральто можно назвать истинно мужским: оно звучит строго, грубовато, довольно резко. И тем не менее, это тембр особый, голос-гермафродит, заключающийся в себе как мужское, так и женское начала. Вот почему он овладевает душой слушателей с быстротой и силой электричества или магнетизма. Контральто в каком-то смысле созвучно переживаниям слушателя: если бы тот умел выражать свои чувства в пении, то, несомненно, захотел бы спеть именно так.
Такое же действие произвел на аудиторию и голос Кармелиты. Она была наделена от природы редкой способностью (правда, чисто инстинктивной, ибо она не была знакома с приемами великих исполнителей своего времени) удивительно счастливо сочетать грудное и горловое пение; она так умело чередовала их, что даже подлинный знаток вряд ли сумел бы определить, как долго ей пришлось учиться, чтобы достичь поистине чудесных эффектов обоих столь разных голосов.
Кармелита прекрасно музицировала. Под руководством Коломбана она упорно, старательно изучила основополагающие принципы музыки и отныне могла идти своим путем, пленяя и волнуя слушателей. Она обладала не только красивым голосом, но и изумительным вкусом. С первых же уроков она привыкла к строгой немецкой музыке и употребляла итальянские фиоритуры весьма умеренно: лишь когда хотела добиться большей выразительности какого-нибудь фрагмента или связать две музыкальные фразы, но никогда – только как украшение или доказательство своей виртуозности.
В заключение этого отступления, посвященного таланту Кармелиты, прибавим, что, в отличие от знаменитых певиц своего времени (и даже всех времен), одна и та же нота при различных состояниях ее души приобретала в ее исполнении разное звучание.
Пусть же читатели не удивляются и не обвиняют нас в преувеличениях, когда мы утверждаем, что ни одна певица, ученица Порпоры, Моцарта, Перголези, Вебера или даже Россини, не сумела достичь совершенства этого «двойного голоса». Ведь у Кармелиты был куда более серьезный учитель, чем только что нами перечисленные, – имя ему Несчастье!
К концу третьего куплета публика пришла в исступление, слушателей охватил неописуемый восторг.
Еще не отзвучали последние ноты, похожие на жалобные стоны самой Скорби, как раззолоченный потолок светского будуара дрогнул от грома рукоплесканий. Все повскакали с мест, желая первыми поблагодарить, поздравить очаровавшую их артистку; это был настоящий праздник, всеобщее воодушевление – то, что может позволить furia francese[10]10
Французская пылкость (ит).
[Закрыть], охотно забывающая о внешних приличиях. Слушатели устремились к фортепьяно, чтобы поближе разглядеть девушку, пленительную, словно сама Красота, всесильную, как Мощь, печальную будто Отчаяние. Пожилые дамы завидовали ее молодости, юные особы – ее красоте, все остальные – ее несравненному таланту; мужчины говорили друг другу, что великое счастье – быть любимым такой женщиной. И все подходили к Кармелите, брали ее руку и с любовью ее пожимали!
Вот в чем заключается истинная сила искусства, настоящее его величие: в одно мгновение оно способно обратить незнакомца в старого и верного друга!
Тысячи приглашений, подобно цветкам из венца ее будущей известности, мгновенно посыпались на Кармелиту.
Старого генерала, истинного знатока и ценителя, как мы уже сказали, пронять было не так-то просто, но даже он почувствовал, как по его щекам заструились слезы: то пролилась дождем гроза, переполнявшая его сердце, пока он слушал пение безутешной девушки.
Жан Робер и Петрус инстинктивно подались один навстречу другому и крепко пожали друг другу руки: так они молча выражали свое мучительное волнение и полное грусти восхищение. Если бы Кармелита одним мановением руки призвала их к отмщению, они набросились бы на беззаботного Камилла, не подозревавшего, что произошло, слушавшего с улыбкой на устах и моноклем в глазу и кричавшего со своего места: «Brava! Brava! Brava!» – точь-в-точь как в Итальянской опере.
Регина и Лидия поняли, что присутствие креола увеличивало страдания Кармелиты, отчего ее пение стало еще выразительнее. Слушая ее, они трепетали не переставая: им казалось, что сердце певицы вот-вот разорвется, и они с напряжением ловили каждую ноту. Обе были совершенно ошеломлены: Регина не смела обернуться, Лидия не могла поднять голову.
Вдруг те, что стояли ближе других к Кармелите, вскрикнули; обе молодые женщины вышли из оцепенения и разом взглянули в сторону подруги.
Когда Кармелита пропела последнюю, пронзительную ноту, она запрокинула голову, смертельно побледнела и непременно рухнула бы на пол, если бы ее не поддержали чьи-то руки.
– Мужайтесь, Кармелита! – шепнул ей приветливый голос. – Можете гордиться: с этого вечера вам больше не нужна ничья помощь!
Прежде чем у девушки закрылись глаза, она успела узнать Людовика, этого жестокого друга, вернувшего ее к жизни.
Она вздохнула, печально покачала головой и лишилась чувств.
Только тогда из-под ее прикрытых век показались две слезы и покатились по холодным щекам.
Две подруги приняли Кармелиту из рук Людовика, появившегося в гостиной в то время, когда она пела, и, следовательно, вошедшего незаметно, без доклада, зато вовремя оказавшегося рядом, чтобы подхватить несчастную девушку.
– Это ничего, – сказал он двум подругам, – подобные кризисы ей скорее на пользу, чем во вред… Поднесите ей к лицу вот этот флакон: через пять минут она придет в себя.
Регина и Лидия с помощью генерала перенесли Кармелиту в спальню; правда, дальше порога генерал не пошел.
Как только Кармелита исчезла и Людовик успокоил слушателей, приутихшее было воодушевление вспыхнуло с новой силой.
Со всех сторон единодушно раздавались восхищенные крики.





