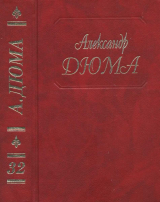
Текст книги "Сальватор. Часть. 1, 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Из уст всех присутствующих вырвался крик ужаса.
– Замолчите! Замолчите! – зашикали со всех сторон на юного фанатика. – Вы его губите!
– Говорите! Говорите! – приказал г-н Сарранти. – Я хочу, чтобы именно так меня защищали.
Публика взорвалась аплодисментами.
– Жандармы! Очистить зал! – закричал председатель.
Повернувшись к адвокату, он продолжал:
– Метр Эмманюель Ришар! Лишаю вас слова!
– Теперь это не имеет значения, – заметил адвокат. – Я исполнил то, что мне было поручено, и сказал все, что хотел.
Он обратился к г-ну Сарранти с вопросом:
– Вы удовлетворены, сударь? Правильно ли я исполнил вашу волю?
Вместо ответа г-н Сарранти обнял своего защитника.
Тем временем жандармы бросились исполнять приказание председателя; однако возмущенная толпа взревела так, что председатель понял: дело это не только трудное, но еще и небезопасное.
Вполне мог вспыхнуть мятеж, а в общей свалке г-на Сарранти могли похитить.
Один из судей склонился к председателю и шепнул ему на ухо несколько слов.
– Жандармы! – проговорил тот. – Займите свои места. Суд призывает присутствующих к порядку.
– Тихо! – крикнули из толпы.
И все сейчас же умолкли, будто привыкли повиноваться этому голосу.
С этого момента вопрос был поставлен четко: с одной стороны – заговор, освященный именем императора и клятвой верности, что превращало его если не в щит, то в пальмовый лист для так называемого преступника; с другой стороны – прокуратура, решившаяся преследовать г-на Сарранти не как государственного изменника, виновного в оскорблении величества, а как вора, похитившего сто тысяч экю и двоих детей, а также убийцу Ореолы.
Защищаться – значило бы допускать эти обвинения; отвергать их шаг за шагом – означало бы допустить их существование.
По приказанию г-на Сарранти Эмманюель Ришар вел себя так, будто и не слышал о трех обвинениях, выдвинутых королевским прокурором. Он предоставлял публике судить о необычной позиции обвиняемого, сознававшегося в преступлении, которое не вменялось ему в вину и влекло за собой не смягчение, а ужесточение наказания.
И публика свое решение уже вынесла.
При других обстоятельствах после защитительной речи адвоката обвиняемого заседание непременно было бы прервано, чтобы дать отдых судьям и заседателям: однако после того, что произошло в зале, останавливать заседание стало опасно, и представители обвинения решили, что лучше поскорее покончить с этим делом, даже если вокруг разразится настоящая буря.
Господин королевский прокурор встал и в мертвой тишине, какая наступает на море между двумя шквалами, взял слово.
С первых же его слов все зрители поняли, что они скатываются с поэтических головокружительных высот политического Синая на дно уголовного крючкотворства.
Словно не было ошеломляющего выступления адвоката Ришара, словно наполовину повергнутый титан только что не заставил пошатнуться на своем троне тюильрийского Юпитера; словно не были присутствовавшие в зале все еще ослеплены пылающими молниями императорского орла, пронесшегося высоко в поднебесье… Господин королевский прокурор выразился следующим образом:
– Господа! За последнее время общественное внимание обратили на себя многочисленные преступления; вместе с тем они вызвали серьезную озабоченность и пристальное наблюдение со стороны должностных лиц. Беря свое начало в скоплении постоянно растущего населения, а также, возможно, в приостановлении некоторых общественных работ или дороговизне продовольствия, – преступления эти все же происходили не чаще тех, к которым мы уже привыкли: это критская дань, выплачиваемая ежегодно обществом за пороки и леность, ведь те, подобно античному Минотавру, требуют определенного числа жертв!..
Было очевидно, что королевский прокурор высоко ценит этот эффектный период, ибо он сделал паузу и обвел взглядом людское море, тем более, может быть, неспокойное в своих глубинах, что на поверхности оно казалось совершенно невозмутимым.
Публика оставалась безучастной.
– Однако, господа, – продолжал королевский прокурор, – дерзость некоторых преступников нашла себе новое поприще, на котором мы не привыкли их встречать и преследовать; эти преступники беспокоили общество новизной и смелостью своих посягательств. Но – и я говорю об этом с радостью, господа, – зло, от которого мы стонем, не так велико, как представляют некоторые; кое-кто находит удовольствие в том, чтобы его преувеличивать. Тысячи лживых слухов были распространены намеренно; их породило само недоброжелательство; едва зародившись, слухи эти встречались с жадным любопытством, и каждый день рассказ о пресловутых ночных преступлениях вносил ужас в души доверчивых людей, оцепенение – в умы легковерных…
Слушатели переглядывались, недоумевая, куда клонит прокурор. Лишь завсегдатаи суда присяжных, которые приходят в поисках того, чего им недостает в собственном доме в зимнюю пору, иными словами – в надежде расслабиться и увидеть зрелище, теряющее для них со временем новизну и прелесть, однако становящееся необходимым из-за привычки, – только эти завсегдатаи, хорошо знакомые с фразерством г-на Берара и г-на де Маршанжи, не дрогнули, видя, на какой путь ступает королевский прокурор; они отлично знали, что в народе говорят: «Все дороги ведут в Рим», а во Дворце правосудия (при определенном правительстве и в определенную эпоху) можно услышать: «Все дороги ведут к смертной казни».
Не этой ли дорогой вели Дидье в Гренобле; Пленье, Толлерона и Карбонно в Париже; Бертона в Сомюре, Рау, Бори, Губена и Помье в Ла-Рошели?
Королевский прокурор продолжал, сопровождая свою речь величавым и чрезвычайно покровительственным жестом:
– Успокойтесь, господа! Судебная полиция подобна стоглазому Аргусу; она была бдительной, она была готова отправиться на поиски современных Каков в самые заветные их укрытия, в самые глубокие пещеры; ведь для полиции нет недоступных мест, и представители власти отвечали на лживые слухи еще более неукоснительным исполнением своего долга.
Да, мы отнюдь не отрицаем, что имели место тяжкие преступления, и, будучи непреклонным органом закона, мы сами ходататайствовали о различных наказаниях, которые навлекли на себя преступники. Можете быть уверены, господа, что никто не избежит карающего меча правосудия. Отныне общество может успокоиться: самые наглые возмутители порядка у нас в руках, а те, что пока гуляют на свободе, непременно понесут наказание за свои преступления.
Так, например, те, что скрывались в окрестностях канала Сен-Мартен и избрали безлюдные причалы местом своих ночных нападений, в настоящее время брошены в темницу и тщетно пытаются отклонить доказательства, собранные против них следствием.
Испанец Феррантес, грек Аристолос, баварец Вальтер, овернец Кокрийа были задержаны поздно вечером третьего дня. Полиция не имела их следов; однако не было такого места, где бы они могли укрыться от недремлющего ока правосудия; под давлением неопровержимых доказательств, а также признавая за собой вину, преступники уже дали показания.
Присутствующие продолжали переглядываться, спрашивая друг друга шепотом, что общего Феррантес, Аристолос, Вальтер и Кокрийа могут иметь с г-ном Сарранти.
Однако завсегдатаи с доверительным видом покачивали головами, словно желая сказать: «Вот вы увидите, вы увидите!»
Королевский прокурор не умолкал:
– Три еще более злостных преступления потрясли и возмутили общественность. Неподалеку от Ла-Бриша был обнаружен труп несчастного отставного солдата. Тогда же в Ла-Виллете на поле было совершено зверское убийство бедного работника. А несколько дней спустя на дороге из Парижа в Сен-Жермен убили извозчика из Пуаси.
В считанные дни, господа, правосудие покарало виновных в этих убийствах, настигнув их в самых разных концах Франции.
Однако сообщением об этих событиях не ограничились, рассказывали о сотне других преступлений: совершено убийство на улице Карла Десятого; за Люксембургским дворцом найден кучер в луже собственной крови; на улице Кадран напали на женщину; третьего дня совершено вооруженное нападение на почтовую карету небезызвестным Жибасье – его имя не раз звучало в этих стенах и, несомненно, знакомо присутствующим.
И вот, господа, пока кое-кто пытался таким образом посеять панику среди населения, судебная полиция установила, что несчастный, обнаруженный на улице Карла Десятого, скончался от кровоизлияния в легких; что кучера хватил апоплексический удар, когда он раскричался на лошадей; что женщина, судьба которой так всех тронула, оказалась просто-напросто жертвой бурной сцены, какие случаются во время оргий; а небезызвестный Жибасье, господа, не совершал преступления, вменявшегося ему в вину, чему есть неопровержимые доказательства; судите же сами, можно ли доверять этим клеветническим выдумкам.
Когда мне доложили, что Жибасье напал на карету между Ангулемом и Пуатье, я вызвал г-на Жакаля.
Господин Жакаль меня заверил, что вышеупомянутый Жибасье отбывает срок в Тулоне, находится там под номером сто семьдесят один и раскаяние его так велико, а поведение настолько примерно, что как раз в настоящее время к его величеству Карлу Десятому обратились с прошением помиловать его, простив оставшиеся семь или восемь лет каторги.
Этот яркий пример освобождает меня от необходимости приводить другие: судите сами, господа, на какую грубую ложь пускается кое-кто, дабы подогреть любопытство или, точнее, враждебность общества.
Печально видеть, господа, как расходятся эти слухи, а зло, на которое жалуются их распространители, падает, так сказать, на их собственные головы.
Говорят, что общественное спокойствие нарушено: мирные жители запираются и трясутся от страха с наступлением темноты; иностранцы покинули обезлюдевший из-за постоянных преступлений город; торговля захирела, погибла, уничтожена!
Господа! Что бы вы сказали, если бы узнали, что только недоброжелательство этих людей, скрывающих свои бонапартистские или республиканские взгляды под либеральной вывеской, и явилось причиной всех несчастий, вызванных клеветническими выпадами?
Вы пришли бы в негодование, не так ли?
Однако в результате губительного маневра все тех же людей, угрожающих обществу под видом того, что они берут его под свое покровительство, было порождено и другое зло. Люди эти изо дня в день возвещают о безнаказанных преступлениях, повторяют, что нерадивые должностные лица дают преступникам спокойно наслаждаться безопасностью.
Вот и такой человек, как Сарранти, которому вы сегодня должны вынести приговор, в течение семи лет кичился тем, что находился вне досягаемости для правосудия.
Господа! Правосудие хромает, оно идет медленно, говорит Гораций. Пусть так! Однако оно неминуемо приходит к цели.
Итак, человек – я говорю о преступнике, стоящем перед вами, – совершает три преступления – кражу, похищение, убийство, – затем исчезает из города, из страны, в которой он родился, покидает Европу, пересекает моря, бежит на край света, на другой континент и обращается с просьбой к одному из королевств, затерявшихся в сердце Индии, принять его как почетного гостя; однако это другой континент отвергает его, это королевство вышвыривает его вон, Индия говорит ему: «Зачем ты явился ко мне, что делаешь в рядах моих невинных сынов ты, преступник? Убирайся прочь! Уходи! Назад, демон! Retro, satanas![13]13
Изыди, сатана! (лат.)
[Закрыть]»
Тут и там послышались сдерживаемые до сих пор смешки, к великому возмущению господ присяжных.
А королевский прокурор то ли не понял причины этого оживления, то ли, напротив, отлично все понимая, решил подавить его или же обратить себе на пользу и вскричал:
– Господа! Оживление в зале весьма показательно: так присутствующие выражают свое осуждение обвиняемому, и этот презрительный смех страшнее самого сурового наказания…
Попытка исказить мнение слушателей была встречена ропотом.
– Господа! – обратился к аудитории председатель. – Помните, что первая обязанность зрителей – соблюдение тишины.
В публике относились к беспристрастному председателю с глубоким уважением: присутствовавшие вняли его замечанию, и в зале снова стало тихо.
Господин Сарранти улыбался и высоко держал голову. Лицо его было невозмутимо. Он пожимал руку красавцу-монаху; тот, казалось, примирился с неизбежным приговором, грозившим его отцу, и чем-то напоминал святого Себастьяна, которого испанские художники любили изображать с пронзенным стрелами телом и с выражением снисходительности и ангельского терпения на лице.
Мы не будем приводить речь королевского прокурора полностью; скажем только, что он растягивал свое выступление как мог, излагая обвинения, выдвинутые свидетелями г-на Жерара; при этом он пустил в ход все испытанные приемы, употребил все классические цветы риторики, принятые во Дворце правосудия. Наконец он закончил свою обвинительную речь, требуя применить статьи 293, 296, 302 и 304 Уголовного кодекса.
Взволнованный шепот пробежал по рядам собравшихся. Толпа содрогнулась от ужаса. Волнение достигло высшей точки.
Председатель обратился к г-ну Сарранти с вопросом:
– Обвиняемый? Вы хотите что-нибудь сказать?
– Я даже не стану говорить, что не виновен, настолько я презираю выдвинутое против меня обвинение, – отозвался г-н Сарранти.
– А вы, метр Эмманюель Ришар, имеете что-либо сказать в защиту своего клиента?
– Нет, сударь, – отвечал адвокат.
– В таком случае слушание окончено, – объявил председатель.
Собравшиеся загудели, а затем вновь установилась тишина.
После заключительного слова председателя обвиняемый должен был услышать приговор. Пробило четыре часа утра. Все понимали, что речь почтенного председателя много времени не займет, а судя по тому, как он вел обсуждение, никто не сомневался в его беспристрастности.
Едва он раскрыл рот, судебным приставам не пришлось призывать слушателей к порядку: те затаили дыхание.
– Господа присяжные заседатели! – чуть заметно волнуясь, начал председатель. – Я только что объявил судебное разбирательство закрытым. Оно было долгим, тягостным для сердца и утомительным для ума.
Утомительным для ума – ибо длилось оно более шестидесяти часов.
Тягостным для сердца – ибо кто остался бы равнодушным, видя, что истец – человек почтенных лет, образец добродетели и милосердия, гордость своих сограждан, а противостоит ему человек, обвиняемый в трех преступлениях; человек, которому полученное воспитание позволяло занять достойное – и даже блестящее! – место в обществе; человек, который протестует против обвинений сам, а также устами своего сына, достойного монаха?
Господа присяжные заседатели! Вы, как и я, еще находитесь под впечатлением защитительных речей, которые только что слышали. Мы должны сделать над собой усилие, подняться над сиюминутными настроениями, собраться с духом в эту торжественную минуту и со всем возможным хладнокровием подвести итог этому затянувшемуся обсуждению.
Такое вступление глубоко взволновало зрителей, и толпа, молча, затаив дыхание, с горячим нетерпением ждала продолжения.
Почтенный председатель сделал подробный, добросовестный обзор доводов обвинения и отметил все недостатки защиты, выставившие обвиняемого в невыгодном свете. Закончил он свою речь так:
– Я изложил вам, господа присяжные заседатели, добросовестно и кратко, насколько это было возможно, все дело в целом. Теперь вам, вашей прозорливости, вашей мудрости я доверяю рассудить, кто прав, кто виноват, и принять решение.
Пока вы будете заниматься этим делом, вы постоянно будете испытывать глубокое и сильное волнение, непременно обуревающее честного человека, когда он должен осудить ближнего и объявить страшную истину; но вам достанет и ясности суждений, и смелости, и каков бы ни был ваш приговор, он окажется справедлив, в особенности если вы станете руководствоваться непогрешимой совестью!
Именно по закону этой совести, о которую разбиваются все страсти – ведь она глуха к словам, к дружбе, к ненависти, – правосудие вас облекает грозными обязанностями; общество передает вам все свои права и поручает вам защиту своих самых важных и дорогих интересов. Граждане, верящие в вас как в самого Господа Бога, доверяют вам свою безопасность, а граждане, чувствующие свою невиновность, вручают вам свою жизнь и бестрепетно ждут вашего приговора.
Это заключительное слово, четкое и краткое, выражало от первого до последнего слова совершенное беспристрастие и потому было выслушано в благоговейной тишине.
Едва председатель умолк, все слушатели поднялись как один человек, явно одобряя его речь; адвокаты тоже аплодировали ему.
Господин Жерар слушал председателя, бледнея от тревоги: он чувствовал, что в душе этот справедливый человек не обвиняет, а сомневается.
Было около четырех часов утра, когда присяжные удалились в совещательную комнату.
Обвиняемого увели из зала, и – событие неслыханное в судебных летописях! – ни один из тех, кто присутствовал в зале с самого утра, не собирался покидать своего места, хотя было неизвестно, как долго продлится обсуждение.
С этой минуты зал оживленно загудел, на все лады разбирая отдельные обстоятельства дела; в то же время в сердцах присутствовавших поселилось тяжелое беспокойство.
Господин Жерар спросил, можно ли ему удалиться. Ему хватило сил выступить с ходатайством о смерти, однако выслушать смертный приговор он был не в силах.
Он встал, чтобы выйти.
Толпа, как мы говорили, была весьма плотная, однако перед ним все мгновенно расступились: каждый спешил посторониться, словно при виде мерзкого или ядовитого животного; последний оборванец, самый бедный, самый грязный из присутствовавших боялся запачкаться, коснувшись этого человека.
В половине пятого раздался звонок. По рядам собравшихся пробежало волнение и передалось тем, что толпились за дверьми Дворца. И сейчас же, подобно тому как бывает во время прилива, волна вновь накатила на зал заседаний: каждый поспешил занять свое место. Однако напрасно так волновались зрители – это старшина присяжных хотел справиться по какому-то процедурному вопросу.
Тем временем в окна уже заглядывало бледное хмурое утро, соперничая со светом свечей и ламп. В эти часы даже самые выносливые люди испытывают усталость, а самые веселые чувствуют грусть, в эти часы всех бьет озноб.
Около шести часов снова раздался звон колокольчика.
На сей раз ошибки быть не могло: после двухчасового обсуждения вот-вот объявят либо вердикт о помиловании, либо смертный приговор.
Будто электрическая искра пробежала по толпе, вызвав, если можно так выразиться, рябь на ее поверхности. Как по волшебству установилась тишина среди присутствовавших, еще за минуту до того шумно и оживленно обсуждавших происходящее.
Дверь, соединявшая зал заседаний и комнату присяжных, распахнулась, и на пороге показались заседатели. Зрители старались заранее прочесть на их лицах приговор, который присяжные собирались произнести; кое-кто из присяжных был заметно взволнован.
Несколько мгновений спустя в зал вышли члены суда.
Старшина присяжных вышел вперед и, прижав руку к груди, тихим голосом стал читать вердикт.
Присяжные должны были ответить на пять вопросов.
Вопросы эти были выражены так:
Г. Виновен ли г-н Сарранти в предумышленном убийстве Ореолы?
2°. Предшествовали ли этому преступлению другие преступления, перечисленные ниже?
3°. Имел ли он целью подготовить или облегчить себе исполнение этих преступлений?
4°. Совершил ли кражу со взломом г-н Сарранти в комнате г-на Жерара днем 19 или в ночь с 19 на 20 августа?
5°. Причастен ли он к исчезновению двух племянников вышеупомянутого Жерара?
На мгновение воцарилась тишина.
Никто не в силах был бы описать волнение, охватившее присутствующих в этот миг, такой же краткий, как мысль, хотя, должно быть, он показался вечностью аббату Доминику, по-прежнему стоявшему вместе с адвокатом у опустевшей скамьи обвиняемого.
Старшина присяжных произнес следующее:
– По чести и совести, перед Богом и людьми, присяжные отвечают: «Да. Большинством голосов по всем вопросам признано: обвиняемый виновен!»
Взгляды всех присутствующих обратились на Доминика: он, как и остальные, выслушал приговор стоя.
В мутном утреннем свете его лицо стало мертвенно-бледным; он закрыл глаза и схватился за балюстраду, чтобы не упасть.
Зрители с трудом подавили скорбный вздох.
Председатель приказал ввести обвиняемого.
Все взгляды обратились к маленькой двери.
Господин Сарранти вышел в зал.
Доминик протянул к нему руку и смог произнести лишь одно слово:
– Отец!..
Однако тот выслушал смертный вердикт так же невозмутимо, как перед тем выслушивал обвинение, ничем не выдав волнения.
Доминик не умел так же владеть собой: он застонал, бросил горящий взор на то место, где сидел Жерар, судорожным движением выхватил из-за пазухи свиток; потом, сделав над собой невероятное усилие, снова сунул свиток в складки сутаны.
За то короткое время, пока наши герои переживали столь разнообразные чувства, господин королевский прокурор дрогнувшим голосом, чего никак нельзя было ожидать от человека, толкавшего присяжных на вынесение этого приговора, стал ходатайствовать о применении против г-на Сарранти статей 293, 296, 302 и 304 Уголовного кодекса.
Судьи стали совещаться.
Тем временем по рядам зрителей прошелестел слух: г-н Сарранти потому замешкался на несколько мгновений и не сразу появился в зале, что крепко заснул, пока присяжные решали его судьбу. Вместе с тем поговаривали, что мнения присяжных разделились и вердикт о виновности вынесен минимальным большинством голосов.
После пятиминутного обсуждения члены суда заняли свои места и председатель, не справившись с волнением, прочитал глухим голосом приговор, обрекавший г-на Сарранти на смерть.
Обернувшись к г-ну Сарранти, продолжавшему слушать все так же спокойно и невозмутимо, он прибавил:
– Обвиняемый Сарранти! У вас есть три дня для подачи кассационной жалобы.
Сарранти с поклоном отвечал:
– Благодарю, господин председатель, однако я не намерен подавать жалобу.
Доминика, казалось, вывели из оцепенения слова отца.
– Нет, нет, господа! – вскричал он. – Мой отец подаст ее, ведь он невиновен!
– Сударь! – заметил председатель. – Законом запрещено произносить подобные слова после вынесения приговора.
– Запрещено адвокату обвиняемого, господин председатель! – воскликнул Эмманюель. – Но не сыну! Горе сыну, который не верит в невиновность отца!
Казалось, председатель готов вот-вот сдаться.
– Сударь! – повернулся он к Сарранти, против обыкновения употребляя такое обращение к обвиняемому. – У вас есть просьбы к суду?
– Я прошу разрешить мне свидания с сыном; надеюсь, он, как священник, не откажется проводить меня на эшафот.
– Отец! Отец! – вскричал Доминик. – Клянусь, вам не придется на него всходить!
И едва слышно прибавил:
– Если кто и поднимется на эшафот, то это буду я сам!





