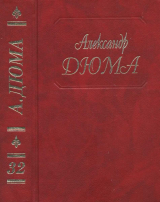
Текст книги "Сальватор. Часть. 1, 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Как он и предвидел, начиная от церкви святого Рока улица Сент-Оноре была запружена народом.
В Париже есть два сорта любопытных: одни, притягиваемые событиями, становятся их участниками; другие приходят на следующий день поглазеть на место происшествия.
И вот десять или двенадцать тысяч таких зевак с женами и детьми пришли на место происшествия.
Это было похоже на праздничное гулянье в Сен-Клу или Версале.
Здесь Сальватор и рассчитывал отыскать г-на Жакаля.
Сальватор ринулся в самую гущу толпы.
Мы не сможем в точности сказать, со сколькими людьми он обменялся взглядами и рукопожатиями, но все это – в полном молчании, только жестом он давал всем понять: «Ничего!» Так он добрался до улицы Мира.
Против особняка Майенсов Сальватор остановился. Он увидел того, кого искал.
Господин Жакаль, в рединготе, делавшем его похожим на домовладельца, в шляпе на манер Боливара и с зонтом под мышкой, зачерпывая щепоть табаку из табакерки с Хартией, разглагольствовал о вчерашних событиях, обвиняя во всем, разумеется, полицию.
Когда г-н Жакаль поднял очки, он встретился взглядом с Сальватором, однако ничем не выдал, что узнал его. Но было ясно: начальник полиции его увидел.
И верно: спустя мгновение Жакаль снова взглянул в ту сторону, где стоял Сальватор, и в его глазах читался вопрос: «Хотите мне что-то сказать?»
«Да», – также взглядом отвечал комиссионер.
«Ступайте вперед: я иду следом».
Сальватор пошел вперед и свернул в ворота.
Господин Жакаль повторил его маневр.
Сальватор обернулся, едва заметно поклонился и, не подавая руки, сказал:
– Можете мне не верить, господин Жакаль, я искал именно вас.
– Я вам верю, господин Сальватор, – хитро посмеиваясь, отозвался начальник полиции.
– Мне чудом помог случай, – продолжал Сальватор. – Ведь я только что из префектуры.
– Неужели? – откликнулся г-н Жакаль. – Вы удостоили меня чести зайти ко мне?
– Да, ваш дежурный тому свидетель. Правда, он не мог сказать, где вас искать. Пришлось мне поломать голову, и я пустился на поиски, веря в свою звезду.
– Могу ли я иметь счастье быть вам чем-нибудь полезным, дорогой господин Сальватор? – спросил г-н Жакаль.
– Ах, Боже мой, конечно, – ответил молодой человек, – если, разумеется, пожелаете.
– Дорогой господин Сальватор! Вы слишком редко обращаетесь ко мне с просьбами, и я не хотел бы упустить возможности оказать вам услугу.
– Дело у меня к вам простое, в чем вы сейчас убедитесь. Друг одного моего приятеля был арестован вчера вечером во время беспорядков.
– О! – только и сказал г-н Жакаль.
– Это вас удивляет? – спросил Сальватор.
– Нет. Вчера, как я слышал, арестовали немало народу. Уточните, о ком речь, господин Сальватор.
– Это несложно. Я как раз показывал вам на него в ту минуту, как его задерживали.
– A-а, так вы о нем?.. Странно…
– Значит, его точно арестовали?
– Не могу сказать наверное: у меня слабое зрение! Не напомните ли вы мне, как его зовут?
– Дюбрёй.
– Дюбрёй? Погодите, погодите! – вскричал г-н Жакаль, хлопнув себя по лбу, будто никак не мог собраться с мыслями. – Дюбрёй? Да, да, да, это имя мне знакомо.
– Если вам нужно что-то уточнить, я мог бы прямо сейчас найти в толпе двух полицейских, которые его арестовали. Я отлично запомнил их лица и непременно их узнаю, я в этом уверен…
– Вы полагаете?
– Тем более что я приметил их еще в церкви.
– Да нет, это ни к чему. Вы хотели что-то узнать об этом несчастном?
– Я хотел бы только услышать, на каком основании был арестован этот несчастный, как вы его называете?
– Этого я сейчас не могу сказать.
– Во всяком случае, вы мне скажете, где, по-вашему, он сейчас находится?
– Естественно, в тюрьме предварительного заключения при префектуре… Если, конечно, какое-нибудь особо тяжкое обвинение не заставило перевести его в Консьержери или Ла Форс.
– Ответ слишком расплывчат.
– Что же делать, дорогой господин Сальватор! Вы застигли меня врасплох.
– Вас, господин Жакаль?! Да разве это возможно?
– Ну вот, и вы туда же! Намекаете на мое имя и на то, что я хитер как лис.
– Черт побери! Такая уж у вас репутация!
– Так знайте: в отличие от Фигаро, я стою меньше, чем моя репутация, клянусь вам. Нет, я человек простодушный, и в том моя сила. Меня считают хитрецом, в моих действиях подозревают подвох, а попадаются на мое простодушие. В тот день, когда дипломат скажет правду, он обманет всех своих собратьев: они никак не поверят, что он не солгал.
– Дорогой господин Жакаль! Вам ни за что меня не убедить, что вы приказали арестовать человека, не зная причины, по которой это делаете.
– Послушаешь вас, так можно подумать, что я король Франции.
– Нет. Вы король Иерусалимской улицы.
– Вице-король, и только!.. Всего-навсего префект. Ведь в моем королевстве есть кое-кто повыше меня: господин де Корбьер и господин Делаво.
– Итак, вы отказываетесь мне ответить? – в упор глядя на начальника полиции, спросил Сальватор.
– Не отказываюсь, господин Сальватор. Просто это невозможно. Что я могу вам сказать? Арестовали господина Дюбрёя?
– Да, господина Дюбрёя.
– Стало быть, на то имелись основания.
– Именно о них я и хочу знать.
– Должно быть, он нарушил общественный порядок…
– Нет, потому что я наблюдал за ним как раз в ту минуту, как его задерживали. Напротив, он сохранял полное спокойствие.
– Тогда, значит, его приняли за кого-то другого.
– Неужели такое случается?
– Ах, ведь непогрешим только его святейшество папа, – промолвил г-н Жакаль, набивая нос табаком, – да и то…
– Позвольте мне обсудить ваши ответы, дорогой господин Жакаль.
– Сделайте одолжение. Хотя, сказать по правде, слишком много чести вы им этим окажете, господин Сальватор.
– Личность арестованного вам не известна?
– Я видел его вчера впервые в жизни.
– И имя его вам ни о чем не говорит?
– Дюбрёй?.. Нет.
– И вы не знаете, за что он задержан?
Господин Жакаль резким движением опустил очки на нос.
– Абсолютно не знаю, – отозвался он.
– Из этого я заключаю, – продолжал Сальватор, – что причина, по которой его задержали, незначительна и, несомненно, скоро он будет освобожден.
– О, разумеется, – в притворно-отеческом тоне отвечал г-н Жакаль. – Вы это хотели узнать?
– Да.
– Что ж вы раньше-то не сказали? Я не возьмусь утверждать, что друг вашего приятеля уже на свободе в эту самую минуту. Однако, раз вы взялись за него хлопотать, можете не беспокоиться: как только я вернусь в префектуру, я распахну перед этим человеком двери настежь.
– Благодарю! – стараясь проникнуть взглядом в самую душу полицейского, сказал Сальватор. – Так я могу на вас положиться?
– Передайте вашему приятелю, что он может спать спокойно. В моей картотеке за Дюбрёем ничего не числится. Это все, что вы желали от меня узнать?
– Ничего больше.
– По правде говоря, господин Сальватор, – продолжал полицейский, наблюдая за тем, как рассеивается толпа, – вы обращаетесь ко мне за услугами, которые очень похожи на такие вот сборища: кажется, эти люди у вас в руках… ан нет, это всего-навсего мыльные пузыри.
– Дело в том, что порой сборища кое к чему обязывают, как и услуги. Вот почему они так редки и, следовательно, так ценны, – со смехом проговорил Сальватор.
Господин Жакаль приподнял очки, взглянул на Сальватора, потом взялся за табак, а очки его снова упали на нос.
– Итак?.. – спросил он.
– Итак, до свидания, дорогой господин Жакаль, – отозвался Сальватор.
Он поклонился полицейскому, но, как и при встрече, не подал ему руки; перейдя улицу Сент-Оноре, он направился в ту сторону, где ожидал его в фиакре Доминик, то есть на угол Новой Люксембургской улицы.
Сальватор распахнул дверцу экипажа и протянул обе руки Доминику со словами:
– Вы мужчина, христианин и, стало быть, знаете, что такое страдание и смирение…
– Боже мой! – воскликнул монах, молитвенно складывая свои белые тонкие руки.
– Положение вашего друга серьезно, весьма серьезно.
– Значит, Жакаль все вам сказал?
– Напротив, он не сказал мне ничего, это меня и пугает. Он не знает вашего друга в лицо, имя Дюбрёя он впервые услышал лишь вчера, он понятия не имеет, за что его арестовали… Берегитесь, брат мой! Повторяю вам: дело серьезное, очень серьезное!
– Что же делать?
– Возвращайтесь к себе. Я постараюсь навести справки со своей стороны, вы попытайтесь тоже что-нибудь разузнать. Можете на меня рассчитывать.
– Друг мой! – воскликнул Доминик. – Вы так добры, что…
– Вы хотите мне что-то сообщить? – пристально взглянув на монаха, спросил Сальватор.
– Простите, что я с самого начала не сказал вам всей правды.
– Если еще не поздно, скажите теперь.
– Арестованного зовут не Дюбрёй, и он мне не друг.
– Неужели?
– Его зовут Сарранти, и он мой отец.
– Вот как! – вскричал Сальватор. – Теперь я все понял!
Он взглянул на монаха и прибавил:
– Ступайте в ближайшую церковь, брат мой, и молитесь!
– А вы?
– Я… попытаюсь действовать.
Монах взял Сальватора за руку и, прежде чем тот успел ему помешать, припал к ней губами.
– Брат! Брат! – вскричал Сальватор. – Я же вам сказал, что принадлежу вам телом и душой, но нас не должны видеть вместе. Прощайте!
Он захлопнул дверцу и торопливо зашагал прочь.
– В церковь Сен-Жермен-де-Пре! – приказал монах. И пока фиакр катил по мосту Согласия неспешно, как и положено фиакру, Сальватор почти бегом поднимался по улице Риволи.
XIIПРИЗРАК
Церковь Сен-Жермен-де-Пре с ее романской папертью, массивными колоннами, низкими сводами, царящим в ней духом VIII века – один из самых мрачных парижских храмов; значит, там скорее, чем в другом месте, можно было обрести физическое одиночество и духовный подъем.
Не случайно Доминик, священник, снисходительный к другим, но строгий к себе, избрал Сен-Жермен-де-Пре, чтобы попросить там Бога за своего отца.
Молился он долго; было уже пять часов, когда он вышел оттуда, спрятав руки в рукава и уронив голову на грудь.
Он медленно побрел к улице Железной Кружки, лелея робкую и смутную надежду, что отец уже вышел из тюрьмы и, возможно, заходил к нему.
И первое, о чем аббат спросил женщину, исполнявшую при нем обязанности привратницы и приходящей служанки, не было ли кого-нибудь в его отсутствие.
– Как же, святой отец, заходил какой-то господин…
Доминик вздрогнул.
– Как его зовут? – поспешил он с вопросом.
– Он не представился.
– Вы его не знаете?
– Нет, он пришел в первый раз.
– Вы уверены, что это был не тот же господин, что приносил мне третьего дня письмо?
– Нет, того я узнала бы: двух таких сумрачных лиц не найдешь во всем Париже.
– Несчастный отец! – пробормотал Доминик.
– Нет! – продолжала привратница. – Человек, который заходил дважды – а он был два раза: в полдень и в четыре часа, – худой и лысый. Ему на вид лет шестьдесят, у него глубоко посаженные глазки, как у крота, и вид у него совсем больной. Думаю, вы скоро его увидите; он сказал, что у него дело, а потом он зайдет еще… Пустить его к вам?
– Разумеется, – рассеянно отвечал аббат; в эту минуту его занимала только мысль об отце.
Он взял ключ и вознамерился подняться к себе.
– Господин аббат… – остановила его привратница.
– Что такое?
– Вы, стало быть, уже обедали сегодня?
– Нет, – возразил аббат, покачав головой.
– Значит, вы ничего не съели за целый день?
– Я об этом как-то не думал… Принесите мне что-нибудь из трактира на свой выбор.
– Если господину аббату угодно, – промолвила привратница, бросив взгляд в сторону печки, – я могу предложить отличный бульон.
– Пусть будет бульон!
– А потом я брошу на решетку пару отбивных; это будет гораздо вкуснее, чем в трактире.
– Делайте как считаете нужным.
– Через пять минут бульон и отбивные будут у вас.
Аббат кивнул и стал подниматься по лестнице.
Войдя к себе, он отворил окно. Последние лучи заходящего солнца золотили в Люксембургском саду ветви деревьев, на которых уже начинали набухать почки.
Сиреневая дымка, повисшая в воздухе, свидетельствовала о приближении весны.
Аббат сел, оперся локтем о подоконник и залюбовался вольными воробышками, громко щебетавшими, прежде чем вернуться в укрытые зеленью гнезда.
Верная данному слову, привратница принесла бульон и пару отбивных; не желая прерывать размышления монаха, которого привыкла видеть задумчивым, она придвинула стол к окну, у которого сидел Доминик, и подала обед.
У аббата вошло в привычку крошить хлеб у окна, и птицы, привыкшие к этой спортуле, слетались сюда, как римские клиенты к двери Лукулла или Цезаря.
Целый месяц его окно оставалось запертым; все это время птицы тщетно взывали к своему покровителю и, сидя за подоконником, с любопытством заглядывали через стекло.
Комната была пуста: аббат Доминик был в Пангоэле.
Но увидев, что окно снова отворилось, птички стали чирикать вдвое громче прежнего. Казалось, они передают друг другу добрую весть. Наконец некоторые из них, памятливее других, решились подлететь к монаху.
Шум крыльев привлек его внимание.
– A-а, бедняжки! – промолвил он. – Я совсем было о вас позабыл, а вы меня помните. Вы лучше меня!
Он взял хлеб и, как это делал раньше, стал его крошить.
И вот уже вокруг него закружились не два-три самых отважных воробышка, а все его старые питомцы.
– Свободны, свободны, свободны! – бормотал Доминик. – Вы свободны, прелестные пташки, а мой отец – пленник!
И снова рухнул в кресло и глубоко задумался.
Он машинально выпил бульон с корочкой хлеба, мякиш от которого отдал птицам, и съел отбивные.
Тем временем день клонился к вечеру; освещены были лишь верхушки деревьев и труб. Птицы улетели, и из зелени деревьев доносился их затихающий щебет.
Все так же машинально Доминик протянул руку и развернул газету.
В двух первых колонках многословно пересказывались события, имевшие место накануне. Аббат Доминик знал, как к ним относиться (во всяком случае, знал не хуже, чем правительственная газета, и пропустил эти колонки). Взглянув на третью, он задрожал всем телом, в глазах у него потемнело, на лбу выступил пот: не успев еще прочесть сообщение, он выхватил взглядом трижды повторенное свое имя, вернее – имя отца.
По какому же поводу трижды упоминали в газете о г-не Сарранти?
Несчастный Доминик испытал потрясение сродни тому, что пережили сотрапезники Валтасара, когда невидимая рука начертала на стене три огненных роковых слова.
Он протер глаза, будто подернувшиеся кровавой пеленой, и попытался читать. Но его руки, сжимавшие газету, дрожали, и строчки запрыгали перед глазами, как солнечные зайчики, отраженные в колеблющемся зеркале.
Наконец, он положил газету на колени, крепко сжал ее по краям обеими руками и в умирающем свете дня прочел…
Вы, разумеется, догадываетесь, что он прочел, не правда ли? Это было разосланное в газеты чудовищное сообщение, с которым мы вас ознакомили, – сообщение, обвинявшее его отца в краже и убийстве!
Удар молнии не мог бы поразить его сильнее, чем эти ужасающие слова.
Но вдруг, вскочив с кресла, он с криком бросился к секретеру:
– Слава Богу! Эта клевета, о мой отец, будет возвращена в преисподнюю, откуда она вышла!
И он достал из ящика уже известный читателям документ: исповедь, написанную г-ном Жераром.
Он страстно припал губами к свитку, от которого зависела человеческая жизнь, более чем жизнь – честь: честь его отца!
Он развернул драгоценный свиток, дабы убедиться в том, что в своей торопливости ничего не перепутал, узнал почерк и подпись г-на Жерара и снова поцеловал документ. Потом он спрятал его на груди под сутаной, вышел из комнаты, запер дверь и поспешно пошел вниз.
В это время навстречу ему поднимался какой-то человек. Но аббат не обратил на него внимания и едва не прошел мимо, как вдруг почувствовал, что тот схватил его за рукав.
– Прошу прощения, господин аббат, – проговорил незнакомец, – я как раз к вам.
Доминик вздрогнул при звуке этого голоса, показавшегося ему знакомым.
– Ко мне?.. Приходите позже, – сказал Доминик. – У меня нет времени снова подниматься наверх.
– А мне некогда еще раз приходить к вам, – возразил незнакомец и на сей раз схватил монаха за руку.
Доминик испытал неизъяснимый ужас.
Руки, сдавившие его запястье железной хваткой, были похожи на руки скелета.
Он попытался разглядеть того, кто так бесцеремонно остановил его на ходу; но лестница тонула в полумраке, лишь слабый свет сочился сквозь овальное оконце, освещая небольшое пространство.
– Кто вы такой и что вам угодно? – спросил монах, тщетно пытаясь высвободить руку.
– Я господин Жерар, – представился гость, – и вы сами знаете, зачем я пришел.
Доминик вскрикнул.
Но происходящее казалось ему совершенно невероятным; чтобы окончательно поверить, он хотел уже не только слышать, но и увидеть воочию г-на Жерара.
Он обеими руками ухватился за пришельца и подтащил его к окну, из которого падал луч закатного солнца – единственный, освещавший лестницу.
Луч выхватил из темноты голову призрака.
Это был в самом деле г-н Жерар.
Аббат отшатнулся к стене; в глазах у него был ужас, волосы встали дыбом, зубы стучали.
Он был похож на человека, у которого на глазах мертвец ожил и поднялся из гроба.
– Живой!.. – вырвалось у аббата.
– Разумеется, живой, – подтвердил г-н Жерар. – Господь сжалился над раскаявшимся грешником и послал ему молодого и хорошего врача.
– И он вас вылечил? – вскричал аббат, думая, что видит страшный сон.
– Ну да… Я понимаю: вы думали, что я умер… а я вот жив!
– Это вы дважды приходили сюда сегодня?
– И в третий раз пришел… Да я десять раз готов был прийти! Вы же понимаете, насколько для меня важно, чтобы вы перестали считать меня мертвым.
– Но почему именно сегодня?! – спросил аббат, растерянно глядя на убийцу.
– Вы что, газет не читаете? – удивился г-н Жерар.
– Почему же? Читал… – глухо промолвил монах, начиная понемногу осознавать, какая бездна разверзлась перед ним.
– А раз вы их читали, вы должны понимать, зачем я пришел.
Разумеется, Доминик все понимал: он стоял, обливаясь холодным потом.
– Пока я жив, – понизив голос, продолжал г-н Жерар, – моя исповедь ничего не значит.
– Ничего не значит?.. – непроизвольно переспросил монах.
– Да ведь священникам запрещено под страхом вечного проклятия нарушать тайну исповеди, не имея на то позволения кающегося, не так ли?
– Вы дали мне разрешение! – вскричал монах.
– Если бы я умер, разумеется, мое разрешение имело бы силу, но, раз я жив, беру свои слова назад.
– Негодяй! – вскрикнул монах. – А как же мой отец?!
– Пусть защищается, пусть обвиняет меня, пусть доказывает свою непричастность. Но вы, исповедник, обязаны молчать!
– Хорошо, – смирился Доминик, понимая, что бесполезно бороться с роком, представшим пред ним в виде одной из основополагающих догм Церкви. – Ладно, ничтожество, я буду молчать!
Он оттолкнул руку Жерара и двинулся в свою комнату.
Но Жерар вцепился в него снова.
– Что вам еще от меня угодно? – спросил монах.
– Что мне угодно? – повторил убийца. – Получить документ, который я дал вам, не помня себя.
Доминик прижал руки к груди.

– Бумага при вас, – догадался Жерар. – Она вон там… Верните мне ее.
Монах снова почувствовал, как его руку сдавил железный обруч – такова была хватка у Жерара, – а пальцем другой руки убийца почти касался свитка.
– Да, документ здесь, – подтвердил аббат Доминик, – но, слово священника, он останется там, где лежит.
– Вы, значит, собираетесь совершить клятвопреступление? Хотите нарушить тайну исповеди?
– Я уже сказал, что принимаю условия договора, и, пока вы живы, я не пророню ни слова.
– Зачем же вам эта бумага?
– Господь справедлив. Может быть, случайно или в результате Божьей кары вы умрете во время суда над моим отцом. Наконец, если моему отцу будет вынесен смертный приговор, я подниму этот документ и воззову к Господу: «Господь Всемогущий, ты велик и справедлив! Порази виновного и спаси невинного!» На это – слышите, негодяй! – я имею право как сын и как священник. И правом своим я воспользуюсь.
Он резко оттолкнул г-на Жерара, преграждавшего ему путь, и пошел наверх, властным жестом запретив убийце следовать за собой. Доминик вошел к себе, запер дверь и упал на колени перед распятием.
– Господи Боже мой! – взмолился он. – Ты все видишь, ты все слышишь, ты явился свидетелем того, что сейчас произошло. Господи Боже мой! Было бы с моей стороны святотатством обращаться к помощи людей… Взываю к твоей справедливости! – Потом он глухим голосом прибавил: – Но если ты откажешь мне в справедливости, я ступлю на путь отмщения!
XIIIВЕЧЕР В ОСОБНЯКЕ МАРАНДОВ
Спустя месяц после событий, описанных в предыдущих главах, в воскресенье 30 апреля, улица Лаффита – в те времена она называлась улицей Артуа – выглядела около одиннадцати часов вечера весьма необычно.
Представьте себе, что бульвары Итальянцев и Капуцинок вплоть до бульвара Мадлен, Монмартр – до бульвара Бон-Нувель, а с другой стороны, параллельно им, всю улицу Прованс и прилегающие к ней улицы запрудили экипажи с пылающими факелами. Вообразите улицу Артуа, освещенную лампионами на двух гигантских треугольных подставках по обе стороны от входа в роскошный особняк; двух верховых драгунов, охраняющих этот вход; двух других, стоящих на перекрестке с улицей Прованс, – и вы будете иметь представление о зрелище, открывающемся тем, кто находится неподалеку от особняка Марандов в час, когда его хозяйка дает «нескольким друзьям» один из тех вечеров, на которые жаждет попасть весь Париж.
Последуем за одним из экипажей, тянущихся сюда вереницей, и подойдем к парадному подъезду. Мы остановимся во дворе, ожидая знакомого, который бы нас представил, а пока изучим расположение этого богатого дома.
Особняк Марандов находился, как мы уже сказали, на улице Артуа между домом Черутти, имя которого с 1792 года носила улица, и зданием времен Империи.
Три корпуса особняка образовывали вместе с лицевой стеной огромный прямоугольник. Справа были расположены апартаменты банкира, в центре – гостиные политика, а слева – апартаменты очаровательной женщины, уже не раз представленной нашим читателям под именем Лидии де Маранд. Три корпуса соединялись между собой, так что хозяин мог присматривать за всем, что делается в доме, в любое время дня и ночи.
Гостиные занимали второй этаж и выходили окнами на парадный подъезд. В праздничные дни открывались все двери и гости могли без помех пройти в элегантные будуары жены и строгие покои мужа.
На первом этаже располагались: слева – кухня и службы, в центре – столовая и передняя, в правом крыле – контора и касса.
Давайте поднимемся по лестнице с мраморными перилами и ступенями, покрытыми огромным салландрузским ковром, и посмотрим, нет ли среди тех, кто толпился в передней, какого-нибудь знакомого, который представил бы нас прелестной хозяйке дома.
Мы знакомы с главными или, как принято говорить, почетными гостями, однако не настолько близко, чтобы попросить их о подобной услуге.
Слушайте! Вот их уже представляют.
Это Лафайет, Казимир Перье, Ройе-Коллар, Беранже, Пажоль, Кёклен – словом, все те, что занимают во Франции промежуточную позицию между аристократической монархией и республикой. Это те, кто, открыто разглагольствуя о Хартии, втайне подготовляют великие роды 1830 года, и если мы не слышим здесь имени г-на Лаффита, то потому, что он в Мезоне ухаживает (с присущей ему преданностью по отношению к друзьям) за больным Манюэлем, которому суждено скоро умереть.
Но вот и тот, кто нас представит; а уж как только переступим порог, мы пойдем куда пожелаем.
Мы имеем в виду молодого человека роста выше среднего, великолепного сложения. Он одет по моде тех лет и в то же время со вкусом, присущим только художникам. Судите сами: темно-зеленый фрак, украшенный ленточкой ордена Почетного легиона, которого он удостоен совсем недавно (благодаря чьему влиянию, он сам понятия не имеет: он об этом никого не просил, а его дядюшка, кстати сказать, сторонник оппозиции, слишком занят собой и не стал бы хлопотать за племянника); черный бархатный жилет, застегнутый на одну пуговицу сверху и на три – снизу, чтобы видно было жабо из английских кружев; облегающие панталоны, что подчеркивают великолепную стройность мускулистых ног; ажурные чулки черного шелка; на изящных, почти женских ступнях туфли с небольшими золотыми пряжками; а венец всему – голова двадцатишестилетнего Ван Дейка.
Вы, конечно, узнали Петруса. Он закончил недавно чудесный портрет хозяйки дома. Он не любит писать портреты, но его друг Жан Робер так уговаривал написать г-жу де Маранд, что молодой художник согласился. Правда, еще один прелестный ротик попросил его о том же однажды вечером, в то время как нежная ручка пожимала его руку; происходило это на балу у ее высочества герцогини Беррийской, куда Петрус был приглашен по неведомо чьей рекомендации. И этот прелестный ротик сказал ему с восхитительной улыбкой: «Напишите портрет Лидии, я так хочу!»
Художник ни в чем не мог отказать той, в которой читатель, несомненно, уже узнал Регину де Ламот-Удан, графиню Рапт. Петрус распахнул двери своей мастерской перед г-жой Лидией де Маранд. В первый раз она явилась с супругом, пожелавшим лично поблагодарить художника за любезность. Потом она приходила в сопровождении одного лакея.
Само собой разумеется, что за любезность художника такого ранга, как Петрус, равно как и дворянина с громким именем, барона де Куртене, не принято благодарить банковскими билетами: когда портрет был готов, г-жа де Маранд наклонилась к уху красавца-художника и сказала:
– Заходите ко мне, когда пожелаете. Только предупредите меня накануне записочкой, чтобы я успела пригласить Регину.
Петрус схватил руку г-жи де Маранд и припал к ней губами с такой горячностью, что обворожительная Лидия не удержалась и заметила:
– Ах, сударь! Как вы, должно быть, любите ее!
На следующий день Петрус получил через Регину простую и изящную булавку, стоившую едва ли не половину цены его картины; Петрус с его аристократизмом более, чем кто-либо другой, способен был оценить подобную деликатность.
Итак, последуем за Петрусом; как видите, он имеет полное право ввести нас в дом банкира на улице Артуа и помочь нам проникнуть в гостиные, куда до нас вошло столько знаменитостей.
Пойдемте прямо к хозяйке дома. Она вон там, справа, в своем будуаре.
Любой, кто впервые оказывается в этом будуаре, непременно удивится. А куда же подевались все те знаменитые люди, о которых докладывали при входе? Почему здесь, среди десяти или двенадцати дам находятся едва ли трое-четверо молодых людей? Дело в том, что политические знаменитости приходят ради встречи с г-ном де Марандом, а г-жа де Маранд ненавидит политику: она уверяет, что не придерживается никакого мнения и лишь находит, что ее высочество герцогиня Беррийская – очаровательная женщина, а король Карл X был, вероятно, когда-то галантным кавалером.
Однако если мужчины (будьте покойны, они скоро сюда придут!) пока в меньшинстве, какой ослепительный цветник представляют собой дамы!
Итак, займемся сначала будуаром.
Это премилый салон, выходящий с одной стороны в спальню, с другой – в оранжерею-галерею. Стены обтянуты небесно-голубым атласом с черным и розовым орнаментом. Блестящие глаза и роскошные бриллианты пленительных подруг г-жи де Маранд сияют на этом лазурном фоне, словно звезды на небосклоне.
Но первая из них, кто бросается в глаза, – та, о которой мы намерены рассказать особо, самая симпатичная, если не самая красивая, самая привлекательная, если не самая хорошенькая, – это, без сомнения, хозяйка дома – г-жа Лидия де Маранд.
Мы, насколько было возможно, уже описали трех ее подруг или, вернее, ее сестер по пансиону Сен-Дени. Попытаемся теперь набросать и ее портрет.
Госпожа де Маранд, казалось, едва достигла двадцатилетнего возраста. Любому, кто склонен ценить в женщине тело, а не только душу, она покажется прелестной.
У нее волосы восхитительного оттенка: она кажется белокурой, если волосы слегка завиты, и шатенкой, когда она их гладко зачесывает; они у нее неизменно блестящие и шелковистые.
У г-жи де Маранд красивое лицо, умный и гордый взгляд, белая и гладкая, словно мрамор, кожа.
Глаза ее, необычного цвета, в котором есть что-то от синего и черного, иногда приобретают опаловый оттенок, а порой кажутся темными, будто ляпис-лазурь, в зависимости от освещения или настроения.
Нос у г-жи де Маранд тонкий, чуть вздернутый; благодаря ему у нее насмешливый вид; чувственный и всегда готовый к улыбке рот цвета влажного коралла прекрасно очерчен, но несколько великоват.
Обыкновенно ее пухлые губки чуть приоткрыты, едва обнажая два ряда жемчужных зубов (простите мне это избитое выражение, но я не знаю другого, которое лучше передало бы мою мысль); если г-жа де Маранд поджимает губки, все ее личико приобретает снисходительно-презрительное выражение.
У нее очаровательный подбородок, маленький и розовый.
Но что делало ее лицо по-настоящему красивым, что составляло ее сущность, что сообщало ее характеру своеобразие и, мы бы даже сказали, неповторимость, так это трепетность, угадывавшаяся в каждой клеточке ее существа; ею объяснялись и свежий цвет лица, и необыкновенный, будто перламутровый оттенок щек, кокетливо подрумяненных, да так, что они казались как бы светящимися изнутри, как у южанок, и в то же время свежими, как у северянок.
Таким образом, если бы она стояла у цветущей яблони в прелестном костюме крестьянки из Ко, уроженка Нормандии признала бы в ней, несомненно, свою землячку. Зато если бы она лежала в гамаке в тени бананового дерева, то креолка из Гваделупы или Мартиники сочла бы ее своей сестрой.
Мы уже дали нашим читателям понять, что тело, поддерживающее эту очаровательную головку, было как налитое (при этом она была все же скорее альбановской, чем рубенсовской женщиной); все в ней было соблазнительно, более чем соблазнительно – сладострастно.
Высокая пышная грудь ее, казалось никогда не знавшая сагсеге dura[4]4
Строгая тюрьма (ит.).
[Закрыть] корсета, трепетала при каждом вздохе под прозрачными кружевами и наводила на мысль о прекрасных дочерях Спарты и Афин, что позировали для Венер и Геб Праксителя и Фидия.
И если эта яркая красота, которую мы попытались описать, имела своих поклонников, вы должны понимать, что были у нее и недруги, и хулители. Недругами были почти все женщины, а хулителями – те, что считали себя зваными, да не оказались избранными; в их число входили отвергнутые поклонники, пустоголовые красавцы-щёголи, которые не могли и вообразить, что женщина, наделенная подобными сокровищами, может на них скупиться.
Вот почему г-жа де Маранд не раз была оклеветана. Она по-прежнему сохраняла изысканную соблазнительность и была подвержена чисто женским слабостям; но трудно было найти женщину, в меньшей степени заслуживавшую клеветнических нападок.
Когда граф Эрбель, как истинный вольтерьянец, каковым он был, сказал своему племяннику: «Что такое госпожа де Маранд? Магдалина, имеющая мужа и не умеющая каяться!», – генерал, по нашему мнению, заблуждался. Ниже мы еще скажем, как ему следовало бы выразиться, если бы он хотел, чтобы его слова соответствовали действительности. Итак, читатели очень скоро убедятся в том, что г-жа Лидия де Маранд отнюдь не была Магдалиной.





