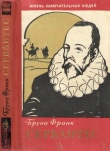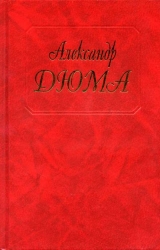
Текст книги "Паскуале Бруно"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
V
Не прошло и года после событий, описанных в предыдущей главе, как по всей Сицилии, от Мессины до Палермо, от Чефалу до мыса Пассеро, распространились слухи о подвигах разбойника Паскуале Бруно. В странах, подобных Испании и Италии, где плохо организованное общество не дает подняться тому, кто рожден внизу, где душе недостает крыльев, чтобы возвыситься, недюжинный ум оборачивается бедой для человека такого происхождения; человек этот то и дело пытается вырваться из общественных и моральных рамок, какими судьба ограничила его жизнь, неудержимо стремится к цели, преодолевая бесчисленные препятствия, постоянно видит источник света, которого ему не суждено достигнуть, и, начав свой путь с надеждой, кончает его с проклятием на устах. Он восстает против общества, так слепо разделенного Богом на две части – одну для счастья, другую для страдания; он возмущен несправедливостью Неба и сам возводит себя в ранг защитника слабых и врага сильных. Вот почему как испанский, так и итальянский бандит окружен ореолом поэзии и народной любовью, ибо почти всегда в основе того, что он сбился с пути, лежит какая-нибудь явная несправедливость, а своим кинжалом и карабином он старается восстановить божественное предопределение, нарушаемое человеческими законами.
Нет ничего удивительного в том, что Паскуале Бруно, с непростым прошлым его семьи за плечами, со свойственной ему склонностью к риску, с его редкостной силой и ловкостью, вскоре стал играть ту странную роль, что пришлась ему по душе, – роль вершителя правосудия, если можно так выразиться. На Сицилии, особенно в Баузо и его окрестностях, не совершалось ни одного беззакония, избежавшего его суда, а так как приговоры Паскуале почти всегда были направлены против людей богатых и сильных, все обездоленные горой стояли за него. Когда какой-нибудь синьор требовал непомерной аренды со своего бедняка-фермера, когда корыстолюбие родителей мешало браку двух влюбленных, когда несправедливый приговор угрожал невиновному, – Бруно, узнав об этом, брал карабин, отвязывал четырех корсиканских псов, своих единственных помощников, вскакивал на арабского скакуна из Валь ди Ното, родившегося, как и он, в горах, выезжал из небольшой крепости Кастельнуово, своего обычного обиталища, и представал перед синьором, строгим отцом или неправедным судьей; тут же арендная плата снижалась, влюбленные вступали в брак, арестованный получал свободу. Естественно, что люди, облагодетельствованные Паскуале Бруно, платили ему неограниченной преданностью, а все предпринятые против него меры ни к чему не приводили благодаря бдительности крестьян, незамедлительно предупреждавших его условными сигналами о грозящей опасности.
Вскоре из уст в уста стали передаваться диковинные рассказы, ведь чем примитивнее человек, тем больше верит он в чудеса. Говорили, будто в некую бурную ночь, когда весь остров содрогался от ударов грома, Паскуале Бруно заключил договор с ведьмой и в обмен за свою душу приобрел три сверхъестественных дара: становиться по желанию невидимым, мгновенно переноситься с одного края острова на другой и не страшиться ни пули, ни кинжала, ни огня. Как утверждала молва, этот договор был действителен на три года, ибо Паскуале Бруно подписал его лишь для того, чтобы завершить дело мести, для чего ему не требовалось больше времени, чем этот, казалось бы, недолгий срок. Паскуале не опровергал этих вымыслов, прекрасно понимая, что они ему выгодны, и даже всячески старался придать им видимость правдоподобия. Благодаря своим широким связям Паскуале нередко узнавал о людях такие подробности, каких, казалось, не должен был знать, – и это подтверждало слухи о том, что он превращается иной раз в невидимку. Благодаря резвости своего любимого коня он оказывался за одну ночь на огромном расстоянии от того места, где проезжал накануне, – и это убеждало людей в том, что расстояния для него не существует; наконец, некий случай – он не преминул им воспользоваться с редким искусством – не оставил никакого сомнения в его неуязвимости. Вот как было дело.
Убийство Гаэтано наделало много шуму, и князь Карини приказал командирам всех своих отрядов как можно скорее поймать преступника, тем более что тот своей безрассудной смелостью облегчал действия тех, кто за ним охотился. Командиры передали этот приказ соглядатаям, и однажды утром те предупредили судью в Спадафоре, что Паскуале Бруно проехал через его селение минувшей ночью по направлению к Дивьето. Судья велел солдатам ждать Паскуале у дороги две ночи подряд, полагая, что он вернется тем же путем и, по всей вероятности, под покровом темноты.
На третий день утром – это было воскресенье – солдаты, утомленные двумя бессонными ночами, собрались в кабачке, шагах в двадцати от дороги; они как раз подкреплялись там, когда им сообщили, что Паскуале Бруно преспокойно спускается по склону горы со стороны Дивьето. Времени устраивать засаду уже не было, и солдаты остались там, где они были; когда же Паскуале оказался шагах в пятидесяти от них, они вышли из кабачка и построились в боевом порядке перед дверью, всем своим видом, однако, показывая, что не обращают никакого внимания на приближающегося всадника. Бруно заметил эти приготовления, но они, видимо, нисколько не обеспокоили его, и, вместо того чтобы повернуть обратно – а сделать это было совсем легко, – галопом продолжал свой путь. Солдаты взяли ружья наизготовку и, когда он проезжал мимо, встретили его оглушительным залпом; но ни конь, ни всадник не пострадали: оба вышли целы и невредимы из облака дыма, на мгновение окутавшего их. Солдаты переглянулись, покачали головами и отправились к судье, чтобы рассказать ему о случившемся.
В тот же вечер слухи об этом событии достигли Баузо, и люди, наделенные пылким воображением, решили, что Паскуале Бруно заколдован и что свинец сплющивается, а сталь тупится, коснувшись его тела. На следующий же день эти слухи получили неопровержимое подтверждение: у двери судьи, вершившего правосудие в Баузо, была найдена куртка Паскуале Бруно с тринадцатью дырами от пуль; в ее карманах лежали тринадцать пуль, и все они были сплющены. Иные свободомыслящие люди, и среди них Чезаре Алетто, нотариус из Кальварузо (от него мы и узнали эти подробности), утверждали, однако, что бандит, чудом спасшийся от смерти, решил извлечь пользу из этого случая: он повесил свою куртку на дерево и сам всадил в нее все тринадцать пуль; но большинство продолжали верить, что дело тут не обошлось без колдовства, и страх, внушаемый Паскуале, еще усилился. Страх этот был велик, и Паскуале знал, что из низших слоев общества ужас переместился в высшие, поэтому за несколько месяцев до описанных нами событий он обратился к князю Бутера с просьбой дать ему взаймы двести золотых унций для одного из своих благотворительных дел (речь шла о том, чтобы отстроить сгоревший постоялый двор); деньги следовало отнести в определенное место в горах и спрятать там, чтобы в ночь, указанную князю, Паскуале мог лично взять их; в случае невыполнения этой просьбы, что вполне могла сойти за приказ, Бруно грозил открытой войной между ним, королем гор, и князем Бутера, властелином долины; если же, напротив, князь будет настолько любезен, что не откажет Паскуале в этом одолжении, двести золотых унций будут ему возвращены сполна, как только удастся изъять эту сумму из королевской казны.
Князь Бутера был одним из тех людей, каких более нет в современном обществе, последним представителем старого сицилийского дворянства, отважного и рыцарски благородного, как те норманны, что установили на Сицилии свои законы и провозгласили свои порядки. Его звали Эрколе, и, казалось, он был скроен по образцу своего античного покровителя. Он мог убить ударом кулака норовистую лошадь, сломать о собственное колено железный прут в полдюйма толщиной и согнуть серебряный пиастр. А после одного события, в котором князь Бутера проявил редкое хладнокровие, он стал кумиром населения Палермо.
В 1770 году в городе из-за нехватки хлеба вспыхнуло восстание; губернатор прибегнул к ultima ratio[5]5
Последний довод [королей] (лат.).
[Закрыть], поставив на улице Толедо пушку; народ двинулся против этой пушки, и артиллерист с фитилем в руке приготовился стрелять в людей, но тут князь Бутера уселся на ствол орудия, словно это было кресло, и произнес такую пламенную, такую убедительную речь, что люди тут же разошлись, а артиллерист, фитиль и пушка вернулись в арсенал, ничем себя не запятнав. Но своей популярностью князь был обязан не только этому случаю.
Каждое утро он прогуливался по эспланаде своего парка, господствовавшей над Морской площадью, и так как ворота его дворца открывались для всех желающих с восходом солнца, он неизменно встречал на своем пути множество бедняков; для этой прогулки князь надевал просторную замшевую куртку с огромными карманами; камердинер каждое утро набивал их карлино и полукарлино, а его господин тут же раздавал их без остатка, сопровождая свои благодеяния одному ему присущими словами и жестами; казалось, он готов был растерзать тех, кого собирался осчастливить.
– Ваше сиятельство, – говорила бедная женщина, окруженная многочисленными отпрысками, – сжальтесь над несчастной матерью, ведь у меня пятеро детей.
– Ну, и что ж из этого? – гневно восклицал князь. – Разве я тебе их сделал?
И, угрожающе подняв руку, он бросал в фартук просительницы пригоршню монет.
– Господин князь, – обращался к нему какой-нибудь горемыка, – я голоден.
– Болван! – кричал князь, опуская на него свой увесистый кулак. – Не я же пеку хлеб! Проваливай к булочнику!
Зато после этого удара бедняк бывал сыт целую неделю.[6]6
Тем, кто желает получить более пространные сведения о князе Бутера, память о котором я нашел столь живучей на Сицилии, словно он умер лишь накануне, следует обратиться к остроумным и забавным мемуарам Пальмиери де Миччике. (Примеч. автора.)
[Закрыть]
Недаром, когда князь проходил по улицам, все прохожие обнажали головы, как это случалось при появлении на парижском рынке г-на де Бофора; но, в отличие от французского фрондёра, князю стоило сказать одно слово, и он стал бы королем Сицилии; однако эта мысль даже не приходила ему в голову, и он оставался князем Бутера, что, право же, было не менее почетно.
Щедрость князя вызывала, однако, неодобрение в самом его дворце, и критиком оказался не кто иной, как его дворецкий. Легко понять, что человек, чей характер мы попытались здесь обрисовать, с особым размахом проявлял свою склонность к роскоши и великолепию своих знаменитых обедов: в самом деле, двери его дома бывали широко открыты, и каждый день за стол у него садилось не менее двадцати пяти – тридцати гостей, среди них семь-восемь совершенно ему незнакомых; другие же, напротив, являлись к обеду с исправностью завсегдатаев. В числе этих последних был и некий капитан Альтавилла, получивший свой чин за то, что сопровождал кардинала Руффо из Палермо в Неаполь, и вернувшийся из Неаполя в Палермо с пенсией в тысячу дукатов. К несчастью, капитан любил азартные игры, и из-за этого пристрастия пенсии не хватило бы ему на жизнь, если бы он не нашел два способа, при помощи которых получаемое им от казны раз в три месяца содержание стало наименее значительной частью его доходов. Первый способ, доступный всем и каждому, заключался в ежедневных обедах у князя, а второй – в том, что, вставая из-за стола, капитан неизменно опускал себе в карман поданный ему серебряный прибор. Некоторое время все шло гладко, и это ежедневное присвоение чужого добра никем не было замечено; но как бы ни был оснащен поставец князя, в нем все же стали ощущаться недостачи, и подозрения дворецкого тотчас же пали на санфедиста[7]7
Санфедистами называли тех, кто последовал за кардиналом Руффо, чтобы завоевать Неаполь. (Примеч. автора.)
[Закрыть]. Он стал следить за капитаном, и по прошествии двух-трех дней его подозрения превратились в уверенность. Он тотчас же предупредил князя, и тот, подумав немного, ответил, что, до тех пор пока капитан берет поставленный ему прибор, возражать против этого не приходится, но если он положит в карман приборы своих соседей, придется что-нибудь предпринять. Таким образом, капитан Альтавилла остался наиболее постоянным гостем его сиятельства князя Эрколе Бутера.
Князь находился в Кастро Джованни, на своей вилле, когда ему подали послание Бруно; пробежав его, он спросил, не ждет ли кто-нибудь ответа. Когда выяснилось, что человек этот ушел, он положил письмо в карман с таким хладнокровием, словно то была обыкновенная записка.
Настала ночь, назначенная в письме Бруно; указанное им место находилось на южном склоне Этны возле одного из тех многочисленных потухших вулканов, что обязаны своей однодневной вспышкой вечно горящему пламени, которое, вырвавшись из земных недр, уничтожало целые города. Вулкан именовался Монтебальдо (каждая из грозных вершин Этны получала особое название при своем возникновении из земли). В десяти минутах пути от подножия горы стояло огромное одинокое дерево, называвшееся Каштаном Ста Коней, так как возле его стволов, под сенью его листвы, имевшей в окружности сто семьдесят восемь футов и подобной целому лесу, могли найти приют сто всадников вместе с конями. У корней этого дерева Паскуале и велел спрятать затребованные им деньги. Он вышел часов в одиннадцать из Ченторби и около полуночи заметил при свете луны гигантское дерево и устроенный между его стволами сарайчик для хранения богатого урожая собираемых с него каштанов. Чем ближе подходил он, тем яснее рисовалась чья-то тень: казалось, какой-то человек стоит, прислонившись к одному из пяти стволов каштана. Вскоре эта тень приобрела более четкие очертания; бандит остановился и, заряжая карабин, крикнул:
– Кто здесь?
– Человек, черт возьми! – ответил чей-то громкий голос. – Неужели ты полагал, что деньги придут без посторонней помощи?
– Нет, конечно, – продолжал Бруно, – но я никогда бы не подумал, что посланец отважится подождать меня.
– Просто ты не знал князя Эрколе Бутера. Все дело в этом.
– Так это вы, монсиньор? – спросил Бруно, вскидывая карабин на плечо и со шляпой в руке подходя к князю.
– Я самый, бездельник! Я подумал, что бандит может нуждаться в деньгах, как все прочие смертные, и не пожелал отказать в помощи даже бандиту. Но мне взбрело в голову лично привезти ему деньги, чтобы он не подумал, будто я из страха оказываю ему эту услугу.
– Ваше сиятельство достойны своей громкой славы, – сказал Бруно.
– А ты своей славы достоин? – спросил князь.
– Все зависит от того, что вы слышали обо мне, монсиньор, ведь про меня говорят разное.
– Вижу, – продолжал князь, – что сообразительности и отваги тебе не занимать: люблю храбрецов, где бы они ни встречались. Послушай, хочешь сменить свой калабрийский костюм на мундир капитана и повоевать с французами? Обещаю набрать для тебя солдат в моих владениях и купить тебе офицерский чин.
– Спасибо, монсиньор, спасибо, такое предложение мог сделать только настоящий вельможа; но меня удерживает на Сицилии дело кровной мести. А там посмотрим.
– Хорошо, – сказал князь, – ты человек свободный. Но, поверь мне, тебе следовало бы согласиться.
– Не могу, ваше сиятельство.
– В таком случае вот кошелек, что ты у меня просил. Убирайся ко всем чертям вместе с ним и постарайся, чтобы тебя не повесили против двери моего дома.[8]8
В Палермо смертная казнь приводится в исполнение на Морской площади, против дворца князя Бутера. (Примеч. автора.)
[Закрыть]
Бруно взвесил на руке кошелек.
– Кошелек что-то очень тяжел, монсиньор.
– Конечно. Мне не хотелось, чтобы наглец вроде тебя похвалялся, будто он назначил предел щедротам князя Бутера, и вместо двухсот унций, о которых ты просил, я положил в него триста.
– Какую бы сумму вы ни соблаговолили принести, монсиньор, деньги будут вам возвращены сполна.
– Деньги я дарю, а не ссужаю, – возразил князь.
– А я беру их взаймы или краду, милостыни мне не надо, – ответил Бруно. – Возьмите обратно свой кошелек, монсиньор. Лучше я обращусь к князю Вентимилле или к князю Каттолика.
– Будь по-твоему, – сказал князь. – В жизни не видел более привередливого бандита. Бездельник вроде тебя может с ума меня свести, а посему я удаляюсь. Прощай!
– Прощайте, монсиньор, и да хранит вас святая Розалия!
Князь удалился, положив руки в карманы замшевой куртки и насвистывая свой любимый мотив. Бруно неподвижно смотрел ему вслед, и только когда князь скрылся из виду, он, в свою очередь, спустился с горы, тяжело вздохнув.
На следующий день хозяин сожженного постоялого двора получил из рук Али триста унций князя Бутера.
VI
Вскоре после этого Бруно узнал, что из Мессины в Палермо должен выехать фургон с деньгами под охраной четырех жандармов во главе с бригадиром. Это был выкуп за князя Монкада-Патерно, но благодаря хитрости, делавшей честь изобретательности Фердинанда IV, эти деньги должны были увеличить неаполитанский бюджет, а не обогатить казну Казбы. Вот, кстати, эта история в том виде, в каком я услышал ее на месте; поскольку она столь же занятна, сколь и достоверна, будет уместно рассказать ее читателям, к тому же она даст им представление о том, с каким простодушием взимаются подчас налоги на Сицилии.
Мы уже говорили в начале нашего повествования, что князь Монкада-Патерно был взят в плен берберийскими корсарами возле деревни Фугалло на обратном пути с Пантеллерии. Князя отвезли вместе со свитой в Алжир, где он согласился уплатить за себя самого и за своих людей пятьсот тысяч пиастров (2 500 000 французских франков); половина этого выкупа подлежала оплате до его отъезда, а половина после того, как он вернется на Сицилию.
Князь написал своему управляющему, уведомив его о случившемся и потребовав поскорее выслать двести пятьдесят тысяч пиастров – цену его свободы. Так как князь Монкада-Патерно был одним из богатейших вельмож Сицилии, нужные деньги были без труда найдены и срочно посланы в Африку; дей, как истый последователь Пророка, выполнил свое обещание и тут же отпустил князя в обмен на обещание выслать ему в течение года оставшиеся двести пятьдесят тысяч. Князь вернулся на Сицилию; он как раз собирал деньги для последнего взноса, когда в дело вмешался Фердинанд IV, не желавший, чтобы во время войны с Регентством его подданные обогащали врагов Сицилии, и приказал внести означенные двести пятьдесят тысяч пиастров в мессинскую казну. Князь Патерно был одновременно человеком чести и законопослушным подданным: он подчинился приказу своего короля и послушался голоса совести; таким образом, выкуп обошелся ему в семьсот пятьдесят тысяч пиастров, две трети которых были посланы корсару-мусульманину, а треть передана в Мессине в собственные руки князя Карини, доверенного лица корсара-христианина.
Эту сумму вице-король и решил послать в Палермо, резиденцию правительства, под охраной четырех жандармов и одного бригадира; последнему было поручено, кроме того, передать от князя письмо его возлюбленной Джемме с просьбой прибыть к нему в Мессину, поскольку его еще на несколько месяцев удерживали дела государственной важности.
Вечером того дня, когда повозка с ценным грузом должна была проехать неподалеку от Баузо, Бруно отвязал своих четырех корсиканских псов, вышел с ними из деревни, где он был признанным хозяином и повелителем, и засел у дороги между Дивьето и Спадафорой; он ждал там уже около часа, когда послышался стук колес и топот всадников. Он проверил, в порядке ли карабин, убедился, что стилет не застревает в ножнах, свистнул собак, которые тут же прибежали и легли у его ног, и встал посреди дороги. Через несколько минут из-за поворота выехала повозка под охраной жандармов; когда до человека, ожидавшего ее, оставалось шагов пятьдесят, жандармы заметили его и окликнули:
– Кто идет?
– Паскуале Бруно, – ответил бандит.
По особому свистку своего хозяина превосходно выдрессированные псы поняли, что от них требуется, и бросились навстречу маленькому отряду.
При имени Паскуале Бруно четыре жандарма обратились в бегство; собаки, естественно, погнались за ними. Бригадир, оставшись один, выхватил из ножен саблю и направил коня прямо на бандита.
Паскуале приложил карабин к плечу и стал целиться так медленно и хладнокровно, будто стрелял по мишени, ибо он решил выпустить свой заряд лишь тогда, когда всадник окажется от него шагах в десяти, но не успел он положить палец на курок, как лошадь с седоком рухнули на землю. Оказалось, что Али незаметно последовал за Бруно и, увидев, что бригадир собирается напасть на него, по-змеиному подполз к лошади врага и перерезал ей ятаганом коленные сухожилия; всадник, не успев опомниться – так быстро и неожиданно упал его конь, – ударился головой о землю и лишился чувств.
Убедившись, что опасность миновала, Паскуале подошел к бригадиру. Он перенес его с помощью Али в повозку, которую тот за минуту перед этим пытался защищать, и, передав вожжи юному арабу, велел доставить к нему в крепость бригадира и повозку. Сам же он направился к раненой лошади, отстегнул карабин, прикрепленный к седлу, вынул из седельных сумок свернутые трубочкой бумаги, свистнул собак, прибежавших с окровавленными мордами, и отправился вслед за своей богатой добычей.
Войдя во двор своей маленькой крепости, он запер за собой ворота, взвалил на плечи бесчувственное тело бригадира, внес его в комнату и положил на матрас, на котором любил отдыхать не раздеваясь; затем, то ли по рассеянности, то ли по неосторожности, поставил в угол карабин бригадира и вышел из комнаты.
Пять минут спустя бригадир очнулся, осмотрелся, увидел, что находится в совершенно незнакомом месте, и, думая, что это сон, ощупал себя. Тут он почувствовал боль в голове, поднес руку ко лбу и, заметив на ней кровь, понял, что ранен, а затем вспомнил, что был арестован одним-единственным человеком, подло брошен подчиненными и что в ту самую минуту, когда он хотел расправиться с разбойником, лошадь под ним упала как подкошенная. Что было после, он уже не помнил.
Бригадир был храбр; он почувствовал всю тяжесть лежащей на нем ответственности, и сердце его сжалось от стыда и гнева. Внимательно оглядев комнату, он попытался уяснить себе, где находится, но все окружающее было ему незнакомо. Он встал, подошел к окну и увидел, что оно выходит в поле. Тогда перед ним блеснул луч надежды: он решил вылезти из окна, сбегать за подмогой и расквитаться с бандитом. Он уже отворил окно, чтобы выполнить свое намерение, но, осмотрев в последний раз комнату, заметил свой карабин, стоявший неподалеку от изголовья покинутого им ложа; при виде оружия он почувствовал, как у него в груди бешено заколотилось сердце, ибо мысль о побеге сменилась другой властной мыслью. Он посмотрел, не подглядывает ли за ним кто-нибудь, и, убедившись, что никто его не видит и не может увидеть, поспешно схватил карабин, посчитав его средством спасения, правда рискованным, но позволяющим ему немедленно отомстить бандиту, затем поспешно взвел курок, убедился, что порох на полку насыпан, проверил шомполом, заряжен ли карабин, поставил его на прежнее место и снова лег, притворившись, будто еще не приходил в себя. Едва он проделал все это, как вернулся Бруно.
В руке он держал горящую еловую ветвь; бросив ее в очаг, где тут же запылали сложенные там дрова, он открыл стенной шкаф, достал две тарелки, два стакана, две фьяски вина и жареную баранью ножку, поставил все это на стол и, видимо, решил подождать, пока бригадир очнется, чтобы пригласить его на эту импровизированную трапезу.
Вот как выглядело помещение, где развернутся дальнейшие события: это была вытянутая комната, с окном в одном конце, с дверью в другом и камином между ними. Бригадир (он теперь служит жандармским капитаном в Мессине и передал нам все эти подробности) лежал неподалеку от окна; Бруно стоял перед камином, обратив невидящий взгляд на дверь, и, казалось, глубоко ушел в свои мысли.
Настала минута, которую ждал бригадир, решительная минута, когда предстояло все поставить на карту, рискнуть головой, жизнью. Бригадир приподнялся, оперся на левую руку и медленно протянул правую к карабину; не спуская глаз с Бруно, он взял оружие между спусковой скобой и прикладом, после чего застыл на мгновение, не решаясь пошевелиться, испуганный ударами собственного сердца, которые бандит вполне мог услышать, если бы он не витал в мыслях где-то очень далеко; наконец, сообразив, что он, можно сказать, сам готов себя выдать, бригадир постарался успокоиться, приподнялся, бросил последний взгляд на окно – единственный путь к отступлению, – приставил карабин к плечу, тщательно прицелился, сознавая, что жизнь его зависит от этого выстрела, и спустил курок.
Бруно спокойно нагнулся, поднял что-то у своих ног, разглядел этот предмет на свету и повернулся лицом к бригадиру, потерявшему дар речи от изумления.
– Приятель, – сказал он ему, – когда вы вздумаете стрелять в меня, берите серебряные пули. Видите ли, все другие непременно сплющатся, как сплющилась вот эта. Впрочем, я рад, что вы очнулись. Я проголодался, и сейчас мы с вами поужинаем.
Бригадир застыл на месте, волосы стояли у него дыбом, лоб был в поту. В ту же минуту дверь открылась и Али с ятаганом в руке ворвался в комнату.
– Все в порядке, мальчик, все в порядке, – сказал ему Бруно по-франкски, – бригадир разрядил свой карабин, только и всего. Ступай спать и не тревожься за меня.
Али вышел, нечего не ответив, и растянулся перед входной дверью на служившей ему постелью шкуре леопарда.
– Ну, а вы? Не слышали, что я вам сказал? – продолжал Бруно, обращаясь к бригадиру и наливая вино в оба стакана.
– Разумеется, слышал, – проговорил бригадир, вставая, – и, раз я не сумел вас убить, я выпью с вами, будь вы самим чертом.
С этими словами он решительно подошел к столу, взял стакан, чокнулся с Бруно и залпом выпил вино.
– Как вас зовут? – спросил Бруно.
– Паоло Томмази, жандармский бригадир, к вашим услугам.
– Так вот что, Паоло Томмази, – продолжал Паскуале, кладя руку ему на плечо, – вы храбрый малый, и я хочу кое-что пообещать вам.
– Что именно?
– Дать заработать вам одному три тысячи дукатов, обещанных за мою голову.
– Недурная мысль, – отозвался бригадир.
– Да, но надо ее зрело обдумать, – ответил Бруно. – А пока что – ведь жить мне еще не надоело – давайте-ка сядем к столу и поужинаем. О серьезных делах поговорим после.
– Можно мне перекреститься перед ужином? – спросил Томмази.
– Разумеется, – ответил Бруно.
– Дело в том… я боюсь, как бы крестное знамение вас не обеспокоило. Всякое бывает.
– Что вы? Нисколько.
Бригадир перекрестился, сел за стол и взялся за баранью ножку с аппетитом человека, чья совесть вполне чиста, ибо, несмотря на сложную обстановку, он сделал все, что может сделать честный солдат. Бруно не отставал от него, и, право, глядя, как эти два человека едят за одним столом, пьют из одной бутылки, тянутся рукой к одному и тому же блюду, никто не поверил бы, что на протяжении какого-нибудь часа они сделали все возможное, чтобы убить один другого.
Наступило недолгое молчание, вызванное отчасти важным занятием, которому предавались сотрапезники, отчасти мыслями, не дававшими им покоя. Паоло Томмази первый нарушил его, чтобы выразить мучивший его вопрос.
– Приятель, – сказал он, – кормите вы на славу, что правда, то правда; вино у вас отменное, с этим нельзя не согласиться; угощаете вы как хлебосольный хозяин, все это так. Но, признаться, я нашел бы угощение куда лучше, если бы знал, когда выберусь отсюда.
– Думается мне, что завтра утром.
– Разве я не ваш пленник?
– Пленник? За каким дьяволом вы мне нужны?
– Гм… – пробормотал бригадир, – видно, дела мои не так уж плохи. Но, – продолжал он с явным замешательством, – это еще не все.
– Вас еще что-нибудь тревожит?
– Видите ли… – сказал бригадир, разглядывая лампу сквозь стекло своего стакана, – видите ли… это довольно щекотливый вопрос.
– Говорите, я слушаю.
– Вы не рассердитесь?
– Мне кажется, вы имели возможность узнать мой характер.
– Правда, вы не обидчивы, я в этом убедился. Итак, я хочу сказать, что на дороге есть, вернее был… что я не один был на дороге…
– Конечно, с вами были четверо жандармов.
– Да не о них толк. Я говорю о… некоем фургоне. Вот в чем загвоздка.
– Он во дворе, – ответил Бруно, в свою очередь разглядывая лампу сквозь стекло стакана.
– Догадываюсь, что он именно там, – сказал бригадир, – но, видите ли, я не могу покинуть вас один, без этого фургона.
– А посему вы уедете вместе с ним.
– И он окажется в целости и сохранности?
– Как вам сказать? – проговорил Бруно. – Недостача будет невелика по сравнению с общей суммой. Я возьму лишь то, что мне крайне необходимо.
– Вы очень стеснены в деньгах?
– Мне нужны три тысячи унций.
– Что же, это разумно, – сказал бригадир, – и очень многие были бы менее щепетильны, чем вы.
– И можете не сомневаться, я дам вам расписку.
– Да, по поводу расписки! – воскликнул бригадир, вставая. – У меня в седельных сумках были бумаги.
– Не беспокойтесь, – заметил Бруно, – вот они.
– О, спасибо, вы оказали мне огромную услугу.
– Да, понимаю, – промолвил Бруно, – я успел убедиться в их важности. Первая бумага – ваш диплом бригадира; я засвидетельствовал на нем, что вы доблестно вели себя и вас следовало бы произвести в вахмистры. Вторая бумага содержит описание моей особы; я позволил себе внести туда кое-какие исправления, так, например, в разделе особых примет прибавил слово incantato[9]9
Заговорен (ит.).
[Закрыть]. Наконец, третья бумага – письмо его сиятельства вице-короля к графине Джемме Кастельнуово; я так признателен этой даме, отдавшей в мое распоряжение свой замок, что не хочу мешать любовной переписке. Итак, вот ваши бумаги, любезный. Выпьем последний глоток за ваше здоровье и пожелаем друг другу спокойной ночи. Завтра, в пять утра, вы отправитесь в дорогу. Поверьте мне, путешествовать днем безопаснее, чем ночью. Со мной вам посчастливилось, но вы можете попасть и в другие руки.
– Пожалуй, вы правы, – сказал Томмази, пряча бумаги. – И сдается мне, что вы гораздо честнее многих честных людей из моих знакомых.
– Очень рад, что у вас составилось столь лестное мнение обо мне, – это поможет вам спокойно уснуть. Кстати, хочу вас предупредить: не спускайтесь во двор, иначе мои псы растерзают вас.
– Благодарю за совет, – ответил бригадир.
– Спокойной ночи, – сказал Бруно.
Он вышел из комнаты, предоставив бригадиру либо продолжить трапезу, либо лечь спать.
Ровно в пять часов утра, как и было условлено, Бруно вошел в комнату своего гостя; тот уже встал и был готов к отъезду; хозяин спустился вместе с ним по лестнице и проводил его до ворот. Бригадир увидел там запряженную повозку и превосходную верховую лошадь в сбруе, что была перенесена с коня, искалеченного ятаганом Али. Бруно попросил своего друга Томмази принять от него на память этот подарок. Бригадир не заставил себя просить; он вскочил на коня, стегнул лошадей, впряженных в повозку, и уехал, явно восхищенный своим новым знакомым.
Бруно смотрел ему вслед; когда бригадир отъехал шагов на двадцать, он крикнул ему вдогонку: