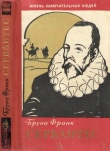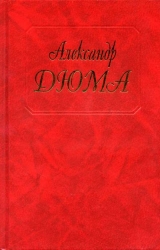
Текст книги "Паскуале Бруно"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Александр Дюма
ПАСКУАЛЕ БРУНО
Поскольку я рассчитывал через несколько месяцев отправиться в Италию и самому побывать в тех местах, где происходили главные из событий, о которых я намеревался рассказать, то для меня были чрезвычайно важны всякого рода подробности. Вот почему, обращаясь к рукописи генерала Т., я так широко пользовался полученным от него разрешением пускать в дело его воспоминания о тех местах, что он посетил. Итак, в моих путевых записках об Италии читатель найдет множество подробностей, собранных мною благодаря его точным указаниям. Однако мой добросовестный чичероне покинул меня на южной оконечности Калабрии, так и не пожелав пересечь пролив. Хотя генерал и провел два года в ссылке на острове Липари, вблизи сицилийских берегов, он ни разу не побывал на самой Сицилии и отказался даже говорить со мной об этой стране, опасаясь, что он, неаполитанец, не сумеет избежать предвзятости, вызываемой взаимной неприязнью двух народов.
Тогда я решил разыскать сицилийского изгнанника по имени Пальмиери, автора двух превосходных томов воспоминаний (мы когда-то встречались, но, к сожалению, я потерял его из вида), чтобы узнать об его острове, столь поэтичном и загадочном, те общие сведения и характерные мелочи, что помогают заранее наметить вехи любого путешествия; однако как-то вечером к нам на улицу Предместья Монмартра, № 4, пришел генерал Т. с Беллини (о нем я почему-то не подумал), которого он привез с собой, чтобы разработать маршрут моей предполагаемой поездки. Можно себе представить, как горячо был принят автор «Сомнамбулы» и «Нормы» в нашем сугубо артистическом обществе, где фехтование служило подчас лишь предлогом для работы пером или кистью. Беллини родился в Катании, и первое, что увидели его младенческие глаза, было море, волны которого, омыв стены Афин, с мелодичным шумом умирают у берегов Сицилии, этой второй Греции, и легендарная древняя Этна, на склонах которой еще живы по прошествии восемнадцати веков мифы Овидия и сказания Вергилия. Недаром Беллини был наиболее поэтическая натура, какую только можно себе представить; самый его талант (его следует поверять чувством, а не судить о нем с ученым видом) есть лишь извечная песня, нежная и грустная, как воспоминание, лишь эхо, подобное тому, что дремлет в горах и лесах и шепчет еле слышно, пока его не разбудит крик страсти или боли. Итак, Беллини был как раз тот человек, в котором я нуждался. Он уехал с Сицилии еще в молодости, и у него осталась о родном острове та неугасимая память, которую он свято хранит вдали от мест, где протекало его детство, – поэтическое впечатление ребенка. Сиракузы, Джирдженти, Палермо прошли таким образом перед моим мысленным взором наподобие еще неведомой мне, но великолепной панорамы, озаренной блеском его воображения; наконец, перейдя от географических описаний к нравам Сицилии, – я без устали расспрашивал его о них, – Беллини сказал мне:
– Вот что, когда вы отправитесь, будь то морем или сушей, из Палермо в Мессину, задержитесь в деревушке Баузо, на оконечности мыса Бланко. Вы увидите против постоялого двора улицу; она идет вверх по склону холма и упирается по правую сторону в небольшой замок, напоминающий крепость. К стене этого замка приделаны две клетки: одна из них пуста, в другой лет двадцать уже лежит побелевший от времени череп. Спросите у первого встречного историю того человека, кому принадлежала эта голова, и вы услышите один из тех рассказов, в котором отображен целый народ – от обитателя горной деревушки до жителя крупного города, от крестьянина до вельможи.
– А не могли бы вы сами рассказать нам эту историю? – спросил я Беллини. – Чувствуется по вашим словам, что она произвела на вас глубокое впечатление.
– Охотно, – ответил он, – ибо Паскуале Бруно, ее герой, умер в год моего рождения и я был вскормлен этим народным преданием. Уверен, что оно все еще живо на Сицилии. Но я плохо говорю по-французски и, пожалуй, не справлюсь с подобной задачей.
– Пусть это не смущает вас, – возразил я, – мы все понимаем по-итальянски. Говорите на языке Данте: он стоит всякого другого.
– Пусть будет по-вашему, – согласился Беллини, пожимая мне руку, – но с одним условием.
– С каким?
– Обещайте, что после вашего возвращения, когда вы познакомитесь с деревнями и городами Сицилии, когда приобщитесь к ее дикому народу, к ее живописной природе, вы напишете либретто для моей будущей оперы «Паскуале Бруно».
– С радостью! Договорились! – воскликнул я, в свою очередь пожимая ему руку.
И Беллини рассказал нам историю, которую прочтет ниже читатель.
Полгода спустя я уехал в Италию, побывал в Калабрии, на Сицилии, но больше всех героических воспоминаний привлекало меня народное предание, услышанное от музыканта-поэта; чтобы лучше познакомиться с этим преданием, я проделал путь в восемьсот льё, так как считал это целью своего путешествия. Наконец я прибыл в Баузо, нашел постоялый двор, поднялся по улице, увидел две клетки – одна из них была пуста…
Через год я вернулся в Париж; вспомнив о своем обещании и о взятом на себя обязательстве, я тут же решил разыскать Беллини.
Но нашел лишь его могилу.
I
Судьба городов сходна с судьбой людей: случай определяет появление на свет и тех и других, а место, где возникают одни, и среда, где рождаются другие, оказывают влияние – хорошее или дурное – на всю их последующую жизнь; я видел знаменитые города, в своей гордыне пожелавшие господствовать над окружающим миром, недаром лишь несколько домов посмели обосноваться на вершине облюбованной ими горы; эти города так и остались высокомерными и нищими, пряча в облаках свои зубчатые фасады и беспрестанно подвергаясь натиску стихий – грозы летом и вьюги зимой. Их можно принять за королей в изгнании, окруженных немногими придворными, что сохранили им верность в злосчастии, королей, слишком надменных, чтобы, спустившись в долину, обрести там страну и народ.
Я видел городишки, такие непритязательные, что они спрятались в глубине долины, выстроили на берегу ручья фермы, мельницы, лачуги и, укрывшись от холода и зноя за грядою холмов, вели безвестную, спокойную жизнь, похожую на жизнь людей, лишенных страстей и честолюбия; их пугает всякий шум, слепит всякий свет, и для них счастье возможно лишь в тени и безмолвии.
Встречаются и другие города, некогда жалкие деревушки на берегу моря; мало-помалу, по мере того как на смену лодкам пришли корабли, а на смену кораблям – морские суда, они сменили свои хижины на дома и дома на дворцы. И теперь золото Потоси и алмазы Индии стекаются в их порты; они швыряют дукатами и выставляют напоказ свои драгоценности, как те выскочки, что обдают нас грязью из-под колес своих экипажей и натравливают на нас своих лакеев.
Наконец, встречаются такие города, что возвысились среди ласковой природы, шествовали по лугам, усыпанным цветами и испещренным извилистыми живописными тропинками; все предрекало этим городам долгие годы благоденствия, но неожиданно жизнь их оказывается под угрозой города-соперника, возникшего у проезжей дороги; он-то и привлекает к себе торговцев и путешественников, предоставив своему несчастному собрату медленно угасать в одиночестве, подобно юноше, чьи жизненные силы навеки подорвала неразделенная любовь.
Вот почему к тому или иному городу испытываешь приязнь или отвращение, любовь или ненависть, словно имеешь дело с человеком; вот почему о нагромождении холодных, бездушных камней говорят как о живом существе и называют Мессину благородной, Сиракузы верными, Джирдженти великолепным, Трапани непобедимым, Палермо счастливым.
В самом деле, если есть на свете столица, которой была уготована счастливая доля, то это Палермо. Раскинувшись под безоблачным небом, на плодородной почве, среди живописной природы, владея портом на море с его катящимися лазурными волнами, защищенная с севера горой Санта Розалия, а с востока мысом Дзафферано, окруженная со всех сторон холмами, что опоясывают ее обширную долину, древняя дщерь Халдеи, Палермо, обернувшись лицом к своей матери, смотрится в тирренские воды более лениво, томно и сладострастно, чем смотрелись некогда в волны Босфора или Киренаики византийские одалиски или египетские султанши. Напрасно сменяли друг друга ее завоеватели: они сгинули, а она осталась, и от всех властелинов, плененных ее нежностью и красотой, у королевы-рабыни сохранились не цепи, а ожерелья. К тому же природа и люди объединились, чтобы сделать ее прекраснейшей из прекрасных. Греки оставили ей храмы, римляне – акведуки, сарацины – замки, норманны – базилики, испанцы – церкви. И так как под этими широтами цветет любой цветок, растет любое дерево, она собрала в своих великолепных садах лаконийские олеандры, египетские пальмы, индийские смоковницы, африканские алоэ, итальянские сосны, шотландские кипарисы и французские дубы.
Вот почему нет ничего великолепнее дней Палермо, если не считать ночей Палермо, ночей восточных, ночей прозрачных и благоуханных, когда шепот моря, шелест ветра и гул городских улиц кажутся всеобщей песней страсти, когда все сущее, от волны до растения, от растения до человека, испускает затаенный вздох.
Поднимитесь на эспланаду Циза или на террасу Палаццо Реале, когда Палермо спит, и вам покажется, что вы находитесь у изголовья юной девы, грезящей о любви.
В этот час алжирские пираты и тунисские корсары вылезают из своих логовищ, поднимают треугольные паруса на своих берберийских фелуках и рыщут возле острова, словно сахарские гиены и атласские львы – возле овчарни. Горе беспечным городам, засыпающим без сигнальных огней и без береговой охраны: их жители пробуждаются при свете пожаров, от криков своих жен и дочерей; однако, еще до того как подоспеет помощь, африканские стервятники успевают скрыться со своей добычей, а на рассвете можно различить вдали лишь белые паруса их кораблей, но вскоре и они исчезают за островами Порри, Фавиньяна или Лампедуза.
Иной раз море внезапно принимает свинцовый оттенок, ветер падает, и жизнь в Палермо замирает: дело в том, что с юга на север пронеслись кроваво-красные облака, предвещающие сирокко, иначе говоря хамсин, – этот бич арабов; его горячее дыхание, зародившись в ливийских песках, обрушивается на Европу под напором юго-восточных ветров, и тотчас же все пригибается к земле, вся природа трепещет, сетует, весь остров стонет, словно перед извержением Этны; люди и животные беспокойно ищут убежища и, найдя его, ложатся, с трудом переводя дух, ибо сирокко побеждает всякое мужество, подавляет всякую силу, парализует всякую деятельность. Палермо хрипит как в агонии, и это длится до тех пор, пока чистый ветер, прилетевший из Калабрии, не вернет силы гибнущему городу, и, воспрянув под этим животворным дуновением, он облегченно вздыхает, как человек, очнувшийся после обморока, и беспечно возвращается к своей праздничной и радостной жизни.
Так было и сентябрьским вечером 1803 года; сирокко дул весь день, но на закате небо прояснилось, море снова поголубело, и со стороны Липарских островов повеяло прохладой. Как мы уже говорили, такая перемена погоды оказывает благоприятное воздействие на все живые существа: они понемногу выходят из оцепенения и можно подумать, будто присутствуешь при новом сотворении мира, тем более что Палермо, как мы уже говорили, – подлинный эдем.
Среди тех дочерей Евы, что, обитая в этом раю, превращают любовь в главное занятие своей жизни, была некая молодая женщина, играющая столь важную роль в нашей истории, что мы должны обратить внимание читателей на нее и на дом, где она живет. Давайте выйдем с нами из Палермо через ворота Сан Джорджо, оставим справа от себя Кастелло-а-маре и дойдем, никуда не сворачивая, до мола; затем проследуем по берегу моря и остановимся у восхитительной виллы, что возвышается среди волшебных садов, доходящих до подножия горы Пеллегрино; эта вилла принадлежит князю Карини, вице-королю Сицилии, который правит островом от имени Фердинанда IV, вернувшегося в Италию, чтобы вступить во владение своим прекрасным городом Неаполем.
На втором этаже этой изящной виллы, в обитой небесно-голубым атласом спальне, где занавески подхвачены шнурами, усыпанными жемчугом, а потолок расписан фресками, покоится на софе молодая женщина в домашнем пеньюаре, руки ее бессильно свесились, голова запрокинута, волосы растрепались; она лежит неподвижно, как мраморная статуя; но вдруг легкая дрожь пробегает по ее телу, щеки розовеют, глаза открываются; чудесная статуя оживает, дышит, протягивает руку к столику из селинунтского мрамора, на котором стоит серебряный колокольчик, лениво звонит и, как будто утомившись от этого движения, снова откидывается на софу. Однако серебристый звук колокольчика услышан, дверь отворяется, и на пороге появляется молоденькая и хорошенькая камеристка; небрежность в ее туалете говорит о том, что и она испытала на себе действие африканского ветра.
– Это ты, Тереза? – томно спрашивает ее хозяйка, поворачивая голову в сторону двери. – Боже мой, как тяжко, неужели сирокко никогда не кончится?
– Что вы, синьора, ветер совсем стих, теперь уже можно дышать.
– Принеси мне фруктов, мороженого и отвори окно.
Тереза выполнила оба распоряжения с той расторопностью, на какую была способна, ибо сама еще чувствовала некоторую вялость и недомогание. Она поставила лакомства на стол и отворила окно, выходившее в сторону моря.
– Вот увидите, госпожа графиня, – промолвила она, – завтра будет чудесный день. Воздух так прозрачен, что ясно виден остров Аликуди, хотя уже начинает смеркаться.
– Да, да, от свежего воздуха мне стало лучше. Дай мне руку, Тереза, я попробую добраться до окна.
Тереза подошла к графине; та поставила на стол почти нетронутое фруктовое мороженое, оперлась на плечо камеристки и томно приблизилась к окну.
– Как хорошо! – сказала она, вдыхая вечерний воздух. – Этот мягкий ветерок возвращает меня к жизни! Пододвинь мне кресло и отвори то окно, что выходит в сад. Благодарю! Скажи, князь вернулся из Монреале?
– Нет еще.
– Тем лучше: я не хочу, чтобы он видел меня такой бледной, осунувшейся. У меня, должно быть, отвратительный вид.
– Госпожа графиня еще никогда не была так красива… Уверена, во всем этом городе нет ни одной женщины, которая не завидовала бы вам, синьора.
– Даже маркиза Рудини и княгиня Бутера?
– Решительно все, синьора.
– Князь, верно, платит тебе, чтобы ты мне льстила, Тереза.
– Клянусь, госпожа графиня, я говорю то, что думаю.
– О, как приятно жить в Палермо! – сказала графиня, дыша полной грудью.
– В особенности если вам двадцать два года, если вы богаты и красивы, – заметила с улыбкой Тереза.
– Ты высказала мою мысль. Вот почему я хочу, чтобы все вокруг меня были счастливы. Скажи, когда твоя свадьба?
Тереза ничего не ответила.
– Разве не в будущее воскресенье? – спросила графиня.
– Да, синьора, – ответила камеристка, вздыхая.
– Что такое? Уж не хочешь ли ты отказать жениху?
– Нет, что вы, все уже слажено.
– Тебе не нравится Гаэтано?
– Нет, почему же? Он честный человек, и я буду с ним счастлива. Да и, выйдя за него, я навсегда останусь у госпожи графини, а ничего лучшего мне не надо.
– Тогда почему ты вздыхаешь?
– Простите меня, синьора. Подумала о родных местах.
– О нашей родине?
– Да. Когда госпожа графиня вспомнила в Палермо обо мне, своей молочной сестре, оставшейся в деревне во владениях вашего отца, я как раз собиралась выйти замуж за одного парня из Баузо.
– Почему же ты ничего не сказала мне о нем? По моей просьбе князь взял бы его к себе в услужение.
– О, он не согласился бы стать слугой. Он слишком горд для этого.
– Правда?
– Да. Он уже отказался однажды поступить в число кампиери князя Гото.
– Так, стало быть, этот молодой человек дворянин?
– Нет, госпожа графиня, он простой горец.
– Как его зовут?
– О, я не думаю, чтобы госпожа графиня знала его, – поспешно заметила Тереза.
– И ты жалеешь о нем?
– Как вам сказать? Знаю только, что, если бы я стала его женой, а не женой Гаэтано, мне пришлось бы много работать, а это тяжело, особенно после службы у госпожи графини, где мне так легко и приятно живется.
– Однако меня обвиняют в том, что я резка, надменна. Это правда, Тереза?
– Госпожа графиня прекрасно относится ко мне; вот все, что я могу сказать.
– Все дело в палермском дворянстве, это оно клевещет на меня, потому что графы Кастельнуово были возведены в дворянское достоинство Карлом Пятым, тогда как Вентимилле и Партанна происходят, по их словам, от Танкреда и Рожера. Но женщины злятся на меня по другой причине: они прячут свои чувства под маской презрения, а сами ненавидят меня за любовь Родольфо ко мне, завидуют, что меня любит сам вице-король. Они изо всех сил стараются отбить его у меня, но это им не удается: я красивее их. Карини постоянно твердит мне об этом, да и ты тоже, обманщица.
– Не только его сиятельство и я говорим приятное госпоже графине, кое-кто льстит ей еще больше.
– Кто же это?
– Зеркало, госпожа графиня.
– Сумасбродка! Зажги же свечи у псише.
Камеристка повиновалась.
– А теперь затвори это окно и оставь меня одну. Достаточно окна, выходящего в сад.
Тереза выполнила приказ и вышла из комнаты; едва за ней закрылась дверь, как графиня села у зеркала, взглянула на себя и улыбнулась.

Поистине, она была прелестна, графиня Эмма, или, точнее, Джемма, так как родители изменили начало имени, данного ей при крещении, и с самого детства звали ее Джеммой – иначе говоря, «Жемчужиной». И конечно же, графиня была не права, когда в доказательство древности своего рода ссылалась лишь на подпись Карла V, ибо тонкий, гибкий стан изобличал в ней ионянку, черные, бархатистые глаза – дочь арабов, а бело-розовый цвет лица – уроженку Галлии. Она могла считать с одинаковым правом, что происходит от афинского архонта, от сарацинского эмира и норманнского капитана; такие красавицы встречаются прежде всего на Сицилии, а затем – в единственном городе на свете, в Арле, где то же смешение крови, то же скрещение рас объединяет порой в одной женщине эти три столь различные типы. Вместо того чтобы прибегнуть к ухищрениям кокетства, как она сначала собиралась это сделать, Джемма застыла у зеркала в порыве наивного восхищения, до того понравилась она себе в этом домашнем убранстве: так, вероятно, смотрит на себя цветок, склонившийся над поверхностью ручья; однако в этом чувстве не было гордыни, она как бы возносила хвалу Господу, в чьей воле и власти создавать такую красоту. Словом, она ничего не изменила в своей внешности. Да и какая прическа лучше выявила бы прелесть ее волос, чем тот великолепный беспорядок, с каким они свободно рассыпались по плечам? Какая кисть могла бы прибавить что-либо к безукоризненному рисунку ее бархатных бровей? Какая помада посмела бы соперничать с цветом ее коралловых губ, сочных, словно плод граната? И, как мы уже говорили, она вглядывалась в зеркало с единственным желанием полюбоваться собой, но мало-помалу погрузилась в упоительные, восторженные мечты, ибо одновременно с ее лицом зеркало, стоявшее у раскрытого окна, отражало небо, служившее как бы фоном для ее ангельской головки; и, наслаждаясь неясным и безграничным чувством счастья, Джемма без повода, без цели считала в зеркале звезды, что зажигались одна за другой, и вспоминала их названия по мере того, как они появлялись в эфире. Вдруг ей показалось, что какая-то тень загородила звезды и позади нее возникло чье-то лицо; она поспешно обернулась: в окне стоял незнакомый мужчина. Джемма вскочила на ноги и открыла рот, чтобы закричать, но неизвестный спрыгнул на пол и, сложив с мольбой руки, проговорил:
– Во имя Неба, никого не зовите, сударыня. Клянусь честью, вам нечего опасаться: я не желаю вам зла!..
II
Джемма упала в кресло, и вслед за появлением незнакомца и его словами наступило молчание, во время которого она успела бросить быстрый боязливый взгляд на незваного гостя, проникшего в ее спальню столь странным, непозволительным способом.
Это был молодой человек лет двадцати пяти-двадцати шести, по-видимому простолюдин; на нем была калабрийская шляпа с широкой лентой, спускавшейся на плечо, бархатная куртка с серебряными пуговицами и такие же штаны; его стан стягивал красный шелковый пояс с вышивкой и зеленой бахромой – такие пояса изготавливают в Мессине, а та позаимствовала их у стран Леванта. Кожаные ботинки и гетры дополняли этот наряд жителя гор, наряд, не лишенный изящества и словно созданный, чтобы подчеркнуть стройность того, кто его носил. Лицо незнакомца поражало суровой красотой: резкие черты южанина, смелый, гордый взгляд, черные волосы и черная борода, орлиный нос, а зубы, как у шакала.
Очевидно, Джемму не слишком успокоил вид молодого человека, ибо она протянула руку к столу в поисках стоявшего там серебряного колокольчика.
– Вы разве не поняли меня, сударыня? – спросил он, стараясь придать своему голосу ту чарующую мягкость, которую так хорошо передает сицилийский диалект. – Я не желаю вам зла, напротив, если вы уважите мою просьбу, я буду боготворить вас, как Мадонну. Вы прекрасны, как Божья Матерь, будьте же милосердны, как она.
– Что же вам от меня надобно? – спросила Джемма дрожащим голосом. – И как вы посмели явиться ко мне в такой час, да еще таким путем?
– Скажите, сударыня: если б я попросил вас о встрече, неужели вы, знатная, богатая, любимая человеком высокого звания, почти королем, согласились бы принять такого безвестного бедняка, как я? Да если б вы и оказали мне такую милость, она могла бы запоздать, а у меня времени нет!
– Но что я могу сделать для вас? – спросила Джемма, постепенно успокаиваясь.
– Все в ваших руках, сударыня, мое несчастье и мое блаженство, моя смерть и моя жизнь.
– Ничего не понимаю! Объясните, в чем дело?
– У вас служит девушка из Баузо.
– Тереза?
– Да, Тереза, – сказал молодой человек, и голос его дрогнул. – Она собирается обвенчаться с камердинером князя Карини, а ведь девушка эта – моя невеста.
– Ах, так это вы?..
– Да, мы собирались пожениться с Терезой, когда вы письмом вызвали ее к себе. Она обещала хранить мне верность, замолвить перед вами словечко за меня, а если вы откажете в ее просьбе, вернуться домой. Итак, я ждал ее. Прошло три года, ее все не было. Поскольку она не возвращалась, я отправился к ней сам и, приехав, все узнал. Тогда я надумал броситься к вашим ногам и вымолить у вас разрешение на брак с Терезой.
– Я люблю Терезу и не желаю разлучаться с ней. Гаэтано – камердинер князя. Если он женится на ней, Тереза останется у меня.
– Если таковы ваши условия, я поступлю в услужение к князю, – проговорил молодой человек, сделав явное усилие над собой.
– Тереза говорила, что вы не хотите быть слугой.
– Да, правда, но я принесу эту жертву ради нее, раз уж иначе нельзя. Только, если возможно, я поступил бы в число кампиери князя: это все же лучше, чем быть слугой.
– Хорошо, я поговорю с князем, и если он согласится…
– Князь согласится на все, чего бы вы ни пожелали, сударыня. Я знаю, вы не просите, вы приказываете.
– Но кто мне поручится за вас?
– Порукой будет моя вечная признательность, сударыня.
– Кроме того, я должна знать, кто вы.
– Я человек, чья судьба зависит от вас. Вот и все.
– Князь спросит, как вас зовут.
– Какое дело князю до моего имени? Разве он когда-нибудь слышал его? И что значит для князя Карини имя простого крестьянина из Баузо?
– Но я-то родилась в том же краю, что и вы. Мой отец граф Кастельнуово жил в небольшом замке неподалеку от деревни.
– Мне это известно, сударыня, – глухо произнес молодой человек.
– Так вот, я должна знать, кто вы. Скажите, как вас зовут, и я решу, что мне надлежит делать.
– Поверьте, госпожа графиня, вам лучше не знать моего имени. Не все ли равно, как меня зовут? Я честный человек, Тереза будет счастлива со мной, и, если понадобится, я отдам жизнь за князя и за вас.
– Не понимаю вашего упорства. Я хочу знать ваше имя, тем более что Тереза тоже отказалась сказать, как вас зовут, когда я спросила ее об этом. Предупреждаю: я ничего не сделаю для вас, если вы не назовете себя.
– Так вы этого желаете, сударыня?
– Не желаю, а требую.
– Умоляю вас в последний раз…
– Скажите, кто вы, или уходите, – приказала Джемма, повелительно подняв руку.
– Меня зовут Паскуале Бруно, – ответил молодой человек ровным, тихим голосом; могло показаться, что он совершенно спокоен, если бы внезапная бледность не выдавала его душевной муки.
– Паскуале Бруно! – воскликнула Джемма, отодвигая от него свое кресло. – Паскуале Бруно! Уж не сын ли вы Антонио Бруно, чья голова находится в замке Баузо, в железной клетке?
– Да, я его сын.
– И вам известно, почему голова вашего отца находится там? Отвечайте!
Паскуале молчал.
– А потому, – продолжала Джемма, – что ваш отец покушался на жизнь графа, моего отца.
– Знаю, сударыня. Знаю также и другое: когда ребенком вас выводили гулять, ваши горничные и лакеи показывали вам эту клетку и говорили, что в ней голова преступника, собиравшегося убить вашего отца. Одного только вам не рассказали, сударыня: ваш отец обесчестил моего отца.
– Вы лжете!
– Да покарает меня Господь Бог, если я солгал, сударыня. Моя мать была красива и добродетельна; граф полюбил ее. Она устояла перед его обещаниями, домогательствами, не испугалась даже угроз. И вот однажды, когда мой отец уехал в Таормину, граф приказал четырем верным людям похитить ее и отвезти в принадлежавший ему небольшой дом между Лимеро и Фурнари – в нем теперь постоялый двор… И там… там, сударыня, он надругался над нею!
– Граф был властелином Баузо, крестьяне принадлежали ему душой и телом. Он оказал большую честь вашей матери, обратив внимание на нее.
– Мой отец принял это иначе, – сказал Паскуале, нахмурившись, – быть может, потому, что родился в Стрилле, на земле князя Монкада-Патерно: он ударил кинжалом графа. Рана не была смертельна, и слава Богу, хотя я долгое время жалел об этом. Но сегодня, к моему стыду, это меня радует.
– Если память мне не изменяет, не только ваш отец был казнен как убийца, но и все ваши дяди отбывают наказание на каторге?
– Да, они спрятали виновного и встали на его защиту, когда за ним явилась полиция. Их посчитали сообщниками отца и отправили на каторгу. Дядя Плачидо попал на остров Фавиньяна, дядя Пьетро – на Липари, а дядя Пепе – на Вулькано. Я был тогда ребенком, но и меня арестовали вместе с ними, однако потом вернули матери.
– А что стало с нею?
– Она умерла.
– Где же?
– В горах между Пиццо ди Гото и Низи.
– Почему она уехала из Баузо?
– Почему? Чтоб ей не видеть каждый раз, когда мы шли мимо замка, головы своего мужа, а мне – головы моего отца. Да, она умерла без врача, без священника. Я похоронил ее на неосвященной земле и был ее единственным могильщиком… Надеюсь, вы простите меня, сударыня, но на свежей могиле матери я дал обет отомстить за гибель всей моей семьи – уцелел я один: ибо дядей моих я не числю уже в живых, – да, отомстить вам, последней из семьи графа. Но что поделаешь? Я влюбился в Терезу, спустился с гор, чтобы не видеть могилы матери, так как чувствовал, что готов нарушить свою клятву, и поселился в долине, неподалеку от Баузо. Более того, когда я узнал, что Тереза надумала уехать из деревни и поступить к вам в услужение, мне пришла в голову мысль наняться к князю. Долгое время эта мысль страшила меня, потом я с ней свыкся. Я решил повидать вас, и вот я пришел, пришел безоружный, чтобы умолять вас о милости, вас, сударыня, перед кем собирался предстать только как враг.
– Вы понимаете, конечно, – ответила Джемма, – что князь не может взять к себе человека, чей отец был повешен, а родственники осуждены на каторжные работы.
– Но почему же, сударыня, если этот человек готов забыть, что приговоры были вынесены несправедливо?
– Вы с ума сошли!
– Вы знаете, госпожа графиня, что значит клятва для горца? Так вот, я обещаю нарушить свою клятву. Вы знаете, что значит месть для сицилийца? Так вот, я обещаю отказаться от мести… Я готов все предать забвению, не заставляйте же меня вспоминать…
– А в противном случае?
– Не хочу думать об этом.
– Хорошо, мы примем надлежащие меры.
– Смилуйтесь, госпожа графиня, умоляю! Видите, я делаю все, что в моих силах, и хочу остаться честным. Ручаюсь, я стану другим человеком, как только поступлю к князю и женюсь на Терезе… К тому же я никогда не вернусь в Баузо.
– Я ничего не могу сделать для вас!
– Госпожа графиня, ведь вы любили!
Джемма презрительно улыбнулась.
– Вы должны знать, что такое ревность. Вы должны знать, какая это мука, как начинает казаться, что сходишь с ума. Я люблю Терезу, я ревную ее, чувствую, что не совладаю с собой, если она выйдет замуж за другого, и тогда…
– Что тогда?
– Тогда берегитесь, как бы я не вспомнил о клетке с головой отца, о каторге, куда были сосланы мои дяди, и о могиле, в которой покоится моя мать.
В эту минуту странный крик, похожий на сигнал, раздался под окном спальни, и почти тотчас же прозвенел звонок.
– Князь! – воскликнула Джемма.
– Да, да, знаю! – глухо пробормотал Паскуале. – Но пока он не вошел в эту дверь, у вас еще есть время сказать мне «да». Умоляю, сударыня, снизойдите к моей просьбе: разрешите мне жениться на Терезе, попросите князя взять меня в услужение…
– Пропустите меня! – повелительно сказала Джемма, направляясь к выходу.
Но, вместо того чтобы повиноваться, Бруно подбежал к двери и запер ее.
– И вы посмели задержать меня? – вскричала Джемма, хватая шнурок звонка. – Ко мне, на помощь! На помощь!
– Не зовите, сударыня, – упрашивал ее Бруно, все еще владея собой. – Ведь я сказал, что не причиню вам зла.
Под окном вторично раздался тот же странный крик.
– Молодец, Али, ты на посту, мой мальчик! – крикнул Бруно. – Понимаю, пришел князь, слышу его шаги в коридоре. Сударыня, сударыня, еще есть несколько минут, несколько секунд, еще можно избежать многих несчастий…
– На помощь, Родольфо, на помощь! – крикнула Джемма.
– Значит, у вас нет сердца, нет души, нет жалости ни к себе, ни к другим! – воскликнул Бруно, схватившись за голову и повернувшись к двери, которую сотрясала чья-то сильная рука.
– Меня заперли, – продолжала графиня, ободренная подоспевшей помощью, – я здесь с каким-то человеком, он угрожает мне. На помощь, Родольфо, ко мне!..
– Я не угрожаю, я молю… я все еще молю… но раз вы сами этого пожелали!..
Бруно испустил крик, подобный реву тигра, и бросился к Джемме, видимо, чтобы задушить ее, ведь он и в самом деле был безоружен. В ту же минуту дверь, скрытая в глубине алькова, отворилась, раздался выстрел, спальня наполнилась дымом, и Джемма потеряла сознание. Она очнулась в объятиях любовника, с ужасом оглядела комнату и, как только смогла говорить, спросила: