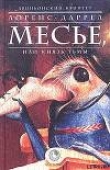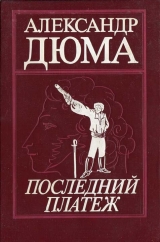
Текст книги "Последний платеж"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
– Да, конечно… – смущенно подтвердил Жюль. – Конечно, помню, увы…
– Так можешь утешиться, дружище! Сейчас здесь был человек, которому предназначалась та страшная пощечина!
– Как! Этот? Этот… – У Карпантье перехватило дыхание. – И ты сообщаешь мне об этом только сейчас? Да я бы его сокрушил, как попрыгунчика! О, я догоню его, я разыщу его! – и он было бросился к двери.
Эдмон остановил его за рукав:
– Не надо! Не трудись, мой Жюль! Этот человек уже крепко наказан, и кара, назначенная ему, еще продолжается…
– Но ты еще совал ему денег, Эдмон? – пробормотал ошеломленный Карпантье. – И кажется, изрядно! И ты называешь это карой? Очень странно, дружище!
– Эти деньги для него были бы подобны адским раскаленным угольям! – сурово усмехнулся Эдмон. – Они прожгли бы ему его братоубийственные, окровавленные наемнические руки…
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава I
ПОД ГРОХОТ ПУШЕК
Над Парижем опять грохотали пушки, уже не в первый раз после осады и взятия народом Бастилии с 1789 года.
Но пожалуй, впервые с таким ожесточением, с такой яростью, с таким обилием жертв.
Один за другим погибали командовавшие правительственными войсками генералы. Был убит, пытавшийся вмешаться увещеванием и крестом архиепископ Парижа, монсиньор Арф. Был убит главнокомандующий Национальной гвардией Бреа. Было убито за три дня вообще около десяти тысяч человек в этом ожесточенном сражении, в том числе и пять генералов. Больше, чем при Аустерлице!
Около шестисот баррикад у наивных, но не легких для одоления крепостей: из столов, стульев, шкафов, тачек, телег, кроватей, бочек, ящиков, сундуков, дверей, сорванных с петель в домовых подъездах; мешков, набитых булыжниками и песком выросло на нелегких для боя, главным образом, кривых и узких улицах… И на более широких магистралях делались попытки возведения баррикад, но там их было гораздо труднее отстаивать против правительственных войск.
Какую цель имели баррикады, эти эфемерные крепости?
Каждому было ясно, что достаточно несколько выстрелов пушки, чтобы это несложное сооружение либо развалилось на мелкие куски, либо сгорело. Да и защитникам этих полудетских крепостей не очень легко было укрываться во всей этой дырявой решетчатой неустойчивости… И все же укрывались и боролись.
Войска Второй республики под командованием генерала Кавеньяка вели пушечный обстрел баррикад, а защитники баррикад отвечали на огонь пушек стрельбой из старых мушкетов, охотничьих ружей, заряженных крупной дробью, как на волков, заржавленных, реквизированных в дворянских домах дуэльных пистолетов… Возможно, возникала даже мысль прибегнуть к помощи луков и стрел.
Вот потому-то гибли и генералы, пытавшиеся подавить восстание, и архиепископы, пробовавшие примирить обе стороны, и исконное пушечное мясо – солдаты, и восставшие пролетарии Парижа.
Да, шел отчаянный бой между Республикой и теми, кто устанавливал эту самую республику! Между теми, кто встал у власти, и между теми, кто их поставил у власти… И какой бой! Горели не только баррикады, пылали целые улицы. Дымом было окутано девять десятых Парижа – от Сент-Антуана до Сен-Жермена, от плас Этуаль до плас Бастилль, от гар дю Нор до гар дю Лион!
Грохот пушек не смолкал ни на минуту… Если затихала пушка, громившая баррикаду на улице Божирар, тотчас взамен ей ревела пушка на Рю Монпарнас…
В феврале 1848 года король Луи-Филипп Орлеанский бросив престол, покинул Париж. Никто не попросил его остаться, даже те хорошо обеспеченные парижане, которым какой-то остроумец приклеил лаконичный ярлык «рантье-рентист» и, которые почти восемнадцать лет поддерживали «короля с зонтиком» – как другие, не меньше остряки прозвали Луи-Филиппа.
Зонтики нужны тому, кто мало пользуется каретой и даже извощичьим фиакром, тому, кто много ходит пешком и подвергается опасности ливня… Луи-Филипп прославился своей любовью к пешим прогулкам по Парижу с зонтиком под мышкой, с широкополым по моде того времени цилиндром на голове и даже нередко в галошах, еще только начинавших входить в обиход. Это была внешность, весьма отличавшая его от Гарун-аль-Рашида, знаменитого галифа, каждую ночь бродившего по Багдаду и выведывающего, любит ли его народ. Луи-Филипп был не особенно разговорчив, в разведывательные беседы не вступал, но чутко прислушивался к народной молве, с каким прилагательным употребляется его имя?
Он все чаще стал замечать, что народ Парижа прилагает к его имени непочтительные прилагательные:
– Бездарный Луи!
– Безмозглый Луи!
– Бесполезный Луи!
Естественно, он сократил свое циркулирование по столичным кварталам, но тогда возникли другие эпитеты:
– Луи-шлафрок…
– Луи-канареечник…
– Луи-трусишка…
На его счет записывалось все: и домашние, внутренние незадачи, и внешние зарубежные провалы… Австрия, Пруссия, Россия, не говоря уже об Англии, сокрушившей Францию Наполеона, – все эти государства просто третировали Францию Луи-Филиппа, как замаскированную королевским титулом буржуазную «лавочку». Колониальный дележ обходился без Франции. Левант (Ближний Восток) становился все более английским рынком. Кипр и Мальта – две сверхмогучие базы британского флота, как бы отсекали исконно милые французам порты – Смирну, Алепо, Яффу…
Февральский «выпуск пара» из бурлящего, клокочущего котла Франции выбросил Луи-Филиппа за пределы Парижа и страны. Его место во главе власти занял генерал Кавеньяк, смутно мечтавший о вакансии Наполеона, однако, «не тянувший» по всем признакам на эту должность.
Прошло меньше четырех месяцев и народ Франции снова взбунтовался – теперь уже против правительства Кавеньяка. Теперь было решено клапан не открывать – Кавеньяк провозгласил:
– Мятеж народа против республики – незаконен!
Царило нечто невообразимое, когда снова приехавшие в Париж Эдмон и Гайде поместились в гостинице на улице Монтабор, в наиболее тихом и безопасном, казалось бы, месте Парижа, в самом его центре, близ Лувра и французского Национального театра, Тюильри и Пале-Руайяль.
Чуть подальше расположенная Вандомская площадь уже полыхала пожарами и пальбой, но гостям удалось без повреждений добраться до знакомого и любимого пункта – кафе «Режанс», до которого было рукой подать от их гостиницы «Континент».
Уже у самого входа в «Режанс» их вдруг окликнул смутно знакомый молодой голос:
– Граф! Мадам Гайде! Какая приятная и удивительная встреча!
Оклик этот принадлежал больше семи лет им не встречавшемуся, немало изменившемуся, возмужавшему и словно еще более выросшему, дважды знакомому им месье Жану-Ивану! Они могли бы и не узнать его теперь, но он узнал их издали и сразу поспешил к ним с протянутыми руками по русской манере.
– Какая изумительно приятная встреча! – продолжал повторять он, тиская руку Эдмона, чмокая руки Гайде и сверкая отличными охотничьими зубами. – И тем более в такой необычной обстановке!
– А я уже почти парижанин, – продолжал он, – с Берлином распростился давно и навсегда. Сыт Берлином и тамошней чопорной публикой!
Встрече обрадовались. Даже обнялись, как настоящие старые друзья, и тотчас засыпали друг друга вопросами.
– Наша встреча произошла на сей раз уже в совершенно необыкновенной обстановке, – сказал месье Жан, ведя своих давних знакомцев внутрь кафе. – Я по убеждениям моим республиканец. И должен был бы лично драться на стороне трехцветного, красно-бело-синего флага республики… Но не говоря уже о том, что нам, иностранцам, вообще рекомендуется не ввязываться в чисто французские дела, сейчас я в полном недоумении, даже в растерянности… Ряд моих парижских друзей находятся по ту сторону баррикад: одни под черным знаменем анархизма, как мой не только друг, но и земляк Мишель Барунин, другие – под чисто красным, без всяких добавок – знаменем пролетариата… Это потомки санкюлотов, и их девиз – «республика без буржуа!» Но легко ли этим самым буржуа примириться с подобным лозунгом? Вот в моей растерянности я и решил заглянуть сюда, в очень любимый мною «Режанс»! Здесь тоже идет борьба, но бескровная и тем пока что для меня более приемлемая… Я ведь большой любитель шахмат! – признался он.
На удивление и Эдмону, и Гайде, и даже месье Жану за целым рядом столиков в кафе «Режанс» с олимпийским спокойствием, как бы не придавая никакого значения происходящим событиям, – вели свои шахматные партии парижские мастера этой величественной игры… Они были так поглощены своими досками и фигурами, что почти не поднимали голов и глаз, и месье Жан мог не тревожить своих знакомых какими-то обязательными обращениями.
Он вполголоса продолжал:
– Париж – это душа и мозг Франции. И вот вам ошеломляющая картина. За стенами, за окнами этого здания бушует очередная социальная буря, в сущности уже, кажется, седьмая или даже больше после 1789 года буря, правда, особенной, еще невиданной силы! А здесь, внутри этих уютных спокойных стен, отборные философы как бы намеренно игнорируют налетевший на их Париж ураган! Они как бы молчаливо декларируют этим: «То, что творится там, за стенами, касается прежде всего участников… Республика подразумевает полную независимость воззрений и позиций ее граждан… Если дерутся два класса, две партии, состоящие из инакомыслящих, не обязательно всем другим гражданам тотчас же ввязываться в драку»…
Эдмон покачал головой и возразил:
– Но если такая драка угрожает уже самой республике, ее благополучию и даже существованию? Тоже необходимо блюсти нейтралитет?
Гайде со своей стороны добавила:
– В том, что вы только что сказали нам, месье Жан, мне послышались нотки не свойственного вам цинизма… Я ошибаюсь, быть может?
Месье Жан, храня любезность, поспешил с ответом:
– Спектакль, которому мы невольно оказались зрителями, может подтолкнуть даже и к цинизму… Мне невольно вспоминаются сцены, которые случалось мне наблюдать в родной, все еще погрязшей в рабстве России… Там есть обычай неизвестной давности и неизвестного происхождения, возможно, с времен еще доисторических: по праздникам жители двух концов городка или поселка сходятся на серединной площади или на разделяющей их речке и устраивают жесточайшее, беспощадное побоище… Во имя чего, спросите вы. Да так просто, в силу и во имя традиции, векового обычая… Странный обычай, бесспорно! Может быть, он постепенно складывается и во Франции?
Эдмон и Гайде невольно вспомнили, каким угощением приветствовал их когда-то в России молодой месье Жан, совсем еще молодой тогда, хотя обстановка и мало способствовала улыбкам.
Но месье Жан сам поспешил добавить:
– Применение кулаков, однако, все же было бы значительно гуманнее, нежели Кавеньяковская стрельба из пушек… Не мешало бы рекомендовать именно кулачные сражения для разрешения классовых разногласий… Увы, чем больше совершенствуется оружие – от стрел к мушкетам и штуцерам, от пращей – к пистолетам, тем ожесточеннее становятся классовые распри.
Немного помолчав, он продолжал:
– Из всех благ, о которых должно мечтать человечество, главнейшим, по-моему, с моей, быть может, несколько идеалистической точки зрения, является мир, мирная жизнь! Все силы, все помыслы человечества должны быть направлены на искоренение войны по каким бы то ни было мотивам.
Он нервно, возбужденно жестикулировал.
– Хотя я и страстный ружейный охотник и перебил немало пернатой дичи и зайцев, но я готов все свои силы отдать на благородную службу охраны мира между людьми. Как раз поэтому я с особой враждебностью отношусь к движению бонапартизма, которое сейчас поднимает голову во Франции. Восстановление империи – это возрождение войн, конец миру, едва успевшему водвориться в Европе.
В главные двери зала вошел человек с забинтованной головой. Сквозь бинт проступали пятна остановленной запекшейся крови. Человек внимательно вгляделся в сидящих и направился к месье Жану.
Приблизившись на расстояние шепота, он начал взволнованно и торопливо что-то говорить. Лишь отдельные клочки его сообщения улавливал слух Эдмона и Гайде.
– Клиши… Сен-Жермен… Артиллерия усиливает огонь по площадям… «Гертиус гауденс» делает попытку вмешаться.
Лицо месье Жана делалось все озабоченней. Он вдруг поднялся решительно и извинился перед компаньонами по столу.
– Прошу великодушно простить меня, но я должен вас покинуть… Возможно, вы уже догадались, что «Тертиус гауденс» – это силы, которые заинтересованы в развале республики, в том, чтобы ее красно-белый-синий флаг распался на части… В первую очередь в этом заинтересованы бонапартисты… Их провал под Ватерлоо позабыт, их соперники-легимисты и филлипары, безнадежно скомпрометированы, теперь их очередь «попытать счастья». Но их попытки вмешаться в ход событий должны быть решительно пресечены… И как, возможно, в неизвестных нам сферах действуют и темные, и светлые силы, помогающие соответственно, тьме и свету на земле в их взаимной борьбе, так и мы, скромные друзья Франции, должны осуществлять примерно то же.
Он поцеловал руку Гайде, обнял Эдмона и быстрыми шагами пошел к выходу из кафе.
Кто-то из безмятежно игравших шахматистов узнал его и окликнул:
– Месье Жан Гуренин, бонжур, присядьте на минутку…
– Рад бы присесть, месье Дювенк, но меня призывают более неотложные дела.
– Какие дела могут быть сегодня в Париже!? – бросил, не поднимая головы, партнер месье Дювенк, видного шахматиста кафе «Режанс».
– Как раз сегодня, – находчиво ответил месье Жан, – там на улицах и площадях Парижа разыгрывается весьма серьезная шахматная партия.
– Мы предпочитаем, да и вам советуем, месье Гуренин, нашу безвредную для кого бы то ни было деревянную и пальмовую кавалерию, пушки и пехоту… Поберегитесь, нам будет очень огорчительно лишиться такого замечательного собрата по искусству, такого выдающегося шахматного игрока, – напутствовал месье Дювенк русского коллегу.
– Не накликайте и в самом деле на меня беду! – шутливо откликнулся месье Жан.
Дружественный, но не шумный смех проводил месье Жана к выходу.
Эдмон и Гайде переглянулись.
– Он пошел, чтобы попробовать сложить голову свою за установление мира на земле, – с горьковатой иронией уронила Гайде.
Громыхание пушечных и ружейных выстрелов, все более явственное и близкое, мешало, однако, Гайде и Эдмону сосредоточиться на ходе начатой ими партии.
То и дело казалось, что бомба ударилась где-то совсем близко от «Режанса» и Театральной площади с главным театром Парижа – «Комеди Франсэз».
Месье Жан не случайно сравнивал происходящее с неким далеко не комедийным спектаклем.
Но вот опять он появился между шахматными столиками, теперь уже и сам с забинтованной рукой. Той рукой, сила которой была хорошо известна Эдмону, поддерживая того самого своего знакомца или товарища, который приходил за ним час назад… Видимо, рана, полученная этим человеком в голову, давала себя знать все сильнее, и он уже нуждался в серьезной помощи. А в «Режанс» русский великан был своим авторитетным человеком, и вокруг него тотчас закрутились и гарсоны, и официантки, и даже хозяин, берясь вызвать медика.
Месье Жан своей увесистой медвежьей походкой опять подошел к чете Монте-Кристо. Мельком взглянув на положение фигур, он добродушно уронил:
– Не играется? Вполне понятно… Сообщение насчет «третьего радующегося» подтвердилось. Мы, я и группа моих друзей-студентов, обнаружили на одном из чердаков кучку явных бонапартистов… Кое-кто из них даже не счел нужным с себя снять цилиндры. А стреляли они из офицерских пистолетов. И представьте себе, дорогой граф, один из них, тот, которому удалось задеть меня пулей в руку, оказался удивительно похожим на вас! Я был прямо поражен сходством, но он поспешил обратиться в бегство, и мне не удалось удостовериться, не было ли это ошибкой зрения? Впрочем, зрение у меня охотничье, многократно испытанное и вряд ли я мог так сильно ошибиться… Но это спасло шельмеца – это сходство остановило мой палец… Выстрела не последовало и он успел улизнуть. Да, я бы, признаться и не выстрелил бы в него, все равно я был просто скован ощущением его сходства с вами, граф! Я совершил когда-то ошибку тяжелейшую, которую до сих пор не прощаю себе: она была вызвана сходством по журнальным эстампам. Сейчас – было сходство в натуре. Только увидев вас рядом друг с другом и твердо зная «кто есть кто» – решился бы и теперь на какое-то действие…
– Кто же, по вашему, мог быть этот человек? – спросил Эдмон.
Месье Жан помолчал и как бы с усилием ответил:
– Об этом можно только догадываться.
Глава II
ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЙДЕН!
Кое-как, под продолжающийся свист бомб и пуль добравшись до своего отеля, Эдмон и Гайде почти одновременно вспомнили о настораживающем сообщении месье Жана.
– А что, если это и в самом деле наш злополучный Жорж-Шарль? – задумчиво, как бы самого себя спросил Эдмон.
Чуткая, быстро угадывающая мысли мужа, Гайде не очень хотела, чтобы оказалось так, не хотела бы вообще, чтобы Эдмон задумался над этим, но данный месье Жаном намек и толчок было нелегко обойти молчанием.
За семь лет жизни вдали от Парижа, то на Суэцком «истмусе», то на их средиземноморском островке, Эдмон и Гайде почти никогда не вспоминали о Жорже-Шарле, подобно тому, как во многих семьях избегают произносить имя кого-то из этой семьи, угодившего на виселицу или на каторгу…
Не один раз в своих мыслях Эдмон не без чувства удовольствия представлял себе те кошмарные муки, какими он так коварно и хитроумно, в самом деле почти с дьявольской изобретательностью, наполнил жизнь своего дальнего родственника, многообразно и многократно запятнавшего общее имя.
И вот, если только верно сообщение месье Жана, этот человек как ни в чем ни бывало опять возникает на общественном горизонте, опять бросается в пучину политических битв и интриг с неумирающими, неукротимыми надеждами на подлинное жизненное возвышение.
И можно ли удивляться, если он, в самом деле, сумел перенести те мучения неутоленной алчности, терзания самоупреков и сожалений, какие налагал на него гений мести графа Монте-Кристо. Если он дожил, не застрелившись, не повесившись до новой встречи со своим мстителем, который, впрочем, мог стать и его спасителем в свое время.
– Милая Гайде, – со вздохом, значение которого было хорошо понятно его подруге, произнес он наконец, – вполне возможно, что ты права, а я по-ребячески ошибся, когда торжествовал, что отравил жизнь этому недостойному носителю имени Дантесов… Когда мы уезжали на наш остров, я был совершенно спокоен, я был уверен, что он не вынесет тех адских страданий, какими я наградил его, что он либо повесится, как Иуда, либо разобьет себе голову о скалы, когда эти страдания сделаются для него совершенно невыносимыми, либо даже вырвет собственный язык, которым он отказался от моих великодушных предложений.
– Великодушных? – с недовольной иронией молвила Гайде.
– Да, в первую очередь они были великодушны! – горячо вскинулся Эдмон. – Я открыл перед ним возможность стать ни от кого и ни от чего независимым человеком…
– Зависимым от тебя, Эдмон! – с ласково-иронической усмешкой возразила Гайде, – и как!
– Он мог рассматривать меня, как своего старшего брата! – протянул, разведя руками, Эдмон. – И такая зависимость не постыдна!
– И все-таки, такая зависимость считается более предосудительной и зазорной, нежели любая другая, – возразила Гайде. – Придворный, раболепствующий перед своим королем, перед любимцами короля и перед его лакеями, ни капельки не стесняется этого, напротив, даже гордится возможностью пониже согнуть свою спину… А подчиниться отцу или брату стыдится!
Эдмон не придал особенного значения этому мимолетному замечанию Гайде, хотя, как всегда, не лишенному наблюдательности. Но смысл этих слов стал ему ясен и близок, когда в очередную встречу с месье Жаном зашел разговор о претендентах на власть.
Месье Жан, рука которого уже зажила, был как всегда хорошо осведомлен, а кроме того, уверенно и умело разбирался в ситуации. Восстание было подавлено, шел подсчет жертв. Подытоживалось также и то, кто же остался в выигрыше?
– Бескровный переворот в феврале при Луи-Филиппе как бы уравновесился наизнанку огромными гекатомбами сейчас в июне! – задумчиво и вместе с тем веско, с рельефностью смысла заговорил месье Жан. – Луи-Филипп исчез, как исчезает в феврале снег зимы, без всякого сопротивления, перед лицом дружного, единодушного требования всех слоев и классов: «Уйди добром!» Сейчас после четырех месяцев существования французской республики номер два (первая существовала до воцарения Наполеона) понадобилось страшнейшее кровопролитие, чтобы спасти ее! От кого же так яростно оборонял республику бравый генерал Кавеньяк!? От рабочих и безработных, от студентов, от художников, от мечтателей разных профессий – словом от всех, кто ненавидел власть денег… Наверняка, под бомбами Кавеньяковской артиллерии погибло не мало людей без какой-либо ясной политической программы – иначе говоря, стихийных анархистов. Мой друг, который прибегал за мной в кафе «Режанс», русский, как и я, но убежденный анархист. Он принадлежит как раз к числу людей, для которых баррикада – любимейшее и желаннейшее место в жизни… Есть как бы особая порода, если не целая раса людей, ненавидящих самое понятие власти. Есть такие люди, а их не мало, и я не только о себе, но и в вас, граф, порой угадывают такого же.
Эдмон сделал слегка смущенное движение, как бы признавая правильность догадки месье Жана. А тот продолжал:
– И должен признаться, что считая себя убежденным приверженцем республиканской законности, ненавистником монархии и крепостничества, все еще царящих на моей родине, я в эти кровавые дни не знал, с кем мне по пути.
– На чьей же стороне выступали вы тогда на днях, позвольте вас спросить, милый месье Жан? – спросила Гайде.
Месье Жан усмехнулся, поднял руки, как бы чуть оправдывающимся жестом:
– На стороне слабейших, как меня учили в детстве. Можно было бы даже сказать обреченных…
– Всех учат этому, но многие не выполняют это! – уронил Эдмон.
Месье Жан кивнул, полуодобряя эту реплику:
– Для человека, обладающего чувством достоинства и самоуважения – самое трудное и ответственное – определить с достаточной точностью – кто же слабейший? Страх примкнуть к сильнейшему может так сковать мыслящего и гордого человека, что он просто отойдет в сторону.
– Как сделали это мы с Эдмоном, – с детской очаровательной простотой подхватила Гайде.
– Не хватало того, чтобы и вы вмешались в эту кашу! – воскликнул месье Жан.
– Мне кажется, вы могли сами догадаться, дорогая мадам Гайде, что я не был ни на чьей стороне, мы с моими друзьями провели охоту на бонапартистов, то есть за той «стороной», которую принято именовать «нейтральной», но которую мой друг Мишель Барунин очень точно определил словами «тертиус гауденс». Эта, не участвовавшая в недавней битве сила, мне сейчас кажется наиболее страшной, мне, с моих личных позиций народолюбия и свободолюбия. Готовится новая эра пресмыкательства, коленопреклонения, руколобызания, гуттаперчевых спин, воскурения фимиамов, а вместе с тем – новых кровопролитий, еще небывалых, во имя престижа Новой Империи, во имя восстановления власти Бонапартов…
– Так вот чего добиваются бонапартисты? – всплеснула руками Гайде. – Нечего сказать, страшные, видимо, в самом деле, люди! И подумать, что еще сравнительно недавно мой граф тоже считал себя «бонапартистом»!
Но при этом она ласково, как бы утешающе погладила руку Эдмона и задала месье Жану еще вопрос тоном школьницы, спрашивающей учителя:
– Все же, я хотела бы знать побольше об этом самом «бонапартизме»! Ведь Бонапарт давно уже умер…
– Да, уже более четверти века, как его нет, мадам Гайде, но он на диво всем продолжает властвовать над умами и душами. Этот психоз поразителен, непостижим. Первейшие поэты, такие как Байрон, Гете, Зейдлиц и даже русские, включая Лермонтова и Пушкина, возлагали свои словесные венки на его страшную гробницу! Вспомните потрясающий патриотический реквием, созданный австрийцем Зейдлицем в память этого Молоха наших времен – стихотворение «Воздушный корабль», подхваченное у нас в России гениальным молодым поэтом Михаилом Лермонтовым. Ведь что ни строка в этой вещи – то благоговейнейшее рыдание, месса, траурный гимн!
Он прочел несколько строф по-немецки и затем во французском переводе и, пожалуй, тут же пожалел об этом. Впечатление, произведенное и самой вещью, и его выразительным, не карикатурно-высмеивающим чтением было настолько велико, что даже Эдмон приоткрыл рот, а Гайде в одном месте даже смахнула выступившую слезинку.
Месье Жан, впрочем, сам спохватился, что вызвав эффект, обратный тому, какого хотел, и возобновил высмеивание бонапартизма.
– Не столь давно, в дни перевозки праха Наполеона из этой воспетой Зейдлицем могилы во Францию, в Париж, в великолепное, специально построенное здание, Один из его племянников, некий Луи-Наполеон Бонапарт, сын падчерицы Наполеона Гортензии и одного из его братьев, сделал попытку государственного переворота… Эта авантюра стоила жизни еще нескольким французским солдатам, но последыш Наполеона был пощажен. Он отделался пожизненным заключением в военной тюрьме. Там и жил там припеваючи около шести лет, даже не считая нужным бежать, накапливая себе ореол мученика и героя… Снисходительность к нему властей была столь велика, что он имел там апартаменты из четырех комнат, своего врача, камердинера, секретаря и метрессу-англичанку! И все-таки, в конце концов он сбежал!
Гайде спросила:
– Было ли это попустительством местных тюремных властей или же это было санкционировано Луи-Филиппом?
Месье Жан усмехнулся, пожал плечами:
– «Филиппары» испытывали дрожь, трепет перед именем Наполеона, это бесспорно! Они платили повышенный пенсион его «почетным легионерам», наносили визиты его бывшим министрам, маршалам и герцогам. Родной племянник Наполеона не мог быть приравнен к рядовым каторжникам, его охраняла грозная и огромная по размерам тень его великого дядюшки…
– Вы все-таки признаете, значит, Наполеона великим, месье Жан? – еще задала вопрос Гайде.
Месье Жан усмехнулся:
– Почти все страшнейшие бичи человечества почему-то завоевали в истории прозвище «великих»: Кир Великий – персидский, Александр Великий – греческий, Помпей Великий – в Риме, Карл Великий – во Франции, Фридрих Великий, превративший Германию в казарму…
– Но вы все же опять увернулись от моего вопроса! – со смехом, но настойчиво напомнила Гайде. – Считаете ли вы лично, месье Жан, великим этого финикийца, сумевшего стать императором Франции и покорить воображение первейших поэтов мира – пусть официально история и отказала ему в этом эпитете Великий.
Месье Жан тоже рассмеялся:
– Я могу взять на себя приятную задачу познакомить вас, господа, с выдающимся поэтом современной Франции – Виктором Гюго… Правда, я не числюсь среди его приятелей, но быть посредником в его знакомстве с вами вряд ли представит трудность, и тогда вы оба получите интереснейшую возможность видеть перед собой в одном лице и почитателя Наполеона и ярого ненавистника бонапартистов!
– Что же касается меня, – закончил месье Жан, – я отнюдь не почитатель Наполеона, но не вправе отказать ему все же в своеобразном величии. Я солидаризуюсь в этом с моими доподлинно великими соотечественниками, которых только что называл, – с Пушкиным, Лермонтовым. Он не может импонировать романтикам, поэтам… Но в отношении его последователей и последышей-бонапартистов у меня, как и у вашего исполина Гюго, может быть, лишь одно презрение и враждебность! Но не находите ли вы, дорогие друзья, что и мне пора вас спросить, как вы поживали все это время, как идет жизнь на вашем благословенном острове среди лазури Средиземноморья, что у вас нового?
Гайде не выдержала, не удержалась похвастаться, что у них появился сын, которому уже три года и который остался там в надежных руках.
– Все население нашего островка равно двадцати двум человекам, состоит оно из проверенных, преданнейших наших друзей, – продолжала она свою радостную похвальбу. – Со всеми у нас чисто братские отношения, полная искренность и доверие, ни тени угодливости или раболепия. У каждого приятные ему обязанности: шкипер и два матроса на нашей парусно-паровой яхте, два рыбака на сетеловной шхуне, три садовника и лесник, три стрелка-охотника по дичи, они же и береговые сторожа. Их жены и дети… Полное равенство и довольство, никаких заговоров или потребности что-то изменить в этом распорядке жизни…
Эдмон, почти все время хмурый, оживился, озарился:
– Да, Гайде дает правильную картину того, как течет жизнь на нашем тихом островке… Она забыла упомянуть, что мы очень часто и с увлечением играем с ней в шахматы, которыми, кажется, увлекаетесь и вы?
– Да, – кивнул месье Жан, – я люблю это занятие и вижу в нем нечто значительно большее, чем развлечение, игру. Я вижу в нем школу законности и справедливости, добросовестности и благородства. Гюго, нередко заходящий сюда, в «Режанс», живет совсем рядом. И, между прочим, также оценивает шахматы, хотя сам играет очень редко.
Эдмон сказал:
– Гайде так живо и приятно напомнила о нашей жизни на острове, что невольно захотелось поскорее туда вернуться. Тем более после таких страшных, кровавых событий.
Гайде захлопала в свои маленькие ладошки:
– Вот чудесно! Давайте, граф, уедем завтра же?
Месье Жан даже огорчился и омрачился:
– Вам так быстро наскучило мое общество? Но ведь я обещал вас познакомить с Гюго! Вы не пожалеете об этом знакомстве… Это огромный ум!
– Ну хорошо! Мы уедем послезавтра! – совсем по-детски согласилась Гайде.
Эдмон вздохнул.
– Я отвезу тебя домой, Гайде, к сыну, но тотчас же вернусь в Париж… Человек, о котором рассказал нам месье Жан, должен быть непременно найден! И горе ему, если он весел и беспечен!