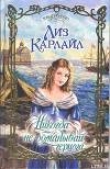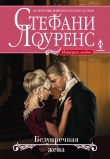Текст книги "Женщина с бархоткой на шее"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
– Приходите, поговорим.
Наконец Нодье слег и больше уже не встал. Я пошел к нему.
– Ах, дорогой Дюма! – сказал он, протянув мне руки, как только увидел меня в дверях. – В те времена, когда я был здоров, вы нашли во мне всего-навсего друга, но теперь, когда я болен, вы видите перед собой человека, который вам благодарен. Я не могу больше работать, но еще могу читать и, как видите, читаю вас, а когда я устаю, зову мою дочь, и вас читает моя дочь.
В самом деле: Нодье показал мне мои книги, разбросанные на его постели и на столе.
Это была одна из тех минут, когда я был по-настоящему горд. Нодье, который был оторван от жизни, Нодье, который не мог больше работать, Нодье, этот громадный ум, Нодье, который знал все, читал меня и, читая меня, получал удовольствие!
Я взял его за руки и хотел поцеловать их – так я был ему благодарен. Накануне я как раз прочитал одну его вещь, небольшое произведение, только что вышедшее в двух номерах «Peftfo де дё монд».
Это была «Инее де лас Сьеррас».
Я был восхищен. Этот роман – одно из последних произведений Шарля – был таким свежим, таким ярким, что можно было бы принять его за одно из сочинений молодого Нодье, которое автор разыскал и выпустил в свет, когда перед ним уже раскрылись иные горизонты.
История Инее – это повествование о возникновении призраков и привидений, но фантастика заполняла лишь первую часть; во второй она отсутствовала, и конец объяснял начало. По поводу этого объяснения я попенял Нодье.
– Вы правы, – сказал он, – это мой промах, но у меня есть другая книга, и уж ее-то я не испорчу, можете быть спокойны.
– Дай-то Бог! Но когда же вы приметесь за эту вещь? Нодье взял меня за руку.
– Эту-то уж я не испорчу – ведь не я напишу ее, – сказал он.
– А кто?
– Вы.
– Как? Я, дорогой Шарль? Но ведь я же не знаю эту историю!
– Я вам ее расскажу. Я берег ее для себя, или, вернее, для вас.
– Дорогой Шарль, вы мне ее расскажете, но напишете ее вы и сами же ее напечатаете.
Нодье покачал головой.
– Я вам ее расскажу, – произнес он, – а если я выздоровею… что ж, вы мне ее вернете.
– Отложим это до моего следующего визита, – время терпит.
– Друг мой, я скажу вам то же самое, что сказал одному кредитору, когда давал ему залог: «Дают – бери».
И он начал свой рассказ.
Никогда еще манера Нодье рассказывать не была столь прелестна.
Ах, если бы при мне было перо, если бы у меня была бумага, если бы я мог писать так быстро, чтобы поспевать за ним!
История была длинная, и я остался у Нодье обедать.
После обеда Нодье задремал. Я вышел из Арсенала, не простившись с ним.
Больше я его не видел.
Нодье, о ком говорили, что от любит жаловаться, до последней минуты скрывал от семьи свои страдания. Когда он показал свою рану, стало ясно, что она смертельна.
Нодье был не только христианином – он был добрым и ревностным католиком. Он взял слово с Мари, что, когда настанет время, она пошлет за священником. Время настало, и Мари послала за кюре из церкви святого Павла.
Нодье исповедовался. Бедный Нодье! Должно быть, у него было много грехов, но несомненно не было ни одного дурного поступка.
Исповедь кончилась, и вся семья вошла к нему.
Нодье лежал в темном алькове и протягивал руки жене, дочери и внукам.
За членами семьи стояли слуги.
Позади слуг была библиотека – другими словами, друзья, которые никогда не изменят: книги.
Кюре вслух прочитал молитвы, и Нодье отвечал ему тоже вслух, как человек, хорошо знакомый с христианским богослужением. Потом он обнял всех по очереди, каждого успокоил, уверив, что он проживет еще день или два, особенно если ему дадут несколько часов поспать.
Нодье оставили одного, и он проспал пять часов.
Вечером 26 января, то есть за день до смерти, лихорадка усилилась, начался легкий бред; к полуночи Нодье никого уже не узнавал и произносил бессвязные слова; различить можно было лишь имена Тацита и Фенелона.
В два часа ночи в дверь начала стучаться смерть: у Нодье был жестокий приступ лихорадки; у его изголовья склонилась дочь, протягивая ему чашку с успокоительной микстурою; он открыл глаза, посмотрел на Мари и узнал ее по слезам; он взял из ее рук чашку и с жадностью выпил микстуру.
– Тебе нравится это питье? – спросила Мари.
– О да, дитя мое, – как и все, что исходит от тебя.
И бедная Мари уронила голову на изголовье постели, накрыв своими волосами влажный лоб умирающего.
– О, если бы ты так и осталась, я бы никогда не умер! – прошептал Нодье. note 7Note7
Франсис Вай опубликовал весьма примечательные заметки о последних минутах жизни Нодье; но написаны они для друзей и напечатаны всего лишь в двадцати пяти экземплярах. (Примеч. автора.)
[Закрыть]
А смерть продолжала стучаться в дверь.
Конечности у Нодье начали холодеть, но жизнь, уходя из тела, поднималась и сосредоточивалась в мозгу, и разум его был светел как никогда.
Он благословил жену и детей, потом спросил, какое сегодня число.
– Двадцать седьмое января, – отвечала г-жа Нодье.
– Вы не забудете это число, друзья мои, не правда ли? – спросил Нодье; потом, повернувшись к окну, произнес со вздохом: – Мне очень хотелось бы еще раз увидеть день.
Потом он впал в забытье.
Потом дыхание его стало прерывистым.
Потом, наконец, в то мгновение, когда первый луч света постучался в окно, он снова открыл глаза, бросил прощальный взгляд и испустил дух.
Со смертью Нодье в Арсенале умерло все – радость, жизнь, свет; все мы облачились в траур; каждый из нас, утратив Нодье, утратил часть самого себя.
А я… не знаю, как это объяснить, но, с тех пор как умер Нодье, я словно ношу в себе частичку смерти.
Эта частичка оживает, только когда я говорю о Нодье.
Вот почему я говорю о нем так часто.
А история, которую вы сейчас прочитаете, – это та самая, что рассказал мне Нодье.
II. СЕМЕЙСТВО ГОФМАНА
Среди прелестных городков, разбросанных по берегам Рейна, подобно бусинам четок, нитью которых является как бы сама река, нельзя не назвать Мангейм – вторую столицу великого герцогства Баденского, Мангейм – вторую резиденцию великого герцога.
Ныне, когда паровые суда, снующие вверх и вниз по Рейну, заходят в Мангейм, ныне, когда в Мангейм ведет железная дорога, ныне, когда Мангейм, с разметавшимися волосами и в одежде, окрашенной кровью, под ураганным огнем потрясает знаменем восстания против великого герцога, я не знаю, что он собой представляет; но о том, каким он был в те времена, когда началась эта история – то есть почти пятьдесят шесть лет назад, – я вам сейчас расскажу.
Это был город прежде всего немецкий: спокойный и в то же время занимавшийся политикой, немного печальный или, вернее, мечтательный; это был город романов Августа Лафонтена и стихов Гёте, город Генриетты Бельманн и Вертера.
В самом деле, достаточно было бросить на Мангейм один-единственный взгляд, увидеть выстроенные в линию дома, четыре квартала, широкие, красивые улицы, поросшие травой, фонтан с мифологическими фигурами, тенистый бульвар с двойным рядом акаций, тянувшихся от края до края, – достаточно было, говорю я, бросить один-единственный взгляд на Мангейм, чтобы убедиться, сколь прекрасной и легкой была бы жизнь в этом подобии рая, если бы порою любовные или политические страсти не вкладывали пистолет в руку Вертера или кинжал в руку Занда.
Выделяется там одно место – оно носит совершенно особый характер; это то самое место, где возвышаются рядом церковь и театр.
Церковь и театр, по всей вероятности, были построены в одно время и, наверное, одним архитектором, по-видимому, приблизительно в середине минувшего столетия, когда капризы той или иной фаворитки влияли на искусство до такой степени, что целое направление искусства носило ее имя – от церкви и до домика, от бронзовой статуи в десять локтей высоты и до фигурки из саксонского фарфора.
Таким образом, церковь и театр в Мангейме были построены в стиле помпадур.
Снаружи в церковной стене были две ниши; в одной из них стояла статуя Минервы, в другой – Гебы.
У дверей театра были два сфинкса. Один из них изображал Комедию, другой – Трагедию.
Под лапой первого сфинкса лежала маска, под лапой второго – кинжал. У обоих были взбитые прически с напудренными шиньонами, что служило великолепным дополнением к египетскому стилю.
Впрочем, вся площадь, вычурные дома, пышные деревья, украшенные гирляндами стены – все было в одном стиле и создавало один из самых отрадных для взора ансамблей.
Так вот, именно в одну из комнат на втором этаже дома, окна которого расположены наискосок от портала иезуитской церкви, мы поведем сейчас наших читателей и попросим их заметить, что мы убавили им возраст более чем на полвека и что мы, если говорить о летосчислении, попали в лето благости или же гнева Господня 1793, если же говорить о числах – то это воскресенье 10 мая. В эту пору все расцветает: кувшинки у берегов реки, маргаритки на лужайках, боярышник у изгороди, розы в садах, любовь в сердцах.
А теперь прибавим к сказанному вот еще что: одно из самых пылких и лихорадочно бьющихся сердец во всем Мангейме и в его окрестностях принадлежало молодому человеку, жившему в той самой маленькой комнатке, только что упомянутой нами; наискосок от ее окна стояла иезуитская церковь.
И комната, и молодой человек заслуживают подробного описания.
Человеку с наметанным глазом комната показалась бы обиталищем причудливым и живописным, ибо у нее был вид мастерской художника, магазина музыкальных инструментов и рабочего кабинета.
Тут были палитра, кисти и мольберт, а на мольберте – начатый эскиз.
Тут были гитара, виола д'амур и фортепьяно, а на фортепьяно – раскрытая соната.
Тут были перо, чернила и бумага, а на бумаге – начало баллады, все в помарках.
Стены были увешаны луками, стрелами, арбалетами XV века, гравюрами XVI века, музыкальными инструментами XVII века, заставлены сундуками всех времен, сосудами для вина всех форм, кувшинами всех родов; их украшали также стеклянные бусы, веера из перьев, набитые соломой чучела ящериц, засушенные цветы и многое другое, но все это не стоило и двадцати пяти серебряных талеров.
Кто же жил в этой комнате – художник, музыкант или поэт? Это нам неизвестно.
Ясно было одно: человек этот был курильщиком, ибо среди всех его коллекций одна из них была наиболее полная, она привлекала к себе особое внимание, занимала почетное место под солнцем, привольно расположившись над старым канапе, до нее можно было дотянуться рукой; то была коллекция трубок.
Но кем бы он ни был – поэтом, музыкантом, художником или курильщиком, – сейчас он не курил, не рисовал, не писал, не сочинял музыку.
Нет – он смотрел.
Он смотрел, стоя неподвижно, прислонившись к стене и затаив дыхание: он смотрел в открытое окно, предварительно устроив себе в занавеске смотровую щель, чтобы он мог видеть, а его увидеть не могли; он смотрел так, как смотрят, когда глаза – это подзорная труба сердца!
Куда же он смотрел?
Он смотрел на портал иезуитской церкви – место, в данный момент пустовавшее.
Портал был пуст оттого, что полна была церковь.
Ну а теперь – какой же вид был у обитателя этой комнаты, у того, кто смотрел из-за занавески, у того, чье сердце так сильно билось, когда он смотрел в окно?
Это был молодой человек самое большее лет восемнадцати, маленького роста, худощавый, нелюдимый с виду. Длинные черные волосы падали ему на лоб и, если он не отбрасывал их рукой, закрывали глаза, и сквозь завесу волос сверкал его взгляд, пристальный и дикий, взгляд человека неуравновешенного.
Этот молодой человек не был ни поэтом, ни художником, ни музыкантом, но он объединял в себе и поэта, и художника, и музыканта; это было воплощенное сочетание живописи, музыки и поэзии; все в нем было странно, фантастично, в нем были добро и зло, храбрость и робость, жажда деятельности и леность; этот человек был не кто иной, как Эрнст Теодор Вильгельм Гофман.
Он родился суровой зимней ночью 1776 года; выл ветер, падал снег, страдали все обездоленные; он родился в Кенигсберге – в сердце старой Пруссии; он родился таким слабеньким, таким хилым, такого хрупкого сложения, что его тщедушность навела окружающих на мысль: пожалуй, стоит заказать ему гробик, а не покупать колыбель; он родился в год, когда Шиллер, закончив свою драму «Разбойники», подписал ее: «Шиллер, раб Клопштока»; он родился в одном из тех старинных буржуазных семейств, что существовали у нас во Франции эпохи Фронды и поныне существуют в Германии, однако в скором времени их не останется нигде; он родился от болезненной матери, которая отличалась глубоким смирением, придававшим всему ее облику страдалицы вид обаятельно-меланхоличный; он родился от отца, сурового и в речах и в поступках, ибо отец его был советником уголовного суда и чиновником верховной судебной палаты провинции. Вокруг отца и матери толпились дядюшки-судьи, дядюшки-чиновники, дядюшки-бургомистры и еще молодые, еще красивые, еще кокетливые тетушки; и все эти дядюшки и тетушки рисовали, музицировали, все они были полны сил, все были веселы. Гофман утверждает, что видел их; он вспоминает, что, собравшись вокруг него – шести-, восьми-, десятилетнего ребенка, они или все вместе исполняли какие-то странные концерты, или каждый в отдельности играл на одном из тех старинных инструментов, названия которых ныне никто даже и не знает: на цимбалах, на ребеках, на цитрах, на цистрах, на виолах д'амур, на виолах да гамба. Надо заметить, что ни один человек, кроме Гофмана, отроду не видывал ни таких дядюшек-музыкантов, ни таких тетушек-музыкантш и не был свидетелем такого явления, что все эти дядюшки и тетушки исчезали как призраки один за другим, а перед тем как исчезнуть, гасили свет, горевший над их пюпитрами.
Из всех дядюшек один все же остался. Из всех тетушек одна все же осталась.
Об этой тетушке Гофман хранил одно из самых светлых воспоминаний.
В доме, где Гофман провел свою юность, жила сестра его матери, молодая женщина с нежным, глубоко проникающим в душу взором, молодая женщина, ласковая, душевная, чувствительная; в ребенке, которого все считали ненормальным, маньяком, безумцем, она одна видела возвышенную душу; она одна защищала его (вместе с его матерью, разумеется), она предсказала, что он будет гением и прославится; предсказание это не однажды вызывало слезы у матери Гофмана, ибо она знала, что неразлучный спутник гения и славы – несчастье.
Это была тетушка Софи.
Как и вся семья Гофманов, она была музыкантшей: она играла на лютне. Когда Гофман, еще ребенком, просыпался в своей колыбельке, его затопляла сладостная гармония; открывая глаза, он видел привлекательную молодую женщину, обвенчанную со своим инструментом. Обыкновенно на ней было платье аквамаринового цвета с розовыми бантами; обыкновенно ей аккомпанировал старик-музыкант с кривыми ногами и в белом парике; он играл на басе, который был для него слишком велик; он крепко держал его, то поднимаясь, то опускаясь, как ящерица по тыкве. Этот поток гармонии низвергался подобно каскаду жемчугов, падавшему из-под пальцев прекрасной Эвтерпы, и Гофман пил волшебное приворотное зелье, что сделало музыкантом его самого.
Мы уже упомянули, что у Гофмана сохранилось о тетушке Софи одно из самых светлых воспоминаний.
Этого нельзя, однако, сказать про его дядюшку.
Когда умер его отец и заболела его мать, Гофмана оставили на руках этого дядюшки.
Дядюшка был столь же педантичен, сколь рассеян был бедный Гофман; он был столь же методичен, сколь бедный Гофман был странен и мечтателен; он упорно прививал племяннику свою педантичность и методичность, но всегда это было столь же бесплодно, сколь пытаться привить его часам дух императора Карла V; дядюшка трудился напрасно: часы звонили по прихоти племянника, а вовсе не по желанию дядюшки.
В сущности, невзирая на свою педантичность и строгое соблюдение всех правил, дядюшка вовсе не был таким уж ярым врагом искусства и фантазии, он даже терпел музыку, поэзию и живопись, но полагал, что человек здравомыслящий должен прибегать к развлечениям подобного рода только после обеда, чтобы облегчить процесс пищеварения. Именно на такой основе и строилась жизнь Гофмана: столько-то часов отводилось для сна, столько-то – для изучения права, столько-то – для еды; столько-то минут отводилось для музыки, столько-то – для живописи, столько-то – для поэзии.
Самому Гофману хотелось все это переиначить и объявить: столько-то минут – на право и столько-то часов – на поэзию, живопись и музыку, но он не был хозяином положения и в конце концов почувствовал отвращение и к праву и к дядюшке; в один прекрасный день он сбежал из Кенигсберга с несколькими талерами в кармане и добрался до Гейдельберга; тут он ненадолго остановился передохнуть, но не обосновался, ибо музыка, которую исполняли в здешнем театре, была из рук вон плоха.
И вот из Гейдельберга он перебрался в Мангейм; Мангеймский театр – рядом с этим театром он, как мы видели, поселился – слыл соперником музыкальных театров Франции и Италии; мы сказали «Франции и Италии», ибо вряд ли кто-либо может забыть, что всего лет за пять-шесть до того дня в Королевской академии музыки шла грандиозная борьба между Глюком и Пиччини.
Итак, Гофман пребывал в Мангейме и жил рядом с театром, причем жил на те средства, какие ему давали его произведения художника, музыканта и поэта, а равно и на те фридрихсдоры, что время от времени присылала ему его добрая матушка, – пребывал вплоть до того мгновения, когда мы, пользуясь привилегией Хромого беса, подняли потолок его комнаты и показали нашим читателям, что он, прислонившись к стене, неподвижно стоит за занавеской, тяжело дыша и не сводя глаз с портала иезуитской церкви.
III. ВЛЮБЛЕННЫЙ И БЕЗУМЕЦ
В то время как люди, выходившие из иезуитской церкви (хотя месса только приближалась к середине), более чем когда-либо привлекали внимание Гофмана, в дверь к нему постучали. Молодой человек тряхнул головой, нетерпеливо топнул ногой, но не откликнулся.
Стук раздался снова.
Угрожающий взгляд готов был сквозь дверь поразить назойливого гостя.
Постучали в третий раз.
На этот раз молодой человек остался неподвижен: он явно решил не открывать.
Но, вместо того чтобы продолжать стучаться, посетитель ограничился тем, что произнес одно из имен Гофмана.
– Теодор! – позвал он его.
– Ах, это ты, Захария Вернер! – пробормотал Гофман.
– Да, я; ты хочешь побыть один?
– Нет, постой.
И Гофман отворил дверь.
Вошел высокий молодой человек, бледный, худой, белокурый, с немного растерянным видом. Вероятно, он был года на три-четыре старше Гофмана. Переступив порог, он положил руку Гофману на плечо и коснулся губами его лба так, как это мог бы сделать старший брат.
В самом деле, это был настоящий брат Гофману. Родившийся в том же доме, что и Гофман, будущий автор «Мартина Лютера», «Атиллы», «Двадцать четвертого февраля», «Креста на Балтийском море», он вырос под двойной опекой – под опекой своей родной матери и матери Гофмана.
Обе женщины страдали нервным заболеванием, перешедшим в безумие, передали своим детям эту болезнь, которая во втором поколении оказалась менее тяжкой и проявлялась лишь в бурном воображении у Гофмана и в склонности к меланхолии у Захарии. Мать Захарии помешалась на том, что ей, подобно Богоматери, предназначена божественная миссия: ее дитя должно стать новым Христом, будущим Силоамом, как то было обещано в Писании. Когда он спал, она плела венки из васильков и возлагала их ему на голову; она преклоняла перед ним колени, напевая своим нежным и мелодичным голосом самые прекрасные гимны Лютера в надежде, что во время пения этих стихов венок из васильков превратится в ореол.
Дети воспитывались вместе; Гофман удрал от дядюшки главным образом по той причине, что Захария жил и учился в Гейдельберге; в свою очередь Захария, платя дружбой за дружбу, покинул Гейдельберг, чтобы присоединиться к Гофману в Мангейме, когда тот прибыл туда, желая послушать музыку лучше той, что ему довелось услышать в Гейдельберге.
Но, когда молодые люди очутились в Мангейме, вдали от опеки нежных матерей, у них появилась страсть к путешествиям (а это непременно входит в воспитание немецкого студента) и они решили посетить Париж.
Вернер – потому что его привлекало редкостное зрелище, которое должна была явить его взору столица Франции, где, кстати сказать, в это время террор был в самом разгаре.
Гофман – потому что он хотел сравнить французскую музыку с итальянской, а главное – изучить возможности французской Оперы в смысле сценических эффектов и декораций; тогда же у Гофмана возникло стремление, которое он лелеял всю жизнь, – стать директором театра.
Вернер, человек распутный от природы, хотя и религиозный по воспитанию, рассчитывал на чрезвычайную распущенность нравов, до которой у нас дошли в 1793 году и которую один из его друзей, вернувшись недавно из Парижа, представил ему столь соблазнительно, что эта картина вскружила голову чувственному студенту.
Гофман же, еще не уверенный в выборе своей манеры живописца, мечтал увидеть музеи (о них ему рассказывали чудеса) и сравнить итальянскую живопись с немецкой.
Впрочем, каковы бы ни были тайные намерения двух друзей, а поехать во Францию они всей душой стремились оба.
Для исполнения своего желания им не хватало только одного – денег. Но случай распорядился так, что, по странному совпадению обстоятельств, Захария и Гофман одновременно получили от своих матерей по пяти фридрихсдоров.
Десять фридрихсдоров составляли приблизительно двести ливров; это была порядочная сумма для двух студентов, которые жили, обогревались и питались на пять талеров в месяц. И все же эта сумма была ничтожной для того, чтобы совершить задуманное путешествие.
Молодым людям пришла в голову мысль, и поскольку эта мысль пришла в голову сразу обоим, то они решили, что это наитие свыше.
Мысль заключалась в том, что оба они со своими деньгами пойдут в игорный дом и рискнут своими пятью фридрихсдорами.
С десятью фридрихсдорами в кармане далеко не уедешь. Но если рискнуть этими десятью фридрихсдорами, то, пожалуй, выиграешь такую сумму, с которой можно отправиться и в кругосветное путешествие.
Сказано – сделано; приближался сезон, когда люди приезжают на воды, и первого мая открылись игорные дома; Вернер и Гофман зашли в один из них.
Вернер попытал счастья первым, и после пяти ходов проиграл свои пять фридрихсдоров.
Настал черед Гофмана.
Гофман, дрожа, поставил на карту свой первый фридрихсдор и выиграл.
Ободренный таким началом, он удвоил ставку. В этот день он был в ударе; четыре хода из пяти приносили ему выигрыш, а надобно знать, что этот молодой человек принадлежал к числу людей, верящих в счастье. Нимало не колеблясь, он легко загибал пароли за пароли – можно было подумать, что ему помогает сверхъестественная сила: без какой-либо заранее продуманной комбинации, без всякого расчета он ставил на карту свое золото, и оно удваивалось, утраивалось, удесятерялось. Захария дрожал сильнее, чем в лихорадке, и был бледнее, чем привидение; он шептал: «Довольно, Теодор, довольно», – но игрок смеялся над этой детской робостью. Золотые монеты текли одна за другой, одна рождала другую. Наконец пробило два часа ночи – в это время заведение закрывалось, – и игра кончилась; молодые люди, не считая, сгребли каждый по куче золота. Захария, не веривший, что ему привалило такое счастье, вышел первым; Гофман собирался последовать за ним, но вдруг какой-то старый офицер, не спускавший с него глаз во все время игры, остановил его, когда тот уже хотел переступить порог.
– Молодой человек, – сказал он, кладя руку ему на плечо и пристально глядя на него, – если вы пойдете по этой дорожке, вы сорвете банк, я не спорю; но когда банк будет сорван, вы тем вернее станете добычей дьявола.
Не дожидаясь ответа, офицер исчез. Вслед за ним вышел на улицу и Гофман, но это был уже другой человек. Предсказание старого воина охладило его, как ледяной душ, а золото, которым были набиты его карманы, стало для него непосильной ношей. Ему казалось, что он несет на себе бремя беззакония.
Вернер поджидал его вне себя от восторга. Они пошли по направлению к жилищу Гофмана; один из них смеялся, пел, танцевал, другой был задумчив, почти мрачен.
Смеялся, пел, танцевал Вернер; задумчив, почти мрачен был Гофман.
Как бы то ни было, оба решили на следующий день вечером отправиться во Францию.
Они обнялись и расстались. Оставшись один, Гофман подсчитал свое золото.
У нега было пять тысяч, талеров – другими, словами, двадцать три-двадцать четыре тысячи франков.
Он долго раздумывал; казалось, ему было трудно принять решение.
Его освещала горевшая в комнате медная лампа, лицо его было бледным, по лбу струился пот.
При каждом шорохе, даже если то был шорох неуловимый, как трепет крылышек мотылька, Гофман вздрагивал, оборачивался и с ужасом оглядывался по сторонам.
Предсказание офицера вновь и вновь приходило ему на память; он еле слышно шептал строки из «Фауста», и ему казалось, что он видит на пороге комнаты крысу, что-то грызущую, а в углу – черного пуделя.
Наконец решение было принято.
Он отложил тысячу талеров как сумму, по его расчету, необходимую для путешествия, положил в пакет остальные четыре тысячи, воском приклеил к пакету карточку, а на карточке написал:
«Господину бургомистру Кенигсберга для самых бедных семейств в городе».
Успокоенный, довольный победой, которую он сейчас одержал над собой, Гофман разделся, лег и проспал спокойным сном до семи часов утра.
В семь утра он проснулся, и первое, что он увидел, были деньги, лежавшие прямо на столе, и запечатанный пакет с талерами. В первую секунду ему показалось, что это сон.
Однако золото убедило его: все, что произошло с ним вчера, было на самом деле.
Но самым реальным – хотя ни один осязаемый предмет не мог бы напомнить ему об этом – было для Гофмана предсказание старого офицера.
И вот, одевшись, как всегда, он без малейшего сожаления взял под мышку пакет с четырьмя тысячами и – по правде сказать, не забыв прежде всего запереть оставшуюся тысячу талеров в ящик, – пошел отправлять их с кёнигсбергским дилижансом.
Читатель, верно, помнит, что в тот же вечер два друга должны были уехать во Францию, а потому, вернувшись домой, Гофман начал собираться в дорогу.
Бегая по комнате, он чистил фрак, складывал рубашку, выбирал носовые платки, но вдруг случайно посмотрел в окно и замер на месте.
Очаровательная юная девушка лет шестнадцати-семнадцати, явно чужая в Мангейме, ибо Гофман не знал ее, переходила улицу, направляясь в церковь.
Даже в своих мечтах, мечтах поэта, художника и музыканта, Гофман не видывал ничего подобного.
Та, на кого он смотрел, превосходила не только то, что он когда-либо видел, но даже и то, что надеялся увидеть.
Однако на таком расстоянии он видел лишь восхитительное целое; подробности ускользали от его взгляда.
Юную девушку сопровождала старая служанка.
Обе медленно поднялись по ступенькам иезуитской церкви и исчезли под сводом портала.
Гофман бросил чемодан, уложенный наполовину, бордовый фрак, вычищенный наполовину, редингот с брандебурами, сложенный наполовину, и стал за занавеской как вкопанный.
Тут-то, в ожидании выхода той, что вошла в церковь, мы и увидели его впервые,
Он опасался одного: этот ангел, вместо того чтобы выйти в дверь, может вылететь в окно и подняться к небесам.
В этом-то положении его застали мы, а вслед за нами – Захария Вернер. Вновь прибывший, как мы уже сказали, положил руку на плечо друга и коснулся губами его лба.
После этого он испустил вздох, который мог перепугать кого угодно. Захария Вернер и всегда-то был очень бледен, но сейчас он был бледнее обычного.
– Что с тобой? – спросил Гофман с непритворной тревогой.
– Ах, друг мой! – воскликнул Вернер. – Я разбойник! Я негодяй! Я заслуживаю смертной казни! Отруби мне голову топором! Пронзи мне сердце стрелой! Я недостоин более смотреть на свет небес!
– Ба! – воскликнул Гофман с благодушным спокойствием счастливого человека. – Что же такое приключилось с тобой, дорогой друг?
– Случилось… Что случилось? Ты спрашиваешь, что случилось? Так вот, мой друг, меня искушает дьявол!
– Что ты хочешь этим сказать?
– Да то, что сегодня утром я увидел все мое золото; его оказалось так много, что я подумал, будто это во сне.
– Как так – во сне?
– Золотом был усыпан, завален весь стол, – продолжал Вернер. – Так вот, когда я это увидел, – а это было целое состояние: тысяча фридрихсдоров, мой друг, – так вот, когда я это увидел, когда я увидел, что каждая монета сверкает, то пришел в такое возбуждение, что не мог побороть себя – взял треть золота и пошел в игорный дом.
– И проигрался?
– До последнего крейцера.
– Ну что ж такого? Беда невелика: ведь у тебя остались две трети?
– Две трети? Как бы не так! Я вернулся за второй третью и…
– И проиграл ее, как проиграл первую?
– Куда быстрее, друг мой, куда быстрее!
– И ты пошел за третьей третью?
– Я не пошел, а полетел, взял оставшиеся полторы тысячи талеров и поставил их на красное.
– И тут, – подхватил Гофман, – вышло черное, не так ли?
– Ах, друг мой! Черное, проклятое черное, и вышло оно без колебаний, без угрызений совести, как будто, выходя, оно не лишало меня последней надежды! Черное, друг мой, черное!
– Ты жалеешь о тысяче фридрихсдоров только из-за нашего путешествия?
– Только из-за этого. Ах, если бы я отложил хоть пятьсот талеров, чтобы было на что ехать в Париж!
– И тогда бы ты утешился?
– В ту же минуту!
– Ну что ж! Не думай больше об этом, дорогой Захария, – сказал Гофман, подводя его к своему ящику, – бери пятьсот талеров и поезжай.
– Как это – поезжай? – вскричал Вернер. – А ты?
– А я не поеду.
– Как не поедешь?
– Так, не поеду – по крайней мере, сейчас.
– Да почему? По какой причине? Что мешает тебе уехать? Что удерживает тебя в Мангейме?
Гофман увлек своего друга к окну. Народ начал выходить из церкви: месса кончилась.
– А ну посмотри, – сказал он, указывая на кого-то пальцем, дабы привлечь внимание Вернера.
В самом деле, юная незнакомка появилась в портале церкви и начала медленно спускаться по ступенькам, прижав молитвенник к груди, опустив голову, задумчивая и скромная, как гётевская Маргарита.
– Видишь? – шептал Гофман. – Ты видишь?
– Разумеется, вижу.
– Ну и как? Что ты скажешь?
– Скажу, что во всем мире не найдется женщины, ради которой стоило бы пожертвовать путешествием в Париж, даже если женщина эта – прекрасная Антония, дочь старого Готлиба Мурра, нового дирижера мангеймского театра.
– Так ты ее знаешь?
– Разумеется.
– И ты знаешь ее отца?
– Он был дирижером франкфуртского театра.
– И ты можешь дать мне рекомендательное письмо к нему?
– Конечно, дам.
– Садись сюда, Захария, и пиши. Захария сел за стол и начал писать. Отправляясь во Францию, он рекомендовал своего юного Друга Теодора
Гофмана своему старому другу Готлибу Мурру.