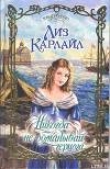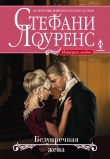Текст книги "Женщина с бархоткой на шее"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
XV. НОМЕР 113
Пале-Рояль, который в ту эпоху назывался Пале-Эгалите и который именовался также Пале-Националь, ибо первое, что совершают наши революционеры, – они дают новые названия улицам и площадям, а прежние названия возвращаются во время реставраций; Пале-Рояль, сказали мы, – это название более для нас привычно, – в ту эпоху был не таким, как в наши дни, но и тогда он был живописен и оригинален, особенно вечером, и именно в тот час, когда к нему подъехал Гофман.
Выглядел он почти так же, как в наши дни, с тою лишь разницей, что в ту пору вместо нынешней Орлеанской галереи стоял двойной ряд лесов – там строилась прогулочная галерея, образуемая шестью рядами колонн дорического стиля, вместо лип в парке росли каштаны, а там, где теперь бассейн, находился цирк – просторное здание с решетчатой оградой, облицованное камнем и украшенное висячими садами.
Да не подумает читатель, что это было именно такое здание, какое принято называть цирком. Нет, акробаты и фокусники, изощрявшиеся в цирке Пале-Эгалите, были акробатами и фокусниками совсем другого рода, они не были такими, как английский акробат г-н Прайс, за несколько лет до этого вызвавший восхищение всей Франции и давший жизнь Мазюрье и Ориолю.
В те времена цирк принадлежал «Друзьям Истины» – они и устраивали там свои представления; эти представления мог увидеть всякий, кто подписывался на газету «Железные уста». Утренний номер газеты давал ее владельцу право на то, чтобы вечером войти в это заведение и получить удовольствие, послушав речи членов всех союзов и всех объединений, произносимые, как то утверждали ораторы, с похвальным намерением взять под свою защиту тех, кто правил, и тех, кем правили, сделать беспристрастными законы и разыскать во всех уголках земного шара друзей истины, какой бы национальности, какого бы цвета кожи они ни были и каких бы убеждений ни придерживались, после чего, отыскав истину, раскрыть ее человечеству.
Как видите, во Франции всегда были люди, убежденные в том, что именно на них лежит обязанность просвещать народные массы и что остальное человечество состоит из одних только глупцов.
Что оставил пронесшийся вихрь от имен, мыслей, от тщеславия этих людей? В общем шуме можно было, однако, различить шум цирка в Пале-Эгалите; его крикливый голос исполнял свою партию в общем хоре, каждый вечер устраивавшем концерты в этом саду.
Надобно заметить, что в ту эпоху – эпоху нищеты, изгнаний, террора и ссылок – Пале-Рояль стал центром жизни: днем ее терзали страсти и борьба, а ночью она приходила сюда, чтобы погрузиться в мечты и заставить себя забыть о той истине, на поиски которой устремились члены «Социального кружка» и акционеры цирка. В то время как все парижские кварталы были пустынны и темны, в то время как зловещие патрули, состоявшие из сегодняшних тюремщиков и завтрашних палачей, кружили по городу, словно хищные звери в поисках добычи, в то время как вокруг очага, где не хватало либо друга, либо погибшего или эмигрировавшего родственника, оставшиеся в живых грустным шепотом поверяли друг другу свои опасения или горести, Пале-Рояль сиял, как бог зла; он освещал все свои сто двадцать четыре аркады, он выставлял свои драгоценности в витринах ювелиров, он швырял в гущу грубых карманьол и во всеобщую нищету своих продажных девиц, сверкавших бриллиантами, набеленных и нарумяненных, разодетых именно так, как только они и могли одеваться – в шелка и в бархат, – прогуливавшихся под деревьями и в галереях с изумительным бесстыдством. В этой роскоши проституток была последняя насмешка над прошлым, последнее оскорбление, нанесенное монархии.
Выставлять напоказ этих тварей в королевских одеждах значило уже после кровопролития бросить еще и ком грязи в тот пленительный двор роскошных женщин (его королевой была Мария Антуанетта), перенесенный революционным ураганом из Трианона на площадь с гильотиной, – так идет пьяный, волоча по грязи белое платье своей невесты.
Роскошь стала привилегией бесстыжих шлюх, а добродетель вынуждена была прикрывать свою наготу лохмотьями.
То была одна из истин, обнаруженных «Социальным кружком».
И тем не менее народ, только что с неистовой силой потрясший весь мир, парижский народ, к несчастью сначала действующий, а уж потом рассуждающий, – вот почему ему всегда не хватает хладнокровия, чтобы вспомнить о наделанных им глупостях, – этот народ, народ бедный, раздетый, совсем не понимал философского смысла такого контраста и не с презрением, а с завистью глядел на этих королев притона, этих отвратительных цариц порока. Когда же кровь его распалялась при виде этого зрелища, когда глаза его загорались и он протягивал руку к этим телам, принадлежавшим всем и каждому, у него требовали золота, а если золота не было, он с позором изгонялся. Так повсюду оскорбляли великий принцип равенства, провозглашенный топором, начертанный кровью, – этот принцип теперь получили право со смехом оплевывать публичные девки из Пале-Рояля.
А в такие дни, как в те, о которых идет речь, чрезмерное нравственное возбуждение доходит до такой степени, что подобные странные контрасты становятся действительно необходимыми. Танцевали уже не на вулкане, а в жерле вулкана, и легкие, привыкшие дышать серой и лавой, уже не довольствовались тонким благоуханием былых времен.
Итак, каждый вечер Пале-Рояль оживлялся и освещал все вокруг своим огненным венцом. Каменный сводник вопил над огромным мрачным городом:
– Настала ночь: идите сюда! У меня есть все – удача и любовь, игра и женщины! Я торгую всем – даже убийством и самоубийством! Вы, не евшие со вчерашнего дня, вы, страдающие, вы, плачущие, идите ко мне! Вы увидите, как мы богаты, вы увидите, как мы смеемся! У вас есть совесть или дочь, которые вы могли бы продать? Приходите! У вас будут карманы, полные золота, уши, полные непристойностей, и вы полным ходом пойдете навстречу пороку, подкупу и забвению. Приходите сегодня вечером: быть может, завтра вас уже не будет в живых!
Это был веский довод. Надо было торопиться жить, так же как торопились убивать.
И люди шли.
Нечего и говорить, что самым посещаемым местом было то, где велась игра. Именно здесь получали то, на что можно было приобрести и все остальное.
Среди всех горевших огней именно красный фонарь номера 113 бросал самый яркий свет: то был громадный глаз пьяного циклопа по имени Пале-Эгалите.
Если у ада есть номер, то этим номером может быть только 113.
О! Здесь все было предусмотрено.
На первом этаже был ресторан; на втором этаже велась игра: в груди здания, что вполне естественно, билось его сердце; на третьем этаже было то, на что можно было израсходовать силы, приобретенные на первом, и деньги, выигранные на втором.
Повторяем: все было предусмотрено и устроено так, чтобы деньги не уходили из здания.
И вот к этому-то дому спешил Гофман, поэтичный возлюбленный Антонии!
Номер 113 тогда был там же, где он находится и сегодня: около магазинов торговой фирмы Корселе.
Гофман выпрыгнул из экипажа, вошел в галерею дворца и благодаря одежде иностранца (в то время, как и в наши дни, она внушает больше доверия, нежели костюм национальный) его немедленно облепили все божества тех мест.
Ни одну страну никто не презирает больше, чем презирает себя она сама.
– Где номер сто тринадцать? – спросил Гофман у шлюхи, которая схватила его за руку.
– Ах, вот ты куда! – презрительно сказала эта Аспазия. – Вон там, мой мальчик, – там, где красный фонарь. Только постарайся сохранить пару луидоров и не забудь о номере сто пятнадцать.
Гофман бросился в указанную ему аллею, подобно тому как бросился в пропасть Курций, и минуту спустя очутился в игорном зале.
Там стоял шум, как на аукционе.
Там и в самом деле продавалось многое.
Залы сияли позолотой, люстрами; их украшали цветы и женщины, еще более красивые, еще более роскошные, с еще более глубокими декольте, чем те, что оставались внизу.
Звук, заглушавший все прочие шумы, был звон золотых монет. Именно здесь билось то подлое сердце.
Оставив по правую руку зал, где играли в тридцать и сорок, Гофман очутился в зале, где была рулетка.
За длинным зеленым столом, около которого теснились игроки, собрались люди, объединенные одной целою, хотя выглядели они все совершенно по-разному.
Тут были молодые, тут были старики, тут были люди, протершие себе локти за этим самым столом. Среди этих людей были такие, которые потеряли отца вчера, сегодня утром или даже сегодня вечером, а мысли их целиком были поглощены шариком, прыгавшим по колесу. У игрока остается в живых только одно чувство – желание выиграть, и чувство это питается и растет за счет всех остальных. Господин де Бассомпьер, к которому, едва он вышел танцевать с Марией Медичи, подошли и сказали: «Ваша матушка скончалась» – а он ответил: «Моя матушка скончается лишь после того, как я кончу танцевать», – был почтительнейшим сыном по сравнению с игроком. Если что-нибудь подобное скажут игроку во время игры, он не ответит даже так, как ответил маркиз: во-первых, это значило бы потерять время, а во-вторых, игрок во время игры лишается не только сердца, но и разума.
Когда он не играет, он все равно думает об игре.
Игрок обладает всеми добродетелями этого порока. Он воздержан, он терпелив, он неутомим. Если бы игрок в один прекрасный день сумел употребить всю ту невероятную энергию, какую он расходует на игру, на благородную страсть, на высокое чувство, он мгновенно стал бы одним из самых великих людей в мире. Ни Цезарь, ни Ганнибал, ни Наполеон даже в пору совершения самых великих своих деяний не могли помериться силами с самым захудалым игроком. Честолюбие, любовь, чувства, сердце, рассудок, слух, обоняние, осязание – короче говоря, все движущие силы, таящиеся в человеке, объединяются одним словом и одной целью: «игра». И не думайте, что игрок играет ради выигрыша; правда, начинает он именно ради этого, но кончает тем, что играет ради игры, ради того, чтобы видеть карты, ради того, чтобы трогать золото, ради того, чтобы испытывать необычное волнение. Это волнение нельзя сравнить ни с какими другими страстями, от этого волнения перед лицом выигрыша или же проигрыша – этих двух полюсов, между которыми игрок носится с быстротой ветра (один из них жжет, как огонь, а другой замораживает, как лед), – от этого волнения его сердце готово вырваться из груди под ударами мечты или же действительности, как лошадь под ударами шпор, вобрать в себя, подобно губке, все душевные силы, сдерживать их, экономить и после сделанного хода передохнуть, с тем чтобы потом вновь напрягать их.
Страсть к игре – самая сильная из всех страстей, она никогда не наскучит. Это любовница, обещающая все и не дающая ничего. Она убивает, но не утомляет.
Страсть к игре – это мужская истерия.
Для игрока погибает все – семья, друзья, родина. Круг его интересов – это карты и шарик. Его родина – это стул, на котором он сидит, это зеленое сукно, на котором лежат его руки. Если бы его, как святого Лаврентия, приговорили к сожжению на раскаленной решетке, но при этом позволили бы играть, – держу пари, он и не почувствовал бы, что пламя жжет его, и даже не пошевельнулся бы.
Игрок молчалив. Слова ему не нужны. Он играет, он выигрывает, он проигрывает; это уже не человек – это машина. О чем же ему разговаривать?
И шум, стоявший в залах, поднимали вовсе не игроки, а крупье – это они собирали золото и гнусаво кричали:
– Делайте ваши ставки!
В эту минуту Гофман был уже не просто наблюдателем, страсть овладела им целиком, а иначе он мог бы набросать здесь несколько небезынтересных этюдов.
Он быстро проскользнул в толпу игроков и подошел к краю игорного стола. По одну сторону от него стоял человек в карманьоле, по другую – сидел старик с карандашом в руках и что-то подсчитывал на листке бумаги.
Этот старик, потративший всю жизнь на поиски мартингала, тратил теперь свои последние дни на то, чтобы все же попытать счастья, и свои последние деньги – на то, чтобы видеть, как рушатся его надежды. Мартингал так же неуловим, как и душа.
Между стоявшими и сидевшими мужчинами виднелись женщины: опираясь на плечи мужчин, они рылись в их золоте и с беспримерной ловкостью умудрялись, не принимая участия в игре, зарабатывать как на выигрыше одних, так и на проигрыше других.
При виде стаканчиков, полных золота, и уложенных пирамидками монет весьма трудно было бы поверить в то, что народ так страшно бедствует и что золото стоит так дорого.
Человек в карманьоле поставил на какой-то номер пачку бумажек.
– Пятьдесят ливров, – объявил он свою ставку.
– Что это такое? – спросил крупье, подгребая лопаточкой бумажки и беря их кончиками пальцев.
– Это ассигнаты, – ответил человек.
– А других денег у вас нет? – спросил крупье.
– Нет, гражданин.
– В таком случае извольте уступить место кому-нибудь другому.
– Это почему же?
– Потому что таких денег мы не берем.
– Это деньги, выпущенные государством!
– Если они могут пригодиться государству, тем лучше для него. А нам таких не надо.
– Ну хорошо, – сказал человек, забирая ассигнаты, – значит, и в самом деле это никуда не годные деньги, если их даже проиграть нельзя.
И, скомкав ассигнаты в руке, удалился.
– Делайте ваши ставки! – кричал крупье.
Мы уже знаем, что Гофман был игроком, но на сей раз он пришел сюда ради денег, а не ради игры.
От сжигавшей его лихорадки душа его бурлила в теле, как вода в котле.
– Сто талеров на двадцать шесть! – крикнул он. Крупье осмотрел немецкие деньги так же, как перед тем осмотрел ассигнаты.
– Подите обменяйте, – сказал он Гофману, – мы принимаем только французские деньги.
Гофман как сумасшедший побежал вниз, заскочил к меняле – как нарочно, тот тоже оказался немцем – и обменял свои триста талеров на золото, то есть приблизительно на сорок луидоров.
За это время рулетка вертелась уже три раза.
– Пятнадцать луидоров на двадцать шесть! – закричал он, подбегая к столу; с беспримерным суеверием игроков он повторял тот номер, который случайно уже назвал – назвал только потому, что на него хотел поставить человек с ассигнатами.
– Ставки больше не принимаются! – крикнул крупье. Шарик покатился. Сосед Гофмана сгреб две пригоршни золота, бросил их в шляпу и зажал ее между колен, а крупье подгреб к себе лопаточкой пятнадцать луидоров Гофмана и деньги многих других.
Вышел номер шестнадцать.
Гофман почувствовал, что лоб его, словно стальной сетью, покрывается холодным потом.
– Пятнадцать луидоров на двадцать шесть! – повторил он.
Другие голоса назвали другие номера, и шарик покатился снова.
На сей раз все досталось банку. Шарик упал на зеро.
– Десять луидоров на двадцать шесть! – сдавленным голосом произнес Гофман, но тут же спохватился: – Нет, только девять.
Он схватил одну золотую монету, чтобы оставить себе последний ход и последнюю надежду.
Вышел номер тридцать.
Золото отхлынуло с игорного стола, подобно бурной волне во время отлива.
Сердце у Гофмана сильно билось, в голове шумело, он видел перед собой насмешливую физиономию Арсены и печальное лицо Антонии; дрожащей рукой поставил на двадцать шесть свой последний луидор.
Все кончилось в одну минуту.
– Ставки больше не принимаются! – крикнул крупье. Гофман горящими глазами, словно перед ним пролетала его судьба, следил за шариком, что летел по колесу.
Внезапно он откинулся и закрыл лицо руками.
Он не только проиграл; у него не оставалось больше ни одного денье ни с собой, ни дома.
Одна из женщин, присутствовавшая при этом, – за минуту перед тем всякий мог бы получить ее за двадцать франков – с диким воплем радости сгребла горсть только что выигранного ею золота.
Гофман отдал бы десять лет жизни за один из луидоров этой женщины.
И чтобы не осталось никаких сомнений, он быстрыми, как мысль, движениями обыскал и обшарил свои карманы.
Карманы были пусты, но на груди он нащупал что-то круглое, похожее на экю, и схватил этот предмет.
То был медальон Антонии: он забыл о нем.
– Я спасен! – воскликнул Гофман и поставил на номер 26 золотой медальон.
XVI. МЕДАЛЬОН
Крупье взял золотой медальон и осмотрел его.
– Сударь, – сказал он Гофману (надо заметить, что в номере 113 еще обращались друг к другу со словами «сударь»), – сударь, продайте эту вещь, если угодно, и играйте на деньги, но повторяю: мы берем только золотые или серебряные монеты.
Гофман схватил медальон и, не сказав ни слова, выбежал из игорного зала.
Пока он спускался по лестнице, в душе у него роились какие-то мысли, решения, предчувствия; казалось, его кто-то предостерегал, но он был глух ко всем этим неясным призывам и влетел к соотечественнику, только что обменявшему ему талеры на луидоры.
Почтенный человек, в очках, съехавших на самый кончик носа, читал, небрежно развалившись в широком кожаном кресле; его освещали исходящие от низкой лампы тусклые лучи, с которыми сливался желтый блеск золотых монет, лежавших в медных чашках; за спиной у него была тонкая железная проволочная сетка с зелеными шелковыми занавесками, с маленькой дверцей на высоте стола: в эту дверцу можно было просунуть только руку.
Никогда еще золото не приводило Гофмана в такое восхищение.
Он радостно раскрыл глаза, словно попал в комнату, залитую солнцем, а ведь только что, за игорным столом, он видел гораздо больше золота, но, если уж рассуждать философски, то было совсем иное золото. Между звенящим, мелькающим, движущимся золотом номера 113 и спокойным, серьезным, молчаливым золотом менялы была такая же разница, как между пустым, безмозглым болтуном и погруженным в свои думы мыслителем. С помощью золота, выигранного в рулетку или в карты, невозможно делать добро: не золото принадлежит тому, кто им обладает, а тот, кто им обладает, принадлежит золоту. Черпаемое из мутного источника, оно должно служить грязным целям. Оно живет, но живет дурной жизнью и уходит столь же поспешно, сколь пришло. Оно вовлекает только в грех и не делает добра, а если и делает, то невольно; оно нашептывает желания, что стоят в четыре, в двадцать раз больше, чем это золото может оплатить, и, завладев им, человек вскоре убеждается, что ценность его невелика; короче говоря, деньги, которые выиграли или проиграли в игорном доме, деньги, о которых еще только мечтают, или деньги, которые подгребают к себе, – всегда имеют лишь относительную ценность. То целая горсть золота ничего не стоит, то от одной-единственной монеты зависит жизнь человека; а вот золото, имеющее обращение в торговле, золото менялы – то золото, за которым пришел Гофман к своему соотечественнику, – действительно имеет цену, обозначенную на нем; оно выйдет из своего медного гнезда только ради чего-то равноценного, а может быть, и превосходящего его цену; оно не переходит из рук в руки, подобно куртизанке, – без стыда, без любви, даже без симпатии; нет, оно себя уважает; выйдя из рук менялы, оно может испортиться, попасть в дурное общество – быть может, так и случилось до того, как оно попало к меняле, – но пока оно здесь, оно пользуется уважением и требует почтения к себе. Это символ необходимости, а не прихоти. Его не выигрывают – его приобретают; рука крупье не швыряет его, как простой жетон, – оно медленно, методически, монета за монетой, пересчитывается менялой со всем уважением, коего оно заслуживает. Оно молчаливо, но его молчание весьма красноречиво; в мыслях Гофмана все эти сравнения промелькнули в одну секунду, и он задрожал, опасаясь, что меняла не пожелает дать ему золота под залог медальона. Он заставил себя, невзирая на лишнюю трату времени, пуститься в долгий, пространный разговор, лишь бы добиться своей цели, тем более что он предлагал меняле не деловую сделку, а обращался к нему с просьбой.
– Сударь, – сказал он, – это я только что приходил к вам менять талеры на золото.
– Да, я узнал вас, сударь, – отвечал меняла.
– Вы немец, сударь?
– Я из Гейдельберга.
– А ведь я там учился! Что за прелестный город!
– Ваша правда.
Кровь у Гофмана бурлила. Ему казалось, что каждая минута, потраченная на такой банальный разговор, – это потерянный год жизни.
Тем не менее он с улыбкой продолжал:
– Я подумал, что, будучи моим соотечественником, вы соблаговолите оказать мне услугу.
– Какую? – спросил меняла, и лицо его омрачилось при этих словах: меняла дает взаймы так же неохотно, как муравей.
– Ссудить мне три луидора под залог золотого медальона.
С этими словами Гофман протянул медальон коммерсанту; тот положил его на весы и взвесил.
– Может быть, вы предпочтете продать его? – спросил меняла.
– О нет! – воскликнул Гофман. – Нет, довольно и того, что я отдаю его в залог; больше того, – я прошу вас, сударь: соблаговолите оказать мне услугу и храните этот медальон чрезвычайно бережно, – он для меня дороже жизни; завтра же я выкуплю его; чтобы его заложить, надо попасть в такие обстоятельства, в какие попал я.
– В таком случае я дам вам под залог три луидора, сударь.
И меняла со всей серьезностью, коей требовала такого рода операция, достал три луидора и один за другим выложил их перед Гофманом.
– О, я вам бесконечно благодарен, сударь! – воскликнул поэт и, схватив три золотые монеты, исчез.
Меняла положил медальон в уголок своего ящика и опять углубился в чтение.
Не ему ведь пришла в голову мысль рискнуть своим золотом в номере 113.
Игрок настолько близок к святотатству, что Гофман, поставив на номер 26 одну монету, – он не желал рисковать всеми тремя, – произнес имя Антонии.
Когда колесо завертелось, Гофман был спокоен: какой-то внутренний голос говорил ему, что он выиграет.
Вышел номер 26.
Сияющий Гофман сгреб тридцать шесть луидоров.
Прежде всего он спрятал в кармашек для часов три луидора; он хотел быть уверен, что сможет выкупить медальон своей невесты, он произнес ее имя, и ее имени явно был обязан своим первым выигрышем. Тридцать три луидора он поставил на тот же номер, и этот номер вышел. Это составляло выигрыш в тридцать три луидора, помноженные на тридцать шесть, то есть тысячу сто восемьдесят восемь луидоров, то есть больше двадцати пяти тысяч франков.
Черпая пригоршнями золото из этого неиссякаемого Пактола, Гофман в каком-то ослеплении ставил наудачу без конца. После каждой ставки груда выигранного им золота все увеличивалась, напоминая гору, внезапно вырастающую над водой.
Золото было у него в карманах, в сюртуке, в жилете, в шляпе, в руках, на столе – всюду. Золото текло к нему из рук крупье, словно кровь, хлынувшая из глубокой раны. Он становился Юпитером для всех Данай, которые здесь были, и кассиром всех незадачливых игроков.
Тысяч двадцать франков он таким образом потерял.
Наконец, решив, что им выиграно достаточно, он сгреб лежавшее перед ним золото и, оставив всех присутствующих во власти восхищения и зависти, помчался к дому Арсены.
Был час ночи, но это его не смущало.
Ему казалось, что с такими деньгами он может прийти в любое время дня и ночи – и всегда будет желанным гостем.
Он наслаждался, думая о том, как он осыплет золотом тело Арсены – тело, что обнажилось в его присутствии, что осталось к его любви холодным, как мрамор, и что оживет перед его богатством, подобно статуе Прометея, обретшего свою настоящую душу.
Он хотел войти к Арсене, опустошить свои карманы до последней монеты и сказать ей: «Теперь люби меня». А на следующее утро он уедет и, если это возможно, избавится от воспоминаний об этом лихорадочном, изнуряющем сне.
Он постучал в дверь к Арсене, как хозяин дома, вернувшийся к себе.
Дверь отворилась.
Гофман бросился к лестнице.
– Кто там? – послышался голос привратника. Гофман не отвечал.
– Куда вы, гражданин? – спросил тот же голос, и тень, неясная, как все ночные тени, появилась на пороге и бросилась вдогонку за Гофманом.
В те времена людям страшно хотелось знать, кто вышел, а особенно – кто вошел.
– Я иду к мадемуазель Арсене, – отвечал Гофман, бросая привратнику три-четыре луидора (час тому назад он продал бы за них душу).
Такая манера объясняться больше пришлась по вкусу служащему.
– Мадемуазель Арсены здесь больше нет, сударь, – отвечал он, с полным основанием полагая, что слово «гражданин» надо заменить словом «сударь», коль скоро ты имеешь дело с человеком со столь щедрой рукой. Человек, который обращается с вопросом, может сказать «гражданин», но человек, которому что-то дают, может сказать только «сударь».
– Как! – воскликнул Гофман. – Арсены здесь больше нет?
– Нет, сударь.
– Вы хотите сказать, что она не вернулась сегодня вечером?
– Я хочу сказать, что она вообще сюда не вернется.
– Так где же она?
– Понятия не имею.
– Боже мой! Боже мой! – простонал Гофман, обеими руками схватившись за голову, словно для того, чтобы удержать рассудок, готовый его покинуть. Все, что произошло с ним за последнее время, было настолько необычным, что каждую секунду он говорил себе: «Ну вот, сейчас я сойду с ума!»
– Так вы не знаете новость? – спросил привратник.
– Какую новость?
– Арестовали господина Дантона.
– Когда?
– Вчера. Так велел господин Робеспьер. Великий человек этот гражданин Робеспьер!
– Так что же?
– Да то, что мадемуазель Арсене пришлось спасаться бегством: ведь она любовница Дантона, а это бросает тень и на нее.
– Вы правы. Но как же она спаслась?
– Да так, как спасаются люди, которые боятся, что им отрубят голову: тут уж все средства хороши.
– Спасибо, друг мой, спасибо, – сказал Гофман и скрылся, оставив еще несколько монет в руках привратника.
Очутившись на улице, Гофман спросил себя, что он должен делать и зачем ему теперь все его золото; как нетрудно догадаться, ему и в голову не приходило, что он сможет разыскать Арсену, так же как не приходило ему в голову вернуться домой и отдохнуть.
И вот он пошел прямо, никуда не сворачивая; стук его каблуков раздавался по темным улицам, а он все шел и шел, подгоняемый своими мучительными мыслями.
Ночь была холодная, оголенные деревья, похожие на скелеты, дрожали под ночным ветром, как больные, что в бреду встали с постели, а их исхудавшие руки и ноги трясутся от лихорадки.
Снег хлестал по лицам ночных прохожих, и редко-редко освещенное окно – массы домов сливались с темным небом – загораживала чья-нибудь тень.
Холодный воздух подействовал на Гофмана благотворно. Душа его мало-помалу успокоилась во время быстрого бега, и возбуждение, если можно так выразиться, испарилось. В помещении он задохнулся бы; к тому же – как знать? – быть может, если он будет идти вперед, он встретит Арсену: ведь спасая бегством, она могла выбрать ту же дорогу, какую выбрал он, когда выходил от нее.
И вот он прошел пустынный бульвар, пересек Королевскую улицу, словно не глаза его – они ничего не видели, – а ноги узнали то место, где он оказался; поднял голову и остановился, заметив, что идет прямо к площади Революции – к той самой площади, по которой он поклялся никогда больше не проходить.
Небо было совсем темное, но еще более темный силуэт выделялся на горизонте, черном как чернила. То был силуэт чудовищной машины; ночной ветер высушил ее влажную от крови пасть, и теперь она спала в ожидании одной из тех верениц, что приходили к ней ежедневно.
Гофман не хотел снова увидеть это место при свете дня, он не хотел опять очутиться на этом месте, ибо там текла кровь; однако ночью все было совсем по-другому, и поэту, в котором независимо от его воли никогда не дремлет поэтическое чутье, было любопытно увидеть гильотину в тишине и во мраке, дотронуться пальцем до зловещего сооружения, кровавый облик которого в этот час должен был благотворно подействовать на его рассудок.
Какой великолепный контраст: после шумного игорного зала – эта пустынная площадь с эшафотом, ее вечным хозяином; после зрелища смерти – запустение и затишье!
Итак, Гофман шел к гильотине, словно притягиваемый магнитом.
Вдруг, почти не понимая, как это произошло, он очутился прямо перед ней.
Ветер свистел на эшафоте.
Скрестив руки на груди, Гофман глядел на него.
Сколько мыслей должно было родиться в мозгу у этого человека, чьи карманы были набиты золотом: он мечтал о ночи наслаждений, а в эту ночь одиноко стоял у подножия эшафота!
Его размышления были прерваны: внезапно ему почудилось, что к стонам ветра примешивается стон человека.
Он наклонился и прислушался.
Стон послышался снова: он доносился не издали, а откуда-то снизу.
Гофман огляделся, но никого не увидел.
Всхлипывание достигло его слуха в третий раз.
– Похоже, что это женский голос, – прошептал он, – и доносится он из-под эшафота.
Наклонившись, чтобы лучше видеть, он начал обходить гильотину. Когда он проходил мимо чудовищной лестницы, нога его за что-то задела; он протянул руки и коснулся какого-то существа, скорчившегося на первых ступеньках этой лестницы и одетого во все черное.
– Кто вы? – спросил Гофман. – Кто спит ночью рядом с эшафотом? Произнеся эти слова, он опустился на колени, чтобы увидеть лицо той, кому он задал этот вопрос.
Но она не двигалась; локти она поставила на колени, а голову положила на руки.
Несмотря на ночной холод, плечи ее были почти совсем обнажены, и Гофман смог разглядеть черную полоску, вокруг ее белой шеи.
Это была черная бархатка.
– Арсена! – вскричал он.
– Да, это я! – каким-то странным голосом прошептала скорчившаяся женщина, подняв голову и взглянув на Гофмана.