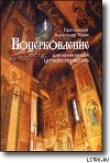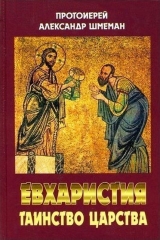
Текст книги "Евхаристия. Таинство Царства"
Автор книги: Александр Протоиерей (Шмеман)
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
IV
За великой ектеньей следуют три антифона и три молитвы, надписанные в служебнике как «молитва первого антифона», второго и т. д Об антифонах, их возникновении и включении в чин Литургии мы уже говорили, и поскольку они, очевидно, относятся к изменчивой части службы, толковать их сейчас не будем. О трех молитвах, однако, которыми предстоятель как бы «возносит» эти песни хвалы и благодарения Богу, следует сказать несколько слов.
Всем известно, что в современной практике, о происхождении которой нам еще придется говорить особо, чтение почти всех молитв, возносимых предстоятелем, стало тайным, «про себя», так что собрание слышит только завершительное славословие, обычно в виде придаточного предложения – «яко Ты еси…», – называемого возгласом. Практика это сравнительно поздняя. Попервоначалу все молитвы Литургии читались вслух, ибо – в своем прямом смысле и по своему содержанию суть молитвы всего собрания или, лучше сказать, самой Церкви. Но, утвердившись в богослужении, практика эта привела к умножению так называемых малых ектений, состоящих из первого и двух последних прошений великой ектеньи. И теперь эти малые ектеньи возглашаются дьяконом, пока предстоятель читает молитвы тайно. Когда же служба совершается без дьякона, то священник должен и произнести ектенью, и прочитать молитву. А это привело к тому, что молитву стали читать во время пения антифона. Таким образом, практика эта, помимо того, что она привела к частому и монотонному повторению малой ектеньи, нарушила единство «собрания Церкви», отделила его как раз от тех «общих и согласных молитв», в которых единство это выражается.
В «молитве первого антифона» предстоятель исповедует веру Церкви в то, что держава Божия несказанна, что слава Его безмерна, милость непостижима и человеколюбие неизреченно. Все эти слова, в греческом тексте молитвы начинающиеся с отрицательной частицы (так называемой alpha privativum), выражают христианский опыт абсолютной трансцендентности Бога – несоизмеримости его с нашими словами, понятиями и определениями, апофатической основы христианской веры, христианского знания Бога. Неизреченность эту всегда с особой силой ощущали святые.
Но Бог сам захотел явить Себя, и, одновременно с исповеданием Его неизреченности, Церковь просит Его «призреть на этот храм и на это собрание». И Бог не только явил себя людям, но и соединил их с Собою, сделал их Своими. Эту принадлежность Церкви Богу и исповедует «молитва второго антифона» – «спаси людей Твоих, благослови достояние Твое, сохрани полноту Твоей Церкви, освяти любящих благолепие Твоего дома» – ибо в Церкви явлена Его держава, царство, сила и слава…
И, наконец, по свидетельству «молитвы третьего антифона», этому новому, соединенному с Богом человечеству даровано знание Истины в этом веке, и Истина дарует жизнь вечную – «подая нам и в настоящем веке познание Твоея Истины, и в будущем живот вечный даруя…».
V
Впервые выражение малый вход (в отличие от великого входа в начале Литургии верных) мы встречаем в рукописях XIV века. Это время окончательного закрепления евхаристического чина в его теперешнем виде. Мы знаем уже, что в течение долгого времени вход этот был началом Литургии, ее первым священнодействием. Но когда он это свое значение утратил и первой частью службы стало последование «антифонов» (или «изобразительных»), главное ударение – в восприятии его – перенесено было в нем на вынос Евангелия. В современной практике вход этот есть, прежде всего, вход с Евангелием, то есть торжественное вынесение его из алтаря и внесение его обратно в алтарь царскими вратами. В некоторых рукописях он даже и называется «входом Евангелия». И именно это, как уже сказано выше, послужило отправной точкой в развитии того «изобразительного символизма», который, в применении к малому входу, толкует его как «изображение» выхода Христа на проповедь Евангелия. О подлинном значении этого выноса Евангелия мы будем говорить в следующей главе, посвященной Литургии как Таинству Слова. В пределах же этой главы для нас важно подчеркнуть лишь то, что наш теперешний «малый вход» очевидно восходит к двум различным священнодействиям, соединяет в себе две темы: тему входа как такового и обряды, связанные с чтением Слова Божия. Настоящую главу уместно заключить кратким разбором первой из них.
Подчеркнем еще раз, что, несмотря на все свое усложнение, «малый вход» сохранил характер именно входа, начала, приближения. Об этом свидетельствуют, во-первых, уже неоднократно отмеченные особенности архиерейского чина Литургии, а, во-вторых, молитва входа, которая, как тоже было уже указано, читалась когда-то при входе предстоятеля и народа в храм и которая и сейчас еще – в чине освящения нового храма – читается у внешних врат его, а не перед царскими вратами иконостаса. В этой молитве нет ни малейшего упоминания какой бы то ни было «изобразительности», но есть зато указание на небесный характер входа: «сослужение» в нем небесных сил и воинств, т. е. ангелов.
Новым элементом, возникшим из развития византийского храма и усложнившим идею входа, было перенесение понятия святилища со всего храма на алтарь, то есть на ту часть храма, что окружает престол и отделена от церкви – иконостасом. Под влиянием «мистериального» богословия, о котором я писал в моем «Введении в Литургическое Богословие» и в центре которого стоит противопоставление «посвященных» – «непосвященным», и это значит духовенства – мiрянам, внутри храма возникло внутреннее святилище: алтарь, доступ в который открыт только «посвященным». Вот в этот алтарь и стали совершаться все «входы», что, конечно, ослабило восприятие и опыт самого «собрания в Церковь», как входа и восхождения Церкви, народа Божьего, в небесное святилище, ибо «Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие» (Евр. 9:24).
VI
Типично «византийское» усложнение это, однако, не затронуло главного: а именно – того, что сущность входа состоит в приближении к престолу, который изначала был средоточием храма, его святыней. Само слово «алтарь» относится прежде всего к престолу и только постепенно стало применяться к пространству, окружающему его и отделенному от храма иконостасом. Более подробно на значении престола мы остановимся, когда будем говорить о приношении Св. Даров. Сейчас достаточно сказать, что, по согласному свидетельству всего предания, престол есть символ Христа и Царства Христова. Он есть трапеза, за которой собирает нас Христос, и он есть жертвенник, соединяющий Первосвященника и Жертву. Он есть престол Царя и Господа. Он есть – Небо, то Царство, в котором «Бог есть всяческая во всем». И именно из этого опыта престола, как средоточия евхаристического таинства Царства, развилась вся «мистика» алтаря, как Неба, как эсхатологического полюса Литургии, как того таинственного присутствия, которое весь храм претворяет в «небо на земле». И поэтому вход, будучи приближением к престолу, есть всегда восхождение. В нем Церковь восходит туда, где подлинная «жизнь ее скрыта во Христе с Богом», восходит на небо, где и совершается Евхаристия…
Всё это важно помнить потому, что под влиянием западного понимания Евхаристии мы обычно воспринимаем Литургию в ключе не восхождения, а нисхождения. Вся западная евхаристическая мистика насквозь проникнута образом Христа, спускающегося на наши алтари. Между тем, изначальный евхаристический опыт, засвидетельствованный самим чином Евхаристии, говорит о нашем восхождении туда, куда вознесся Христос, о небесной природе евхаристического священнодействия.
Евхаристия есть всегда выход из «мiра сего» и восхождение на небо, и символом реальности этого восхождения, самой его «возможности», является престол. Ибо Христос вознесся на небо, и престол Его – «пренебесный и мысленный». В «мiре сем» нет и не может быть престола, ибо Царство Божие – «не от мiра сего». И потому так важно понять, что мы относимся благоговейно к престолу – целованием, поклонами и т. д – не потому, что он «освящен» и стал, так сказать, «вещественной святыней», а потому что само освящение его состоит в отнесении его к реальности Царства, в претворении его в символ Царства. Наше благоговение и поклонение никогда не относятся к «материи», а всегда к тому, эпифанией, то есть явлением и присутствием, чего она является. Всякое освящение в Церкви не есть создание «священных предметов», своей священностью противоположных «профанным», то есть неосвященным, а отнесение их к их изначальному, а вместе с тем, и конечному смыслу, к Божьему замыслу о них. Ибо весь мiр был создан как «престол Божий», как храм, как символ Царства. Он весь по замыслу священен, а не «профанен», и сущность его – в Божественном «добро зело»… И грех человека в том и состоит, что он затмил это, «добро зело» в самом себе и тем оторвал мир от Бога, сделал его «самоцелью», а потому – и распадом, и, смертью…
Но Бог спас мiр. Спас тем, что снова явил в нем его цель: Царство Божие; его жизнь – быть путем к этому Царству; его смысл – быть в общении с Богом, и в Нем со всем творением… И поэтому, в отличие от языческих «освящений», состоящих в сакрализации отдельных частей и предметов мiра, христианское освящение состоит в возвращении всему в мiре его символической природы, его «таинственности», в отнесении всего – к последней цели бытия… Все наше богослужение поэтому есть восхождение к Престолу и возвращение обратно в «мiр сей» для свидетельства о том, чего «не слышало ухо, не видел глаз и не приходило на сердце человеку, но что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9).
VII
Этот эсхатологический смысл входа, как приближение к престолу и восхождение в Царство, лучше всего выражен в молитве и пении Трисвятого, которым вход завершается. Вступив в алтарь и став перед престолом, предстоятель возносит «молитву Трисвятого» о том, чтобы Бог
сподобивший нас, смиренных и недостойных,
в час сей стать перед славой святого Его жертвенника
и должное ему поклонение и славословие принести,
принял от нас Трисвятую песнь
и посетил нас
и простил нам всякое согрешение
и освятил наши души и телеса…
Молитва эта начинается с обращения Боже Святый, с исповедания святости Божией и с моления о нашем освящении, то есть приобщении к этой святости. Но что означает, что выражает это имя Божие – Святой, составляющее, по словам пророка Исайи, вечное содержание ангельского славословия, в котором мы в «час сей» готовимся принять участие? Никакое дискурсивное мышление, никакая логика не способны нам объяснить его, а между тем именно это ощущение святости Божией, это чувство святого есть основа и источник религии. И вот, достигнув этого момента, мы, может быть, сильнее всего сознаем, что богослужение, не объясняя нам, что есть святость Божия, являет нам ее, и что в этом явлении – извечная сущность культа, тех основных и древних, как само человечество, обрядов: благословения, воздевания рук, поклонения – смысл которых почти не выделим из породившего их жеста. Ибо культ и родился из потребности, из жажды человека приобщиться святому, которое он ощутил прежде, чем смог «мыслить» о нем.
«Как будто только богослужение, – пишет L. Bouyer, – знает весь смысл этого непроницаемого для разума понятия, оно одно во всяком случае способно передать и научить ему… Этот религиозный трепет, это внутреннее головокружение перед Чистым, перед Недосягаемым, перед совершенно Иным, и вместе с тем это ощущение невидимого присутствия, притяжение такой бесконечной любви, и притом любви столь личной, что, испытав ее, мы уже больше не знаем, что еще мы называем любовью, – только богослужение может передать опыт всего этого, единый и непередаваемый… В богослужении он как будто льется отовсюду – из слов, из жестов, от светильников, от благоухания, наполняющего храм, как в видении Исайи, из того, что за всем этим, что не есть ничто из всего этого, но что всем этим целостно передается, подобно тому, как прекрасное выражение лица мгновенно раскрывает нам всю душу, хотя мы и не знаем как…».
И вот мы вошли и стоим теперь перед Святым. Мы освящены его присутствием, мы озарены его светом. И это трепетное и сладостное чувство присутствия Божия, радость и мир, равных которым нет на земле, все это выражено в трикратном медленном пении Трисвятого – «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный…», небесной песни, поемой на земле и свидетельствующей о совершившемся примирении земли и неба, о том, что Бог явил Себя людям и что нам дано «иметь участие в святости Его» (Евр. 12:10).
И под это пение предстоятель восходит еще выше, в самую глубину храма, на горний престол, во Святое Святых. И в этом ритме восхождения – из «мiра сего» к вратам храма, от врат храма – к престолу, от престола – на горнее место, свидетельствует о совершившемся соединении, о высоте, на которую вознес нас Сын Божий. И, взойдя на нее, предстоятель – оттуда, но повернувшись лицом к собранию, один из собранных, но и образ Господа, облеченный Его властью и силой, ниспошлет нам мир для слышания Слова Божия. За таинством входа следует таинство Слова.
Глава 4. ТАИНСТВО СЛОВА
Воссияй в сердцах наших, человеколюбче Владыко, Твоего богоразумия нетленный свет, и мысленныя наши отверзи очи во евангельских Твоих проповеданий разумение: вложи в нас и страх блаженных Твоих заповедей, да плотския похоти вся поправше, духовное жительство пройдем, вся, яже ко благоугождению Твоему, и мудрствующе и деюще…
(Литургия. Молитва прежде Евангелия)
I
Чтение св. Писания, по единогласному свидетельству ранних памятников, составляло с самого начала неотъемлемую часть «собрания в Церковь» и, в частности, собрания евхаристического. В одном из первых дошедших до нас описаний Евхаристии мы читаем: «В так называемый день солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам и селам, и читаются, сколько позволит время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем все мы встаем и воссылаем молитвы. Когда же окончим молитвы… приносятся хлеб, и вино, и вода…». Здесь связь между чтением Писания и проповедью с одной стороны, приношением евхаристических даров с другой – очевидна. О ней же свидетельствует и современный чин Евхаристии, в котором неразрывно связаны между собою литургия оглашенных, посвященная преимущественно Слову Божию, и литургия верных, состоящая в приношении, освящении и раздаянии Св. Даров.
Между тем, это единогласное свидетельство фактически игнорируется в наших официальных учебниках, в богословских объяснениях и определениях Евхаристии. В жизни и практике Церкви Евхаристия состоит из двух, неразрывно связанных между собою, частей. В богословской же мысли она сведена только к одной – второй – части, то есть к тому, что совершается над хлебом и вином, причем так, как если бы эта вторая часть была самодовлеюща и духовно, богословски не связана с первой.
Эта редукция объясняется, конечно, влиянием на наше школьное богословие западных идей, в которых Слово и Таинство давно уже «оторвались» одно от другого и стали предметом самостоятельного изучения и определения. Разрыв этот составляет, однако, один из главных недостатков западного учения о таинствах. Усвоенный de facto нашими школьными системами, он рано или поздно приводит к неправильному, одностороннему и искаженному пониманию как Слова, то есть Св. Писания и его места в жизни Церкви, так и Таинства. Я осмеливаюсь утверждать, что постепенное «разложение» Писания, растворение его во все более специальной и отрицательной критике, является результатом отрыва его от Евхаристии, то есть фактически от самой Церкви, как опыта и духовной реальности. И этот же отрыв, в свою очередь, лишает Таинство его евангельского содержания, превращая его в самостоятельное и самодовлеющее «средство освящения». Писание и Церковь низведены здесь в категорию двух формальных авторитетов, «источников веры», как называются они в школьных трактатах, причем речь идет только о том, какой авторитет выше: кто «толкует» кого… На деле подход этот, в силу собственной своей логики, требует дальнейшего сужения, дальнейшей редукции. Так, если верховным вероучительным авторитетом в Церкви провозглашается Св. Писание, то в чем критерий Писания? Им рано или поздно становится «библейская наука», то есть в конечном итоге – голый разум. Если же наоборот, конечной высшей и духоносной толковательницей Писания провозглашается Церковь – то кем, где и как толкование это осуществляется? И как бы мы на этот вопрос ни ответили, «орган» и «авторитет» этот фактически оказывается стоящим над Писанием, авторитетом внешним. Если в первом случае смысл Писания растворяется в многообразии частных, но потому и лишенных церковного авторитета, «научных теорий», то во втором случае Писание рассматривается как «сырье» для богословских определений и формулировок, как «библейский материал», имеющий быть «истолкованным» богословским разумом. И не следует думать, что положение это характерно только для Запада. То же самое, хотя возможно и по-другому, происходит и в Православной Церкви. Ибо, если православные богословы твердо держатся формального принципа, согласно которому авторитетное толкование Писания принадлежит Церкви и совершается в свете Предания, то жизненное содержание и практическое применение этого принципа остаются неясными, и на деле приводят к некоему параличу «разумения Писания» в жизни Церкви. Наша библейская наука, поскольку она вообще существует, находится всецело во власти западных предпосылок и испуганно повторяет западные зады, (держась по возможности «умеренных», то есть на деле предпоследних западных теорий). Что же касается церковной проповеди и благочестия, то они давно уже перестали питаться Писанием как своим настоящим источником…
Столь же пагубные последствия имеет этот разрыв между Словом и Таинством и в учении о таинствах. В нем Таинство перестает быть библейским, евангельским, в глубочайшем смысле этого слова. Не случайно, конечно, западное богословие сосредоточило свой интерес к Таинствам не на их сущности и содержании, а на условиях и «модусе» их совершения и «действенности». Так, истолкование Евхаристии сводится к вопросу о способе и моменте преложения даров, превращении их в Тело и Кровь Христовы, но почти ничего не говорит о смысле для Церкви, для мiра, для каждого из нас – этого преложения. Как это ни звучит парадоксально – но интерес к реальному присутствию Тела и Крови Христовых заменяет собою интерес ко Христу. Причастие воспринимается как один из способов «получения благодати», как акт личного освящения, но перестает восприниматься как наше участие в Чаше Христовой: «Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь?» (Матф. 20:2). Оторвавшись от Слова, которое всегда – Слово о Христе («исследуйте Писания, они свидетельствуют обо Мне» Ин. 5:39), таинства в каком-то смысле отрываются от Христа. Он остается, конечно, и в богословии и в благочестии их установителем, но перестает быть их содержанием, даром Церкви и верующим прежде всего Его Самого и Его богочеловеческой жизни… Так, таинство покаяния переживается не как «примирение и воссоединение с Церковью во Христе Иисусе», а как власть «отпускать» грехи; так, таинство брака «забыло» свою основу в «великой тайне Христа и Церкви», и т. д..
Но в предании Церкви, литургическом, духовном, именно в неразрывной связи Слова и Таинства исполняется сущность Церкви как воплощения Слова, как исполняющегося во времени и пространстве Боговоплощения, так что про саму Церковь сказано в Книге Деяний – «и Слово росло…» (12:24). В Таинстве мы причащаемся Тому, Кто приходит и пребывает с нами в Слове, в благовестии о Ком состоит назначение Церкви. Слово полагает Таинство как свое исполнение, ибо в Таинстве Христос–Слово становится нашей жизнью. Слово собирает Церковь для своего воплощения в ней. В отрыве от Слова Таинству грозит быть воспринятым как магия, без Таинства Слову грозит быть сведенным к доктрине. И, наконец, именно Таинством претворяется в толкование Слово, ибо толкование Слова есть всегда свидетельство о том, как Слово становится жизнью. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1:14). Таинство и есть это свидетельство, и потому – в нем источник, начало и основа толкования и уразумения Слова, источник и критерий богословия. Только в этой неразрывной соединенности Слова и Таинства можно по-настоящему понять смысл утверждения, что Церковь одна хранит истинный смысл Писания. Поэтому первая часть Литургии есть необходимое начало евхаристического Священнодействия, то Таинство Слова, которое свое исполнение и завершение найдет в приношении, освящении и раздаянии верным евхаристических даров.