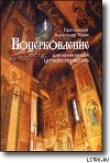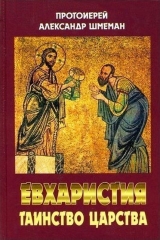
Текст книги "Евхаристия. Таинство Царства"
Автор книги: Александр Протоиерей (Шмеман)
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
V
Таинство это одновременно космично и эсхатологично, относится как к мiру Божьему в его первозданности, так и к исполнению его в Царстве Божьем. Оно космично потому, что обнимает все творение, приносится как Божье Богу – «Твоя от Твоих!.. о всех и за вся» – и в себе и собою являет победу Христову. Но в ту же меру, в какую оно космично, оно также и эсхатологично, направлено и обращено к Царству будущего века. Ибо, отвергнув и убив Христа, – своего Творца, Спасителя и Господа – «мiр сей» сам себя приговорил к смерти, ибо не имеет он «жизни в себе» и отверг ту, о которой сказано: «В Нем была жизнь и жизнь была свет человеков» (Ин. l:4). Kaк «мip ceй», он кончится, «небо и земля прейдут…». И потому верующий во Христа и принявший Его как «Путь, Истину и Жизнь» живет чаянием будущего века. Он уже не имеет здесь «пребывающего града, но грядущего взыскует» (Евр. 13:14). В том то, однако, и вся радость христианства, пасхальная сущность его веры, что этот «будущий век», будущий по отношению к «мiру сему» – и уже явлен, уже дарован, уже «посреди нас». И сама наша вера уже «есть осуществление (υπόστασις – реальность) ожидаемого», уже «есть уверенность (έλεγκος – доказательство) – в невидимом» (Евр. 11:1). Она сама есть и являет и дарует то, на что она направлена: на присутствие посреди нас грядущего Царства Божия и его невечернего света.
А это, в свою очередь, означает, что в православном опыте и предании Таинством является, прежде всего, сама Церковь. Историки богословия неоднократно отмечали, что в раннем отеческом предании мы не находим определений Церкви. Но причина этому не в «неразвитости» тогдашнего богословия, как думают некоторые ученые богословы, а в том, что для раннего предания Церковь не объект «определений», а живой опыт новой жизни. Опыт, в котором институционная структура Церкви – иерархическая, каноническая, литургическая и т. д – таинственна, символична по самой своей сущности, ибо существует она для того, чтобы быть постоянно претворяемой в ту самую реальность, которую она являет, исполнением – невидимого в видимом, небесного в земном, духовного в материальном.
Церковь, таким образом, есть Таинство в обоих указанных выше измерениях: космическом и эсхатологическом. В космическом, потому что в «мiре сем» она являет подлинный, первозданный мiр Божий, как начало, в свете которого, по отношению к которому только и можем мы осознать всю высоту нашего горнего призвания, а потому и глубину нашего отпадения от Бога. В эсхатологическом потому, что первозданный мир, являемый Церковью, уже, спасен Христом – и в литургическом и молитвенном опыте не отрываем от того конца, ради которого он создан и спасен, и «дабы был Бог вся во всем» (1 Кор. 15:23).
VI
Будучи таинством в глубочайшем и всеобъемлющем смысле этого слова, Церковь в таинствах и таинствами, и, прежде всего, конечно, «таинством всех таинств», святейшей Евхаристией, созидает, являет и исполняет себя. Ибо если, как только что сказано, есть Таинство начала и конца, мира и исполнения его как Царства Божия, – то совершается оно восхождением ее на небо, в «вожделенное отечество», в «status patriae» – к мессианской трапезе Христовой, во Царствии Его.
А это значит, что совершается все это: и «собрание в Церковь», и восхождение к престолу Божьему, и участие в трапезе Царства – в Духе и Духом Святым. «Ubi Ecclesia ibi Spiritus Sanctus et omnis gratia». «Где Церковь – там Дух Святой и полнота благодати». Этими словами св. Иринея Лионского (Adversus haereses) запечатлен опыт Церкви как Таинства Духа Святого. Ибо если там, где Церковь – там Дух Святой, то там, где Дух Святой – там обновление твари, там «иного жития, вечного начало», там заря таинственного, невечернего дня Царства Божия… Ибо Дух Святой и есть «Дух Истины, сыноположения дарование, обручение будущего наследия, начаток вечных благ, животворящая сила, источник освящения, от Него же вся тварь словесная же и умная укрепляема служит Богу и Ему присносущное воссылает славословие» (молитва Благодарения в литургии св. Василия Великого). Иными словами, там, где Дух Святой, там Царство Божие. Сошествием Своим в «последний и великий день Пятидесятницы» Дух Святой претворяет этот последний день в первый день нового творения и Церковь являет как дар и присутствие этого – и Первого и Восьмого Дня…
И потому все в Церкви – Духом Святым, все в Духе Святом и все причастие Святого Духа. Духом потому, что нисшествием Святого Духа явлена Церковь как претворение конца в начало, ветхой жизни в новую:
Все подает Дух Святой,
Точит пророчествия,
Священники совершает,
Весь собирает собор церковный…
Все в Церкви – в Духе Святом, который возводит нас в небесное святилище, к престолу Божьему:
Видехом свет истинный,
Прияхом Духа Небесного…
И, наконец, вся она обращена к Духу Святому – «сокровищу благих и жизни подателю», вся есть жажда стяжания Духа и причастия Его и в Нем, полноте благодати. Подобно тому, как подвиг и жизнь каждого верующего состоит, по словам преп. Серафима Саровского, в стяжании Святого Духа, так и жизнь Церкви есть то же стяжание, то же призывание, та же, вечно утоляемая и никогда до конца не утолимая, жажда Святого Духа:
Прииди к нам, Душе Святый,
Причастники Твоея соделывая святыни.
И света невечернего,
И Божественныя жизни,
И благоуханейшего раздаяния…
VII
Сказав все это, мы можем вернуться теперь к тому, с чего мы начали эту главу: к определению Евхаристии как Таинства Царства, как восхождения Церкви – к «трапезе Христовой, во Царствии Его». Мы знаем теперь, что определение это выпало из научно богословских объяснений Литургии, воспринятых православным богословием с Запада, и выпало, главным образом, по причине распада в христианском сознании ключевого понятия символа, противопоставления его понятию реальности и, потому, низведения его в категорию «символизма изобразительного». Поскольку же христианская вера с самого начала твердо исповедовала именно реальность преложения даров хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы: сие есть самое честное Тело, сия есть самая честная Кровь Христова – то всякое «смешение» этой реальности с «символизмом» стало восприниматься как угроза евхаристическому «реализму» и, это означает, реальному присутствию Тела и Крови Христовых на престоле. Отсюда – сведение таинства к «тайносовершительной формуле» – самой своей ограниченностью «гарантирующей» реальность преложения, во времени и пространстве, отсюда – из этого «испуга» – все более и более детальное определение «модуса» и «момента» преложения и его «действенности». Отсюда настойчивые напоминания, что до освящения даров на дискосе только хлеб, в чаше – только вино, тогда как после освящения – только Тело и Кровь, отсюда попытки объяснить «реальность» преложения при помощи аристотелевских категорий «сущности» и «акциденций», объяснить преложение как «пресуществление». Отсюда, наконец, отрицание за Божественной Литургией, как в «многочастности», так и в единстве её, реального отношения к преложению Св. Даров и фактически – исключение её из объяснения Таинства.
Но вот теперь мы можем и должны спросить: соответствует ли это понимание символа и символизма, это противопоставление их реальности, соответствует ли оно изначальному смыслу самого понятия «символ» и применимо ли оно к христианскому «закону молитвы», к литургическому преданию Церкви?
На этот – основной – вопрос я отвечаю отрицательно. Ибо в том то и все дело, что первичный смысл слова «символ» совсем не равнозначен с «изображением». Символ может и не «изображать», т. е. может быть лишен внешнего «сходства» с тем, что он символизирует. История религии показывает, что чем древнее, глубже, «органичнее» символ, тем меньше в нем такой только внешней «изобразительности». И это так потому, что исконная «функция» символа не в том, чтобы изображать (что предполагает отсутствие «изображаемого»), а в том, чтобы являть и приобщать явленному. Про символ можно сказать, что он не столько «похож» на символизируемую реальность, сколько причастен ей и потому может ей реально приобщать. Таким образом, разница – радикальная – между теперешним и первичным пониманиями символа состоит в том, что теперь символ есть изображение или знак чего-то другого, чего при этом в самом знаке реально нет (как нет реального, настоящего индейца в актере, изображающем его, или реальной воды в химическом ее символе), тогда как в первичном понимании символа он сам есть явление и присутствие другого, но именно как другого, т. е. как реальности, которая в данных условиях и не может быть явленной, иначе как в символе.
Но это означает, в конце концов, что подлинный и первичный символ не отрываем от веры. Ибо вера и есть, «обличение вещей невидимых», т. е. знание, что эта другая реальность есть, отличная от реальности эмпирической, но в которую можно войти, которой можно приобщиться которая может стать «реальнейшей реальностью». Поэтому если символ предполагает веру, то и вера необходимо требует символа. Ибо, в отличие от просто «убеждений» или «философских взглядов», вера есть непременно общение и жажда общения, воплощение и жажда воплощения, явления, присутствия и действия одной реальности в другой. А все это и есть символ – от греческого συμβάλλω: «соединяю», «держу вместе». В нем, в отличие от простого изображения, простого знака и даже таинства в его схоластической редукции, две реальности – эмпирическая, или «видимая», и духовная, или «невидимая», соединены не логически («это» означает «это»), не аналогически («это» изображает «это») и не причинно следственно («это» есть причина «этого»), а эпифанически (от греческого ἐπιφανεῖα – являю). Одна реальность являет другую, но – и это очень важно – только в ту меру, в которой сам символ причастен духовной реальности и способен воплотить ее. Иными словами, в символе все являет духовную реальность и в нем все необходимо для ее явления, но не вся духовная реальность является и воплощается в символе. Символ всегда отчасти, «ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем» (1 Кор. 13:9), – ибо символ, по самой сущности своей, соединяет реальности несоизмеримые, из которых одна остается по отношению к другой – «абсолютно другой». Сколько бы ни был реален символ, сколь ни приобщал бы нас духовной реальности, функция его не в том, чтобы «утолить» нашу жажду, а в том, чтобы усилить ее: «подавай нам истине приобщаться Тебе в невечернем дне Царствия Твоего…». Не в том, чтобы соделать ту или иную часть «мира сего» – его пространства, времени или материи – священной, а в том, чтобы в нем увидеть и опознать, как чаяние и жажду совершенного одухотворения, – «да будет Бог вся во всем» (1 Кор. 15:28).
Нужно ли доказывать, что только этот – первичный, онтологический и эпифанический – смысл понятия символ применим к христианскому богослужению. И не только применим, но и не отрываем от него. Ибо сущность его в том и состоит, что в нем преодолевается дихотомия реальности и символизма как нереальности, и сама реальность познается как прежде всего исполнение символа, а символ как исполнение реальности. Христианское богослужение символично не потому, что оно включает в себя разные «символические» изображения. Да и включает оно их, главным образом, в воображении разных комментаторов, а не в своем чине и священнодействиях. Христианское богослужение символично потому, во первых, что символичен, таинственен сам мiр, само творение Божие, и потому, во вторых, что сущностью Церкви, ее назначением в «мiре сем» является исполнение этого символа, реализация его как «реальнейшей реальности». Про символ можно, таким образом, сказать, что он являет мiр, человека и всё творение как материю одного всеобъемлющего таинства. Так вот, на основании всего сказанного мы и можем поставить основной вопрос: «символом» чего является Евхаристия, какой символ объединяет в одно целое весь её чин, все её обряды, какая духовная реальность явлена и даруется нам в «Таинстве всех таинств»? А это и возвращает нас к тому, с чего мы начали эту главу – к опознанию и исповеданию Евхаристии как Таинства Царства.
VIII
Божественная Литургия начинается с торжественного возгласа предстоятеля: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа и ныне и присно и во веки веков». С возвещения Царства, с благовестия о том, что приблизилось, началась проповедь Спасителя: «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте во Евангелие» (Марк 1:14–15). И с чаяния Царства, с моления об его пришествии, начинается первая и главная христианская молитва, дарованная нам Самим Христом: «Да приидет Царствие Твое…».
Царство Божие есть содержание христианской жизни. Царство Божие, по согласному учению Предания и Писания, есть знание Бога, любовь к Нему, единство с Ним и жизнь в Нем. Царство Божие есть единство с Богом как с источником жизни, как с Самой Жизнью. Царство Божие есть содержание вечной Жизни – «сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя» (Ин. 17:3). Для этой подлинной и вечной жизни в полноте знания, единства и любви создан был человек. От неё он отпал в грехопадении, и через грех человека в мiре воцарились зло, страдание и смерть, воцарился князь мiра сего. Мiр отверг своего Бога и Царя. Но Бог не отвернулся от мiра – «и не отступил … вся творя дондеже нас на небо возвел и даровал нам Царство свое будущее…» (Евхаристическая молитва Литургии св. Иоанна Златоуста).
Этого Царства ждали, о нем молились, его предвозвещали ветхозаветные пророки, к нему, как к своей цели и исполнению, направлена была священная история Ветхого Завета, священная не человеческой святостью – ибо вся она полна падений, измен и грехов, – а тем, что через нее приуготовал Бог явление Своего Царства и победу его. И вот «исполнилось время и приблизилось Царствие Божие» (Мк. 1:15). Единородный Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы возвестить и даровать людям прощение грехов, примирение с Богом и новую Жизнь. Своей крестной смертью и воскресением из мертвых Он воцарился: «Бог посадил Его одесную Себя на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени… и вся покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего» (Еф. 1:20–22)… Христос воцарился, и всякий верующий в Него и возрождённый водою и Духом принадлежит Его Царству и имеет Его в себе. «Христос есть Господь» – таково древнейшее исповедание христианами своей веры, и в течение трех веков мiр – в лице Римской империи – гнал их за отказ кого либо на земле признать Господом, кроме единого Господа и Царя Иисуса Христа. Сам же Царь пришел во образе раба и воцарился в мiре позором Креста. Нет внешних признаков этого Царства на земле. Оно есть Царство будущего века, потому что только в славе второго пришествия узнают все истинного Царя мiра. Но для тех, кто уверовал и принял Его, оно уже теперь, в этом веке, несомненнее всех доказательств и явственнее всех очевидностей: «Господь пришел. Господь приходит, Господь придет!» – в этом триедином значении древнего арамейского возгласа «маранафа» заключается вся победная вера христиан, против которой бессильны оказались все гонения.
С первого взгляда все это звучит как некая благочестивая пропись. Но прочтите написанное выше еще раз и сравните это с верой и «переживанием» христианства у подавляющего большинства христиан, и вы убедитесь в том, что между сказанным тут и этим «переживанием» существует настоящая пропасть. Можно без всякого преувеличения сказать, что Царство Божие – ключевое понятие евангельского благовестия – перестало быть центральным содержанием и внутренним двигателем христианской веры. Прежде всего, в отличие от ранней Церкви, христиане последующих веков стали постепенно все меньше и меньше воспринимать Царство Божие как «приблизившееся». Под Царством они стали все больше разуметь «потусторонний», «загробный» мир, и то лишь по отношению к индивидуальной, «личной» смерти человека.
«Мiр сей» и «Царство Божие», сопряженные в Евангелии, в некоем напряженном сосуществовании и в борьбе, стали мыслиться почти исключительно – в хронологической последовательности: сейчас только «мiр сей», потом – только Царство, тогда как для первых христиан всеобъемлющей реальностью и потрясающей новизной их веры было как раз то, что Царство приблизилось и, хотя и незримое, и неведомое «мiру сему», уже пребывает «посреди нас», уже светится, уже действует в нем…
Отодвинувши Царство на конец мiра, в таинственную и непостижимую даль времени, христиане постепенно перестали ощущать его как чаемое, то есть как желанное и радостное исполнение всех надежд, всех желаний, самой жизни, всего того, что ранняя Церковь вкладывала в слова молитвы Господней: «Да приидет Царствие Твое…». Характерно, что в наших курсах догматического богословия, не могущих, конечно, просто обойти молчанием изначальное учение Церкви, – о Царстве Божием говорится предельно скупо, вяло и скучно, весь же центр тяжести в эсхатологии, то есть в учении о «конечных судьбах мiра и человека», перенесен на учение «о Боге, как Судье и Мздовоздаятеле». Что же касается благочестия, то есть личного опыта отдельных верующих, то и тут тоже эсхатология сузилась до предельного индивидуализма, до интереса к своей, личной «посмертной» судьбе. В то же самое время «мiр сей», о котором ап. Павел писал, что «проходит образ» его и который для ранней Церкви был «прозрачен» для Царства, снова приобрел свою устойчивость и самостоятельность.
IX
Это постепенное сужение, ущербление и, наконец, почти полное перерождение христианской эсхатологии, ее отрыв от темы и опыта Царства, имели огромное значение в развитии литургического сознания верующих. Возвращаясь к тому, что было сказано выше о символизме христианского богослужения, можно утверждать, что богослужение это родилось и «сложилось» в своей внешней структуре как прежде всего символ Царства и Церкви, как к нему восходящей и в этом восхождении «исполняющей» себя, как Тело Христово и Храм Святого Духа. Вся новизна, вся действительная и абсолютная уникальность христианской λειτουργία заключена была в этой эсхатологической ее сущности как «парусии» будущего, явления грядущего, причастия Царству «будущего века». В моём «Введении в Литургическое Богословие» я уже писал, что именно из этого эсхатологического опыта родился «день Господень» как символ, то есть явление в «мiре сем», в его времени – Царства Божия, что этот опыт «дня Господня» определил собою христианскую рецепцию Пасхи и Пятидесятницы, то есть основы «церковного года», как праздников прежде всего «перехода» из настоящего эона в эон «будущего века». Но, конечно, символом Царства по преимуществу, символом, исполняющим все символы – дня Господня, Пасхи, Крещения и, наконец, всей христианской жизни как «жизни, скрытой со Христом в Боге» (Кол. 3:3), была Евхаристия, таинство пришествия воскресшего Господа, таинство встречи и общения с ним «за Его трапезой, в Его Царстве…».
Тайно и невидимо для мiра, «дверем затворенным» собиралась Церковь, «малое стадо», которому Отец благоволил дать Царство (Лк. 12:32), и в отделении от мiра, действительно вне его, совершалось восхождение и вхождение ее в свет и радость и торжество Царства. И можно без всякого преувеличения сказать, что из этого опыта, опыта абсолютно единственного и ни с чем не сравнимого, из этого до конца исполненного, до конца воплощенного символа – развилось и им живет все христианское богослужение. Я прибавил бы здесь – и все христианское богословие и вся христианская жизнь, но об этом мы еще будем говорить позже. Сейчас скажу только так: Евхаристия ничего не «изображала», но все являла и всему приобщала…
Теперь понятным становится, я надеюсь, и то, почему – когда началось указанное выше ослабление и затмение эсхатологической сущности христианской веры – символизм Царства в богослужении стал постепенно зарастать дикой травой вторичных объяснений и аллегорических истолкований, то есть тем «изобразительным символизмом», который, как я старался показать выше, на деле означал распад подлинного символа и символизма, ниспадение его в категорию простого «знака». Чем дальше шло время, тем больше забывался основоположный для Церкви символизм Царства. Поскольку же богослужение, весь его чин и строй были уже завершены, существовали как данное – самоочевидное и неприкосновенное предание Церкви, – оно естественно требовало нового объяснения – в том ключе, в котором начинало воспринимать христианское сознание место и служение Церкви в «мiре сем». Это и было началом все большего проникновения «изобразительного символизма» в объяснение Евхаристии, вплоть до его почти безраздельного торжества в сравнительно недавнюю эпоху. В процессе этом, как это ни звучит парадоксально, неотмiрная, небесная реальность Евхаристии оказалась «включенной» – в «мiр сей», в его причинность, в его время, в категории его мысли и опыта, между тем как присущий творению и неотделимый от него символизм Царства Божьего, поистине ключ к Церкви и ее жизни, был низведен в категорию ненужного символизма изобразительного…