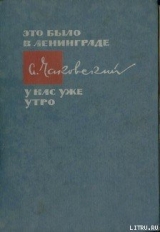
Текст книги "У нас уже утро"
Автор книги: Александр Чаковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Александр Чаковский
У нас уже утро
…Оба флага -
Как два пограничных солдата:
Флаг восхода стоит против флага заката.
И на красном -
Рассвета багряные краски,
А на пёстром -
Вчерашние тени Аляски.
С. Смирнов. «Два флага».
На склоне невысокой, покрытой зелёным лесом сопки стоит человек.
Он среднего роста, у него светлые, чуть вьющиеся жёсткие волосы. На нём брезентовый с откинутым капюшоном плащ, надетый поверх ватника, и высокие резиновые сапоги, облепленные рыбьей чешуёй.
Человек пристально всматривается в море…
Здесь, между берегом и волнорезом, поднимающимся на метр из воды, море совсем спокойное, будто тихий пруд где-нибудь под Рязанью или Орлом.
За волнорезом оно чуть рябоватое, точно поверхность необработанной кожи. Мелкие, тихие волны набегают друг на друга совсем так, как где-нибудь на Волге или на Дону, когда дует лёгкий ветерок.
Человек напряжённо вглядывается в море. Цвет воды меняется у него на глазах. Из чёрной она превращается в серую, потом в голубоватую. Это слабые отблески розовеющего над сопками неба. Там, за сопками, будто разгорается огромный костёр.
Сейчас взойдёт солнце…
На рейде неподвижно стоит пароход. Не шелохнутся суда, столпившиеся в «ковше». Да и тот катерок, что удаляется от берега, мирно бороздит гладкую морскую поверхность.
Пройдёт день, а к ночи подует лёгкий неслышный ветер, будет фосфоресцировать тёмная морская вода, широкой молочной рекой пройдёт косяк сельди, а может быть, и акула выбросит из глубин своё длинное, двухметровое чёрное тело…
Рыбаки спокойно проведут лов, и ветер не порвёт сеть, не заест лебёдка, не захлебнётся заливаемый волнами мотор…
Но не часто бывает таким спокойным это суровое море. Пройдёт весна, промелькнёт сахалинское лето – и всё изменится вокруг.
Станет звонкой и жёсткой земля, багровым цветом зацветёт тайга, почернеют сопки, с материка подует холодный ветер, и грозно зашумит море…
Тогда даже здесь, в «ковше», будут метаться из стороны в сторону катера и кунгасы, а там, за каменной стеной волнореза, с грохотом и шипением станут лезть одна на другую гигантские волны. Тогда уж не видно будет ни горизонта, ни восхода солнца, ни неба – все сольётся в непроницаемый кипящий и холодный мрак.
И всё-таки рыбаки выйдут в море и будут тралить морские глубины…
А потом наступит зима, завоет ветер, заметёт позёмка, глубокий снежный покров ляжет на землю, и только вечнозелёный лес будет напоминать о лете.
Линия волнореза погрузится в море, бушующая вода хлынет на берег, и её холодные брызги тут же превратятся в лёд. Все кругом – берег и рыбацкий пирс – покроется толстой ледяной коркой.
Но рыбаки всё-таки пойдут в море. Поспорив с диспетчером, который будет грозить им штормовой погодой, они уйдут в эту воющую, кромешную тьму.
Им придётся трудно, очень трудно.
Оледенеют борта судов и палубы, сеть будет примерзать к пальцам, может быть, откажет мотор, и волны станут бросать беспомощное судно с гребня на гребень…
И всё-таки рыбаки вернутся с уловом и выгрузят его на оледенелый, звонкий пирс, и девушки-отцепщицы красными, негнущимися пальцами будут отцеплять запутавшуюся в сетях уснувшую рыбу.
Но сейчас весна. Сегодня все вокруг тихо. Спокойно море. Стоящий на рейде пароход протяжно гудит и медленно направляется на юг. Две сильные струи, расходящиеся у него за кормой, видны отсюда, с сопки.
Человек, стоящий на склоне сопки, смотрит, как пароход постепенно становится всё меньше и меньше и наконец только чёрная точка едва виднеется на горизонте.
Человек молчит, никто не знает, о чём он сейчас думает. Но если бы можно было слушать мысли, вот что мы услышали бы:
– Друзья мои, дорогие советские люди! Приезжайте к нам на Южный Сахалин…
Я честно предупреждаю вас: не обольщайтесь тем, что он называется Южным. Сахалин – не Сочи, не Ялта и не Одесса.
Говорят, что у нас нет климата, а есть только дурная погода.
Это не совсем верно. На Сахалине, который вдвое больше Греции и в полтора раза – Дании, что ни район, то свой климат.
У нас не «юг», конечно.
Правда, здесь кое-где растёт бамбук, но зато зимой вьюжно и холодно, а осенью и весной дождливо и туманно. Когда вы пойдёте к нам Японским или Охотским морем, вас, может быть, основательно потреплет. Впервые увидев с борта парохода нашу землю, вы, может быть, испугаетесь её сурового вида. Сойдя с парохода, вы, вероятно, сразу подумаете о многих тысячах километров, отделяющих Сахалин от Центральной России. Не бойтесь всего этого, дорогие друзья! Не бойтесь моря, оно страшно только трусу. Не бойтесь суровой земли, она только с виду такая. Не бойтесь расстояния: родина для советского человека везде, где есть Советская власть.
Здесь, на истерзанной японскими захватчиками русской земле, вы будете строить новую, советскую жизнь. Если вы умеете и любите работать, ручаюсь, дел у вас будет по горло. Вы сможете добыть на Сахалине миллионы тонн нефти. Вы загрузите сахалинским углём десятки тысяч эшелонов. Вы положите на прилавки тамбовского или пензенского магазина великолепную дальневосточную рыбу. Вы снабдите все советские типографии нашей бумагой…
Может быть, вам покажется, что этого мало? Но я перечислил ещё далеко не все…
Вы сумеете вырастить плоды, которых здесь никогда не видели. Вы заставите нашу землю родить хлеб. Вы будете добывать здесь торф, ртуть, золото, медь; вы превратите наш остров в остров счастья.
Если непокорённые горы, девственные леса, нетронутые земные недра, суровое море будят в вас дух творчества, созидания, заставляют сильнее биться ваши сердца – тогда к нам, к нам!
Вы увидите китов, гигантских крабов, осьминогов, сплюснутую тысячами тонн воды камбалу, морских львов и ещё очень многое, чего вы никогда не видели…
Уходя чуть свет в море, вы будете любоваться солнцем, подымающимся из розовеющей воды, и вернётесь с чудесным грузом серебристых трепещущих рыб.
Вы будете врубаться в вечнозелёные леса, разведывать недра, пробираться в зарослях бамбука, штурмовать горы… Вы будете воздвигать новые советские города!
За вашей спиной и перед вашими глазами раскинутся самые суровые моря на земном шаре. Вы увидите Курильские острова – тысячекилометровую горную цепь, которая тянется от Камчатки до берегов Японии.
И самое главное, в вашем сердце будет жить сознание, что здесь форпост советской державы, что под вашими ногами край родной земли, а впереди только океан, отделяющий родину от чужого материка.
День рождается у нас, мы раньше всех советских людей начинаем свою каждодневную трудовую жизнь.
Нам очень нужны люди, честные, смелые советские люди – созидатели.
Тот, кто честен, кто любит труд и умеет трудиться, будет дорогим гостем на нашей земле…
…Из-за сопок поднимается солнце. Оно как будто выплыло из воды – до того чист и светел его ослепительный диск…
Человек поворачивается навстречу солнцу, и на лицо его мягко ложатся косые лучи.
Начинается утро.
ГЛАВА I
Большой, серый, с высокими, слегка тронутыми ржавчиной бортами пароход «Анадырь» готовился к отходу.
Грузы лежали на мокром от дождя каменном пирсе. Их поднимали на борт лебёдками. Время от времени несколько ящиков, или мотоцикл, или сеялка отделялись от остальных грузов, ползли по пирсу и под зычный выкрик «вира!» взмывали в воздух.
Грузились моторы, локомобили, бочки, мешки, тракторы, велосипеды, обеденные столы, стулья, кровати. Подхваченный толстыми тросами, поднялся высоко над пирсом маленький фикус.
Потом началась посадка. Доронин продвигался к трапу. Он шёл медленно, со всех сторон стиснутый людьми, одетыми в коробящиеся плащи из толстого брезента, в ватники, в солдатские шинели. Люди несли чемоданы, деревянные ящики, рюкзаки или туго набитые мешки, из которых выглядывали обёрнутые холстиной пилы и топоры.
«Анадырь» обслуживал грузовую линию Владивосток – Сахалин. Пассажирский пароход отправлялся через три дня. Но люди не хотели терять времени и, пренебрегая удобствами, настойчиво стремились уехать поскорее.
Темнело. Моросил дождь. У трапа стояли два пограничника в серых плащах с надвинутыми капюшонами. Из-под капюшонов выглядывали зелёные околыши фуражек и лакированные козырьки, покрытые мутными капельками дождя.
Поравнявшись с пограничниками, Доронин протянул им паспорт и пропуск. Один из солдат, молодой парень с подчёркнуто строгим выражением лица, внимательно просмотрел документы. Он прикрывал их рукой, чтобы не замочил дождь.
– Южный? – спросил пограничник; у него были белёсые брови и розовые щёки.
– Южный, – ответил Доронин.
– Проходите, товарищ.
Держась за верёвочные поручни и скользя по мокрому трапу, Доронин стал медленно подниматься на борт парохода. Прежде чем шагнуть на палубу, он оглянулся. Там, внизу, по-прежнему двигались люди. Сквозь толпу, оглушительно сигналя, пробирался автокар. С полуторки сбрасывали привезённую в бумажных пакетах почту. Всё это был уже другой, оставшийся позади мир.
– Давайте, давайте, чего там! – сразу заторопили Доронина, и кто-то легонько подтолкнул его в спину.
Доронин прибавил шагу и нагнал шедшего впереди человека. Это был невысокий, плотный черноволосый мужчина средних лет. Его фетровая шляпа заметно выделялась среди фуражек, кепок и армейских пилоток. В руках у него были маленький чемодан и портфель.
Два матроса в холщовых рубахах стояли у входа на палубу. Они непрерывно повторяли одну и ту же фразу:
– По твиндекам, граждане, по твиндекам, располагайтесь равномерно по возможности…
У входа в твиндек образовалась пробка. Люди толпились вокруг люка, освещённого мутным электрическим светом. Снизу поднимался разноголосый гомон. Пахло рыбой, морской водой, извёсткой.
Дождавшись своей очереди, Доронин нерешительно опустил ногу в люк и сразу же нащупал узкий отвесный трап. Чувствуя чьи-то ноги над своими плечами, он медленно спустился в твиндек и увидел под собой множество голов. Казалось, что трюм набит до отказа и что в этой тесноте ещё один человек не сможет не только сесть, но и встать.
Однако мало-помалу люди разместились, и Доронину даже удалось поставить свой чемодан у стенки. За стенкой булькала и переливалась вода.
«Так, – сказал про себя Доронин. – Начинается новая жизнь…»
…Начинать новую жизнь Доронину приходилось не впервые.
Он был коренным ленинградцем. Окончив в 1934 году экономический институт, Доронин был направлен на саратовские рыбные промыслы. Тогда ему в первый раз пришлось начинать новую жизнь.
Доронин ехал по приволжским степям, а в глазах его стоял белый туман ленинградских весенних ночей, и снились ему Нева и мосты над ней на тяжёлых, вечных цепях…
Конечно, как ни хороша была Волга, она не могла заменить ему родной Невы с её свинцовой водой и гранитными берегами. Но он полюбил и Волгу, и широко раскинувшийся на её берегу город, и волжских рыбаков, постоянно окружавших его теперь.
В Саратове он едва не женился на Тане, студентке строительного института. В сущности, всё уже было решено, но Доронина призвали в армию, и ему пришлось второй раз начинать новую жизнь.
Уезжая, Доронин сказал Тане, что при первой же возможности приедет в отпуск и тогда они поженятся. Он считал, что разлука будет полезна для них обоих.
Но Таня вскоре окончила институт, и её послали на новостройку в Сибирь, а Доронин так и не получил отпуска. Женитьба не состоялась. Лишь много времени спустя Доронин понял, что дело было, конечно, не во внешних обстоятельствах, а в том, что он и Таня недостаточно любили друг друга.
Доронин сказал себе: «Я женюсь только тогда, когда буду знать, что без этой девушки не могу жить, когда почувствую, что она всегда со мной, когда поверю, что никакая разлука нам не страшна…»
Новая жизнь, которую он начал, оказавшись в рядах армии, сразу же потребовала напряжения всех его сил. Первое время ему было очень трудно. Пришлось отказаться от многих навыков, приобретённых за два года работы в Саратове. Инженер-экономист Андрей Семёнович Доронин вскоре превратился в командира Красной Армии. Он оказался упорным, настойчивым, энергичным. Его быстро заметили, выдвинули, обязали учиться. Трудности, возникавшие перед Дорониным в армейских условиях, только разжигали его упорство и настойчивость.
Строгие рамки военных уставов не стесняли его. Он понял, что подлинная свобода военного человека состоит не в пренебрежении уставами, а в точном выполнении каждого их требования. Рота, которой командовал лейтенант Доронин, славилась своей дисциплиной и успехами в боевой учёбе. А командира роты полковое начальство неизменно поощряло благодарностями в приказах.
Началась финская война. Лейтенант Доронин впервые повёл свою роту в бой. В память о трёх месяцах упорных боёв на Карельском перешейке остались у него шрам на левой руке, чуть выше локтя, и первая его боевая награда – медаль «За отвагу».
Все четыре года Отечественной войны Доронину посчастливилось провести в рядах одной дивизии. Когда после лечения в госпиталях, – а он был ранен трижды: на Невской Дубровке, под Нарвой и под Ригой, – его пытались направить в другую часть, он неизменно добивался назначения в свою дивизию. В ней он прошёл путь от лейтенанта до майора. С нею было связано целое десятилетие его жизни. Конечно, за эти годы состав дивизии сильно изменился, но если свою дальнейшую жизнь Доронин не представлял без службы в армии, то и свою военную службу он не представлял вне рядов родной дивизии.
Но вот в Москве прогремел на весь мир салют в честь величайшей победы, которую когда-либо одерживал народ. Вместе с тысячами бойцов и офицеров майор Доронин прошёл под триумфальной Нарвской аркой: Ленинград встречал своих героев…
Будущее казалось Доронину ясным и простым. Его предполагали оставить в Ленинградском военном округе, – после долгих лет кочевой жизни он снова оказывался в родном городе. «Теперь будет все, – размышлял Доронин, – и дом, и семья. Теперь осуществится моя заветная мечта: я буду учиться в академии…»
Внезапно его вызвали в Москву, в управление кадров, и сообщили, что приказом министра Вооружённых Сил он демобилизован из рядов армии.
Доронину показалось, что все вокруг него рушится. Он начал протестовать, горячо доказывая, что с армией связана вся его жизнь, что без неё он не может существовать, что все последнее время он жил мечтой об учёбе в военной академии.
Генерал-майор, принимавший Доронина, внимательно выслушал его и потом мягко, но внушительно сказал, что одно гражданское ведомство испытывает острую необходимость именно в таких людях, как он.
В отчаянии Доронин даже не спросил, что это за ведомство. Он из последних сил пытался выяснить, есть ли хоть какая-нибудь возможность протестовать, бороться, доказать глубокую ошибочность решения о его демобилизации.
Но генерал, достав из стола папку, вынул оттуда какой-то лист бумаги и протянул его Доронину. Тот взглянул и точно в тумане увидел надпись, сделанную наискось красным карандашом: «Согласен». И под этой надписью – имя, известное всей стране.
Тогда он встал и, ничего не видя перед собой, сказал сдавленным от волнения голосом:
– Вопрос ясен, товарищ генерал-майор. Кому прикажете сдать документы?
– Андрей Семёнович, – тихо сказал генерал. – Не думайте, что мы не дрались за вас. Армия нелегко расстаётся со своими кадровыми офицерами. Но есть высший долг и для нас с вами и для всех – долг перед государством.
Генерал говорил ещё долго. Доронину казалось, что голос его доносится откуда-то издалека. Только выйдя из здания министерства, он вспомнил слова генерала о том, что отныне ему, Доронину, предстоит работать в рыбной промышленности.
«Рыба… – равнодушно подумал он. – Это, наверное, потому, что в моей анкете упоминается работа в Саратове…» Если его разлучили с армией, то ему было, в сущности, всё равно, где работать.
В Министерстве рыбной промышленности, куда он явился на следующий день, ему сказали, что заместитель министра хочет поговорить с ним лично и беседа состоится через полчаса.
Все в том же безучастном состоянии Доронин вышел на круглую лестничную площадку. На стенах, расписанных масляной краской, были изображены рыбаки в морских робах. Посреди площадки стоял большой аквариум, и в нём плавали диковинные рыбы. Доронин машинально подошёл к аквариуму. Длинная белая, похожая на угря рыба с разгона ткнулась большим жабьим ртом в стенку аквариума и, вильнув хвостом, повернула в сторону. Золотая рыбка, кокетливо изгибаясь, промелькнула вдоль стекла. «В подводное царство попал», – с невесёлой усмешкой подумал Доронин.
Разговор с заместителем министра Грачевым затянулся. Но не Доронин был тому причиной. Он отвечал на вопросы Грачева подчёркнуто официальным тоном, с привычной военной точностью, коротко сообщая лишь самые необходимые сведения о себе и о своей жизни.
А Грачев внимательно разглядывал сидевшего перед ним невысокого, крепкого человека с чуть вьющимися светлыми волосами и с упрямой складкой на переносице. Он отлично понимал, что делается сейчас в душе этого ещё не снявшего погон майора. И что-то в нём привлекало Грачева.
– Я понимаю вас, – тихо сказал Грачев. – Армия…
– Я пробыл в армии десять лет! – неожиданно для самого себя горячо воскликнул Доронин. – Я кадровый офицер. Война кончилась. Я хотел учиться… В академию хотел…
Доронин осёкся и замолк. «К чему говорить об этом теперь?» – подумал он, не замечая, что Грачев смотрит на него сочувственным, понимающим взглядом.
Доронин ни в чём не убеждал своего собеседника и ничего не просил. Он говорил о своих неосуществившихся планах, словно подводя итог своей прежней жизни перед тем, как начать новую. А Грачев смотрел на него и думал, что этот человек нужен, обязательно нужен там, куда его собирались послать.
А послать его собирались на Южный Сахалин, в старинный русский край, отторгнутый в 1905 году у России японцами и теперь, после победоносного окончания войны о Японией, возвращённый советскому народу.
К сообщению о том, что ему предстоит ехать на Сахалин, Доронин отнёсся все с тем же спокойным безразличием. «Одно к одному, – с горечью подумал он, – вместо академии – рыба, вместо Ленинграда – край света, Сахалин».
О, он с гордостью принял бы военное назначение на Сахалин! Если бы его послали туда как офицера, на границу, он счёл бы это величайшей честью для себя. Увы, сейчас речь шла о другом, совсем о другом!…
Грачев говорил о значении рыбной промышленности для народного хозяйства, о том, как нужны Сахалину смелые, мужественные, дисциплинированные люди. Доронин внимательно слушал, кивал головой в знак согласия, чувствуя в то же время, что все эти слова проходят мимо него, что он воспринимает их умом, но не сердцем.
Все последующие дни Доронин вёл долгий разговор с самим собой. Сидя на койке в маленькой гостинице Министерства рыбной промышленности, куда он теперь переехал из гостиницы ЦДКА, или бродя по бульварам весенней Москвы, он снова и снова обдумывал предстоящую в его жизни перемену и не мог заглушить чувство, притаившееся где-то в глубине сердца, – не тоску, нет, а какое-то смутное сожаление. Всё-таки трудно сразу свыкнуться с мыслью, что планы, о которых ты мечтал годами, коренным образом меняются, что в сорок лет ты ещё не имеешь семьи и дома и должен начинать все заново.
Доронин был цельной натурой. В этом всегда подтянутом и внешне даже чуть суховатом и резком человеке нелегко было сразу распознать кипучую энергию, страстную одержимость своим делом, которые были основными свойствами его характера.
Теперь, пожалуй, впервые в жизни, им овладело не равнодушие, нет, но несвойственное ему безучастное спокойствие.
Это состояние пугало Доронина, но освободиться от него он не мог.
«Ничего, – думал он, – приеду на Сахалин, с головой окунусь в работу – и всё как рукой снимет!… Только бы скорее доехать!»
…И вот он идёт по палубе парохода, отправляющегося из Владивостока на Сахалин.
Посадочный трап уже убрали. Пирс опустел. На его мокром камне слабо отражался свет тусклых фонарей. Между бортом парохода и каменной стеной причала медленно расширялась чёрная полоса. На ней плавали оранжевые нефтяные пятна, освещённые светом нижних иллюминаторов.
Раздался продолжительный гудок. Ему ответили такие же гудки справа, слева и откуда-то со стороны моря.
Чёрная полоса между пароходом и каменной стеной причала продолжала расширяться. Казалось, кто-то медленно, но настойчиво оттягивает берег от парохода.
Когда «Анадырь» встал перпендикулярно к причалу, люди, собравшиеся на палубе, заспешили куда-то, и Доронин последовал за ними. Он оказался на другом борту парохода и увидел, что «Анадырь» движется не сам, а его тянет за собой маленький катер-буксир.
Вскоре катер остановился. Туго натянутый трос, на котором он тащил пароход, ослаб и упал в воду. Палуба под ногами Доронина задрожала, и «Анадырь», набирая ход, быстро прошёл мимо покачивающегося на воде катера.
Пароход выходил в открытое море, и скоро холодный северо-восточный ветер прогнал людей с палубы. Стало совсем темно. Беззвёздное небо слилось с чёрной водой.
На палубе было пустынно и холодно, но Доронину не хотелось спускаться в душный твиндек. Он поднял воротник пальто и засунул руки в карманы.
Мимо него прошёл матрос, волоча за собой швабру. Швабра была сплетена из тонких длинных верёвочек, и казалось, что стайка белых змей ползёт за матросом.
Доронин перешёл на корму, взглянул на чуть фосфоресцирующий водопад, рвущийся из-под винта, и стал смотреть на далёкие уже, точно погружающиеся в воду, огни Владивостока. Наконец они совсем утонули и как бы изнутри освещали тёмную линию горизонта.
Постояв ещё немного, Доронин всё-таки спустился в твиндек. Здесь все уже выглядело иначе. Разместившись на чемоданах и мешках, люди пили чай. Над чайниками, и кружками вился тёплый парок, от чего твиндек казался обжитым и даже уютным.
Доронин пробрался к своему чемодану. Женщина, которую он, уходя, просил приглядеть за вещами, тоже пила чай. Рядом с ней сидел крупный, кряжистый человек. Его широкое красное лицо было покрыто паутиной мелких морщинок.
Увидев Доронина, женщина закричала;
– Вот он, вот он, вернулся!
– Послушайте, товарищ, – обратился к Доронину краснолицый, – разве можно так людей пугать?
– Попросил меня: «Бабушка, присмотрите», – перебила его женщина, – а сам пропал. Я уж думала: не случилось ли чего?
Она улыбнулась, а Доронин смутился: «бабушке» было не больше двадцати пяти лет… Улыбка очень красила её свежее, юное лицо.
– Она уже по приметам вас разыскивала, – снова заговорил краснолицый. – «Пропал, говорит, человек, лет этак под сорок, из себя ничего, курчавый, росту среднего, серьёзный на вид…» – У говорившего был сипловатый голос; он стоял на коленях перед чемоданом, на крышке которого лежали яйца, лук, соль и кусок чёрного хлеба.
Девушка засмеялась.
– Я на палубе был… – оправдываясь, пробормотал Доронин. – Душно здесь очень…
– Как есть преисподняя, – поспешно согласился краснолицый и вдруг спросил: – Из офицеров будете?
– Почему вы решили? – удивился Доронин.
– Давайте знакомиться, – не отвечая на вопрос, предложил краснолицый. – Чтоб не скучно ехать было. Весельчаков, Алексей Степанович. А барышню Ольгой Александровной зовут… Мы уже познакомились.
Доронин промолчал. По совести говоря, у него не было никакого желания знакомиться с чересчур разговорчивым попутчиком.
– Что же вы молчите? – спросила девушка. – Решили сохранить инкогнито?
– Нет, почему же, – неопределённо отозвался он. – Моя фамилия Доронин.
Есть ему не хотелось, спать тоже. Достав из чемодана книгу, купленную во Владивостоке у букиниста, он раскрыл её. Это была книга Дорошевича о Сахалине, изданная задолго до революции. Читать было трудно – свет горел очень тускло, и Доронин рассеянно перелистывал страницы, невольно прислушиваясь к тому, что говорили соседи.
«Сахалин, – читал он, – суровый и холодный остров. Его скалистый берег лижет холодное северное течение, в незапамятные времена прорвавшееся Татарским проливом. Здесь суровая, лютая зима. Здесь неделями продолжается пурга, крутят огромные снежные смерчи, по крышу засыпают дома…»
– Так, – сказал Весельчаков, обращаясь к Ольге и, видимо, продолжая прерванный появлением Доронина разговор. – На постоянную, значит, работу едете?
– На постоянную.
– Значит, расписание вам такое вышло – на Сахалин ехать?
– Какое же расписание? – звонко сказала Ольга. – Кончила вуз, стали распределять выпускников на работу, я и вызвалась поехать.
– А может, у вас там, барышня, жених обитает?
– Откуда же там жених?
– Ну, из военных, скажем. Бывает.
– Никого у меня там нет, – смущаясь и сердясь, ответила Ольга.
Этот разговор, видимо, доставлял Весельчакову большое удовольствие. Трудно было понять, одобряет он Ольгу или подтрунивает над ней.
– Барышня от родного дома на край света бежит, – громко сказал Весельчаков куда-то в пространство. – По линии, значит, энтузиазма…
– А вы не верите в энтузиазм?
Доронин поднял голову. У самого трапа, прислонившись спиной к поручням, стоял тот самый плотный черноволосый человек, который шёл впереди Доронина во время посадки. Он добродушно улыбался.
– Нет, отчего же, – поспешно ответил Весельчаков, – бывает. Только место подобрано несоответствующее.
– Место трудное, – согласился черноволосый.
– О чём и разговор.
– Вот что, – сердито сказала Ольга, – перестаньте меня запугивать! Я трудностей не боюсь, еду не на курорт…
Доронину показалось, что ещё одно слово – и она расплачется.
– Извиняйте, извиняйте, – все так же поспешно заговорил Весельчаков, – я ведь все это в шутку. А вы чего же у трапа-то стоите? – обратился он к черноволосому. – Не знаю, как вас по имени-отчеству.
– Григорий Петрович.
– Присаживайтесь, Григорий Петрович, – с преувеличенно вежливой улыбкой сказал Весельчаков, – в ногах правды нет. А ну, подвиньтесь, друзья-товарищи, дадим Григорию Петровичу место…
Он засуетился, передвигая ящики и мешки; Григорий Петрович подошёл и присел на свой чемоданчик.
– Я что хотел выразить? – продолжал Весельчаков, – Хотел сказать, что трудно женщине в таких местах. Туда такие, вроде меня, нужны, стожильные, во всех морях-океанах просоленные.
– А сердце? – серьёзно спросил Григорий Петрович.
– Что сердце? – недоуменно переспросил Весельчаков; у него был такой вид, точно он с разбегу наткнулся на неожиданное препятствие.
– Сердце тоже просолили?
– Это… как же понимать? – растерянно спросил Весельчаков.
– А так, что на одних жилах не вытянете, – сказал Григорий Петрович. – И ста жил не хватит. Сердце тоже потребуется. А солёное – оно не годится!
Весельчаков обиженно умолк.
Наступило молчание.
– А вы, видать, человек, бывалый, – с едва уловимой иронией вполголоса сказал Григорий Петрович.
– И-эх! – обрадовался Весельчаков. – Я, мил друг, в таких местах бывал!… Я этот Сахалин моментом освою! – Он хитро подмигнул.
– Тоже по линии энтузиазма едете? – сдвигая густые брови, спросил Григорий Петрович.
Весельчаков насторожённо взглянул на него.
– Еду по призыву партии и правительства, – коротко ответил он. – Рыбку удить.
– Ясно, – сказал Григорий Петрович.
– Я вам по-честному скажу: жидковатый народ туда едет, – понижая голос, снова заговорил Весельчаков.
– Что значит «жидковатый»? – резко спросила Ольга, видимо приняв эти слова на свой счёт.
Весельчаков медленно всем телом повернулся к ней, улыбнулся и подчёркнуто миролюбиво ответил:
– Жидковатый-то что значит? Ну, одним словом, хлипкий народ. Я уж его обсмотрел. Все больше с южных морей. Северного опыту нет. Ох, и дадут им там жизни!…
– Кто же это даст им жизни?
– Стихия! – ответил Весельчаков, иронически пожимая плечами.
– Вы это говорите так, словно радуетесь неопытности людей, – неприязненным тоном сказала Ольга и отвернулась.
Весельчаков искоса глянул на Григория Петровича и замолчал.
Доронину несколько раз хотелось вмешаться в разговор. В душе он осуждал не только неприятного ему Весельчакова, но и Григория Петровича, который удивлял и даже возмущал его своим спокойствием. Прежний Доронин, конечно, не удержался бы и со всей горячностью обрушился бы на Весельчакова. Нынешний же Доронин, с безучастным видом посматривая на собеседников, продолжал перелистывать книгу Дорошевича.
«В глубине Сахалина, – читал Доронин, – таится много богатств. Могучие пласты каменного угля. Есть нефть. Должно быть железо. Говорят, есть и золото. Но Сахалин ревниво бережёт свои богатства, крепко зажал их и держит. Вот что такое этот остров-тюрьма. Природа создала его в минуты злобы, когда ей захотелось создать именно тюрьму, а не что-нибудь другое…»
Он оторвался от чтения, почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд.
– А вы, видимо, едете на Сахалин в командировку? – обратился к нему Григорий Петрович.
– Почему вы так думаете? – резко сказал Доронин.
Несмотря на доброжелательный тон, которым Григорий Петрович задал свой вопрос, Доронин невольно почувствовал себя задетым.
– Хотя бы потому, что вы не принимаете участия в нашем разговоре. Судя по всему, проблема Сахалина не слишком вас занимает.
– Скажите пожалуйста какая проницательность! – иронически сказал Доронин. – Вы, вероятно, считаете, что этого типа, – он кивнул в сторону задремавшего Весельчакова, – очень занимает проблема Сахалина?
– Нет, – улыбнулся Григорий Петрович, – по совести говоря, я этого не считаю.
– И то хорошо, – сказал Доронин и углубился в чтение.
Григорий Петрович помолчал.
– Что вы читаете, если не секрет? – снова обратился он к Доронину.
– «Сахалин» Дорошевича, – ответил Доронин уже более миролюбиво. – Разные там страсти-мордасти.
– Ну и как, действует?
Вопрос был задан с прежним добродушием, но Доронину опять почудилось что-то, задевающее его.
– Как вам сказать, – с вызовом посмотрел он на Григория Петровича. – Сильно написано!
Григорий Петрович рассмеялся.
– Вот теперь, – весело сказал он, – мне начинает казаться, что вы едете к нам на постоянную работу.
«Что он ко мне привязался? – с раздражением подумал Доронин. – Что ему надо?»
– На этот раз вы правы, – сдержанно сказал он. – Я еду на Сахалин, в распоряжение обкома партии.
– Тогда вам тем более не следует верить Дорошевичу, – продолжая улыбаться, сказал Григорий Петрович.
Доронин уже давно соображал, как ему оборвать этот затянувшийся и чем-то неприятный для него разговор. В шутливых словах случайного попутчика было нечто такое, что выводило Доронина из того состояния безучастия ко всему, которое владело им последнее время. А он уже успел привыкнуть к этому состоянию и не хотел с ним расставаться.
К тому же началась качка, и Доронин, впервые в жизни плывший по морю, всё время чувствовал, как у него кружится голова и противно замирает сердце.





