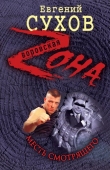Текст книги "Призванье варяга (von Benckendorff) (части 1 и 2)"
Автор книги: Александр Башкуев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
Сам же Павел весьма удивился, – куда делись его денежки? Будучи по природе человеком педантичным и въедливым, он нашел личную просьбу самого Суворова о предоставлении ему единовременного пособия в размере трехсот тысяч рублей серебром "на нужды армии", помеченную датой... через месяц после его смерти в Альпах. И это прошение было удовлетворено, а за полученные деньги расписался... сам Суворов (sic!).
Вот после таких страстей и начинаешь верить в истории о привидениях, вампирах и прочих барабашках, которые, как оказалось – густо населяли покои павловского военного ведомства. Надо отдать должное, – Павел этого так не оставил. Впервые в жизни он озаботился проблемами военного бюджета и первые же справки поставили его перед фактом. Армия, отрезанная от дома горами, лесами и морями – как бы исправно получала довольствие. Вплоть до заключения мира с Францией. А затем, в течение суток в ней якобы погибло – девяносто три процента личного состава!
История с суворовцами дело обычное и в других странах жируют казнокрады хлеще нашего. Но только в павловской России в армии стали служить не только убиенные, но и – неродившиеся. Выяснилось, что стало хорошей традицией создавать вымышленных офицеров, и, учитывая фантастические скорости производства, которые бытовали в павловской среде, эти бестелесные создания проделывали карьеры – головокружительные. К примеру, – знаменитый бригадный генерал Киже, которого никогда не существовало в природе, умудрился получить жалованья на восемьсот тысяч рублей серебром, прежде чем скоропостижно скончался.
Хоть Павел был дураком и наивцем, – но не до такой степени! Так что 26 января 1801 года он объявил о решении начать следствие, а 15 февраля произошло первое слушание о казнокрадстве в русской армии. И на нем впервые звучат имена: Беннигсен, фон Пален, Гагарин, Кутузов-Голенищев и прочие... Павел в ярости обещал казнь с конфискацией всем, кого уличат в сих преступлениях. Но кто ж о таком предупреждает преступников?!
12 марта его не стало. Во главе заговора – начальник штаба русской армии Беннигсен. Убийц подбирал – заведующий кадрами военного ведомства фон Пален. Штаб-квартирой их был дом князя Гагарина, отвечавшего за денежные отправления вне России. Двери замка им открыл сам комендант Михайловского, непосредственный начальник бестелесного Киже – генерал Кутузов.
Таковы выводы моей комиссии. Страшно жить на свете, господа...
Была ранняя весна и кругом лежал серый, ноздреватый снег. Ночью сильно подмораживало, но к вечеру лучи мартовского солнышка все растапливали настолько, что дороги превратились в сплошную кашу. В Зимнем же было слишком много жарких печей и свечи светили слишком ярко для такого случая. Запах чадящего ладана (по случаю смерти) чересчур смешивался с вонью дамских духов (по случаю приема) и меня стало мутить от жара, духоты и местных ароматов задолго до первой стопки.
Я знал, что в окружении Константина все мужеложники и педерасты, но когда я воочию увидал обтянутую кожей белоснежных лосин тугую попку нового Государя, его жеманно отставленный мизинчик, когда он пил шампань (на похоронах собственного отца!), его румяна и напудренный парик – мне оставалось только плюнуть с досады и громко сказать:
– "Это – сифилис. Больные приобретают женские черты, даже если и не грешат содомскою мерзостью. Это не вина, но – беда..." – я не стеснялся, произнося эти слова и их услыхали многие из присутствующих.
Масоны, окружавшие в ту пору юного Государя и совершившие в 1802 году "малый переворот" с "воцарением" их лидера Кочубея, – меня ошикали, но остатки "павловцев", еще вчера шипевшие в наш адрес "Жиды!", зашумели, выражая моим словам свое одобрение.
Государь, коему живо передали мои слова, не остался в долгу и, подойдя ко мне ближе, воскликнул:
– "Беда моего отца состояла не в том, что мой дед был сифилитиком, но в том, что у кого-то слишком много денег!"
Было очень жарко, душно и водка с шампанским быстро ударила нам в голову, именно этим я могу объяснить мой ответ:
– "Беда покойного была в том, что он был слишком добрым и честным. Вот и доверил свою семью, свою казну и самое себя – всякой мрази, которая его обесчестила, обворовала и под конец – кокнула. Нельзя Государю быть добрым и честным. Не царское это дело!"
Я сказал это, держа в руке стакан водки в кругу семьи, – в глаза моему родному кузену. Тот от этих слов пошатнулся, побледнел и затрясся, как бумажный лист, а его прихвостни...
Короче, – выгнали меня из честной компании, а на прощание мой венценосный кузен пошел за мной следом и уже на лестнице прошипел:
– "Чистеньким хочешь всем показаться?! Ну, так – не видать тебе моей короны, как своих ушей! Сам же сказал, что не царское ж это дело – быть добрым и честным!"
Он сказал это и пьяно расхохотался, – он тоже здорово перебрал на поминках и невольные слушатели сего разговора шарахнулись в разные стороны. Нет большего проклятия в дворцовой жизни, – чем оказаться посвященным в Государеву Тайну. Тогда я крикнул ему снизу, с лестницы:
– "Я – жид и не смею получить русской короны и – черт с ней! Зато мне не нужно убивать собственного папашу, чтоб завладеть ею!" – от моих слов Государя шатнуло, как от физического удара, а я не удержался и добавил, "Всякий раз, как будешь касаться своего венца, помни, что самый страшный круг ада уготован отцеубийцам!"
Меня выгнали из Санкт-Петербурга, а в народе пошла молва о том, что я остался последним при дворе, сохранившим верность несчастному Павлу. (Я по сей день почитаюсь вождем "умеренной" фракции павловской партии.) Жизнь странная штука.
Так новое правление началось с возвращения "инородцев" в столицу, а для меня – с опалы. Ну да как потом выяснилось, – опала была меньшим из зол, которые для меня уготовил мой милый кузен. В те дни шел разговор и о более скверных вещах.
В своей злобе и ненависти Государь пожелал уничтожить меня совершенно и для этой цели создал комиссию, которой поручил разбирательство обстоятельств "жидовского заговора, приведшего к безвременной кончине Государя Императора". Я связываю это с естественной человеческой слабостью Его Величества, – даже если бы его собственная рука нанесла роковой удар табакеркой, он и тогда желал бы, чтобы окружающие смогли ему доказать, что это не он сам возжаждал короны, но – жиды его подучили. Это – так по-человечески!
Ну, разумеется, Павла убили жиды! Жид Беннигсен, увольнявший из русской армии любого с шестнадцатой частью нашей крови, да жид Пален – автор проекта об "организованном выселении жидов в отдаленные области Сибири и Русской Америки".
Что и говорить – милые люди, а какая честь для моего народа оказаться в одной компании с этими фруктами!
И вот эта преступная шайка собралась на заседание своего трибунала с целью найти доказательства нашей вины в сем убийстве. Дело было нелегкое. При Павле евреи бежали из столицы, ибо были лишены им элементарных средств к существованию, а с 1800 года моя матушка стала в нем экономически заинтересована. До самой смерти она с удовольствием вспоминала, как аккуратно Павел платил долги (за освобождение Константина).
Смерть Павла привела к тому, что Александр отказался платить по счетам, объяснив, что деньги пошли на похороны убиенного им отца и его собственную коронацию. Матушке сии удовольствия обошлись в три миллиона рублей серебром.
(Сей хитростью Александр сам себя наказал, – перед самой войной с Францией оставшись без наших кредитов.)
Александровский трибунал так и не смог найти ни одного фактического доказательства причастности хоть кого-то из нас к этому преступлению. Люди, размахивавшие табакерками, за шесть лет до того были бойкими юнцами, нагадившими на наши вещи в Колледже. Такая у мальчиков случилась забавная эволюция. Бывают странные сближенья.
Тогда на свет Божий извлекли очередную фигуру из павловского паноптикума. Сей субъект именовался – то ли Агафоном, то ли Акакием, но его покровители были люди "мистические" и возникло "имя со значением" – Авель. (Догадайтесь с трех раз, кого готовили на роль Каинов.)
Впервые сей цветок всплыл в павловской проруби в начале 1795 года с поразительным предсказанием о скорой кончине Государыни. Мне в ту пору было одиннадцать лет, но и я мог бы сделать такое же предсказание с тем же самым успехом. Бабушка к той поре перенесла два удара с последующими параличами на правую сторону тела и один инфаркт. Смерти ее ждали со дня на день и о грядущей смене царствования рассуждали все – кому только не лень.
Господин Авель отличился в своем провидении ото всех остальных в одном пункте, – он объявил, что Государыня умрет от яда, который ей поднесут жиды и указал на Карла Эйлера. С того дня инок вещал в лучших дворцах русской столицы. Каждое его слово ловили, как откровение, надеясь хоть так опорочить мою матушку. (Эти наивцы так и не поняли, что бабушка больше млела не от племянницы, но паровиков, штуцеров и гульденов.)
Дело дошло до того, что с подачи Павла разыгралось целое дело врачей и евреям с той поры было запрещено заниматься в России врачебной практикой. (К примеру, Боткины по сей день не смеют именоваться врачами, но пишут себя -"из купечества". Судьба.)
Второе предсказание Авеля логически вытекло из первого. Он напророчил, что и Павла убьют жиды! Если учесть ту атмосферу истерии, которая все годы правления Павла царила при его дворе, эти слова упали на унавоженную почву и Павел с той поры лично копался в родословных своих министров, выискивая преступную кровь.
Правда, руки на него наложили не жиды, а – ровно наоборот, ну да не в том суть! Составили заседание следственной комиссии, вызвали туда сего Авеля, а от обвиняемых пригласили мою матушку.
Сперва, по матушкиным словам, она не знала куда пришла – в балаган, или дурдом. В залу ввели крохотного старичка самого мерзкого вида и "доморощенных запахов". Государь представил ему всех присутствующих, а когда речь дошла до моей матушки, она, прежде чем Государь успел представить ее, сама представилась следующим образом:
– "Я родная тетушка Его Величества. Я приехала из Пруссии. Мы весьма наслышаны о Ваших талантах и ждем Вас, не дождемся. Я так переживаю за судьбу моего Сашки, – не прогоняйте меня, прошу Вас!" – у всех вытянулись лица, но никто не посмел опровергнуть сих слов, – ибо все они были чистейшая правда! (Оцените сами.)
Пророк же расплылся от удовольствия. То, что перед ним стоит внучка Эйлера и урожденной Гзелль, – ему и в голову не пришло. (Я уже говорил, что у меня, моей сестры и нашей матушки внешность – "истинных арийцев".)
Так этот дикий мужичок, обдав матушку запахом кислых лаптей, дозволил ей поцеловать ему руку с такими словами:
– "Не волнуйся, дочка, я спасу тебя и твоего племянника от этого фараонова племени. У меня глаз на жидов острый – ни один не укроется!" матушка тут же покрыла руку пророка горячими поцелуями, а тот был настолько польщен ее вниманием, что и не заметил, как вдруг побледнели лица членов следственной комиссии, а по лицу Государя пошли багровые пятна.
Стало быть – "от глаз Пророка не укрыться жиду"? Как же!
Тут матушка, наконец, отпустила мужичка на волю и потребовала от него порции новых пророчеств. Ну, и – понеслась душа в рай...
Тут было и о всемирном жидовском заговоре, и о том, как жиды пьют кровь христианских младенцев, и о том, как они поклялись убить несчастного Павла и... убили (!) его. Все это было известно со времен царя Гороха и не представляло сколько-нибудь познавательного интереса, но было и кое-что любопытное. Господин Авель вдруг озаботился судьбами России, уверяя матушку, что Россию ждет третье иго. Первое было татарским, второе польским и третье грядущее – станет жидовским!
Матушка сразу поняла в чей огород этот камушек. Да и сам инок затрясся в очередном припадке с воплями о том, что жиды хотят убить Государя и готовят жидовского монарха на русский престол. Государь при сих криках вдруг сам забился в истерике и стал отползать подальше от матушки, – в условиях бездетности старших Павловичей и малолетства младших – реальными претендентами на престол стали мы – Бенкендорфы. Сыновья урожденной Шарлотты фон Шеллинг, еврейки по матери.
Матушка же что есть силы вцепилась в бесноватого старичка, чтобы тот не понял, – от кого отползает наш Государь и принял эту странную реакцию на свой счет. Ну, тот и рад был стараться!
Пустил пену изо рта, страшно закатил глаза и с дикими завываниями стал пророчить о том, какие ужасы ждут Русь под жидовским правлением. И вот, когда он распетушился до невозможности, матушка крикнула ему в ухо:
– "Имя! Назови нам имя этих преступников!"
И бесноватый забился в судорогах:
– "Бенкендорфы! Бенкендорфы ищут твоей погибели – Царь-Батюшка! Убей их! Спаси Русь от жидовского рабства!"
А матушка, будто сама одержимая бесами, взвизгнула еще громче:
– "Главный! Кто из них – самый главный?! Кто во главе заговора?"
– "Александр! Он – старший в роду Бенкендорфов. Он злоумышляет против жизни нашей Надежи и Опоры!" – Государь сам стал биться в судорогах, как – в припадке падучей.
Тут матушка резко оттолкнула от себя провидца с гневною отповедью:
– "Вы ошибаетесь, отец мой. В роду Бенкендорфов самый старший Кристофер, но не Александр. Так кто же преступник, – Александр или Кристофер?" – шарлатан растерялся. Было видно, что он недурно выучил роль, но не знает сих тонкостей.
Тут матушка воскликнула, обращаясь к судьям и следователям:
– "Ну, все вы – ответьте пророку, – кто глава рода Бенкендорфов?! Александр, или – Кристофер?" – и невольные зрители этого цирка, как зачарованные, прошелестели хором:
– "Кристофер..."
А матушка, нависая над несчастным старикашкой и сжимая его лицо своими сильными руками, закричала громовым голосом, зорко всматриваясь в бегающие глазки комедианта:
– "Так кто ж из них – жид?!" – и провидец покорнейше промычал:
– "Кристо..."
– "Почему жиды хотят сделать Кристофера Бенкендорфа – русским царем?"
– "Мамка... Мамка его – жидовка... А сам он – жиденок..."
Матушка резко отпустила свою жертву и пророк шлепнулся на пол, как куль с дерьмом. А матушка, задумчиво разглядывая свои руки, сказала в пространство:
– "Стало быть – сей Божий человек уверяет, что Софья Елизавета Ригеман фон Левенштерн была еврейкой. Чего только не узнаешь на таких сеансах... Интересно, от кого она получила сию кровь? От матери, или – батюшки? Но ведь тогда – жидовское иго уже наступило, – вы не находите?"
Мгновение в зале была гробовая тишина, а потом из среды следователей раздался смешок истерический. Через мгновение хохотали все, кроме матушки, Авеля и несчастного Государя. Люди пытались удержаться от этого неприличного хохота, они закрывали лица руками, они топали ногами, они корчились в беззвучных судорогах и...
И тут Государь, багровый, как спелый помидор, бросился на обманщика с кулаками:
– "В темницу, в крепость, на сухари и воду! Подлец! Изменник! Негодяй!" – при этом слезы градом катились по его щекам, а тело продолжали изгибать непонятные судороги. Через мгновение несчастный царь пулей вылетел из зала и побежал в неизвестном направлении. Матушка же тяжко вздохнула, потрепала дикого мужичка по бороденке и устало произнесла:
– "Эх ты... Провидец... Ты что, – не учуял, что я – еврейка? Я – та самая жидовская мамка, о которой ты тут только что бесновался. А ты меня не раскусил. Плохи стало быть дела у – твоей России...
Что вас, господа, ждет при правлении сей истерической барышни – я и представить себе не могу. Примите мои соболезнованья".
Теперь, когда матушке стало ясно, что для наших врагов я все равно был, есть и буду жидом, ничто не мешало ей совершить то, чего она всегда искренне жаждала. Она затащила к себе муллу из турецкого посольства, и я до ночи развлекал его цитатами из Корана, да так, что он – аж прослезился от умиления, не ожидав в европейцах такого рвенья к Аллаху. А под впечатлением от нашей встречи написал письмо в одно медресе, в коем просил местных служителей культа принять меня, как родного.
Матушка вскрыла это послание и чуток подправила его. Она была мастерицей по подделыванию чужих почерков и я унаследовал от нее и этот дар. Письмо отличалось от оригинала тем, что мулла просил совершить надо мной обряд обрезания, а теперь дело обстояло так, будто я им уже обрезан.
В один из праздничных дней в сентябре 1801 года я пришел домой к рабби Бен Леви, где уже собрались все наши родственники с этой стороны и многочисленные гости со всей Европы. Сам Бен Леви лично омыл жертвенный нож и, подходя ко мне, сказал, усмехаясь и подмигивая:
– "Ну, юный магометанец, доставай-ка своего дружка..." – а совершая жертву, тихо, так чтобы я один слышал, ухмыльнулся, – "Аллах акбар!"
А я, кривясь от естественной в таком деле боли, громко отвечал:
– "Воистину акбар..." – чем заслужил одобрительные возгласы и аплодисменты со стороны моих родственников и знакомых. Так я стал магометанцем. А кем бы вы думали?!
Тому, что случилось дальше я обязан только Ялькиною беременностью. Слова Иоганна Шеллинга не прошли даром и когда она окружила себя служанками и заперлась, готовя малышу "приданое", я счел себя "свободным" от всех обязательств. Да и какие могли быть "обязательства" у юноши моего положения перед его же наложницей?!
Мне как раз стукнуло восемнадцать и вихрь "светских развлечений" захватил меня целиком. Однажды, во время веселых танцев с милыми дамами, один из офицеров сказал, указав на меня:
– "Неудивительно, что юный Бенкендорф так лихо отплясывает со своей пассией. У него красивые ноги и он – знает это. Это в их роду. Ножки его сестры таковы, что просто пальчики оближешь".
Я услыхал эту подлую тираду и ни на миг не усомнился, что вся она целиком предназначалась мне лично. В те дни мы с этим господином ухаживали за одной фроляйн и она отдала предпочтение мне, хоть мой соперник и был старше меня на добрых шесть лет.
Разумеется, во всем этом не было ничего серьезного. При любом дворе всегда существуют милые фроляйн, которые ради материальных благ, или протекции исполняют любые прихоти сильных мира сего, не требуя взамен ничего сверхъестественного.
Посему я не мог не отозваться:
– "Наш друг смеет уверять, что видел ноги моей младшей сестры, или мы в этом вопросе отдадим дань изрядной дозе рейнвейна, поглощенной сим выдумщиком?" – я задал этот вопрос не моему обидчику, но моей пассии. Правда таким тоном и голосом, что окружающие не могли не слышать его.
Все мы были немного навеселе, – я по армейскому и лифляндскому обыкновению пил водку, в то время как курляндские шаркуны нагружались рейнвейном – этим сбродившим компотом католического Рейнланда. Ни один уважающий себя лютеранин не возьмет в рот капли сих поганых напитков. Мы воспитаны исключительно на пиве и водке, в худшем случае – их смеси. Пить кислый виноградный сок – обидно для нашей Чести.
А вот курляндцы предпочитают вина, – рейнвейн и мозель. Это всегда было главным и почти законным основанием для дуэлей между лифляндцами и курляндцами. Мы не пили их вина, они – нашего пива. Прекрасный повод перерезать глотку ближнему своему.
Впрочем, такие дела не новы. Во Франции дуэльная лихорадка разразилась сразу после Нантского эдикта, дозволявшего южанам-гугенотам молиться наравне с католиками Севера. В Англии же резня внутри дворянства разразилась вслед за "мирным" присоединением католической Шотландии к протестантской Англии. В Пруссии кровь хлестнула на паркеты дворцов вместе с присоединением католического Рейнланда к "лютеранской твердыне". Так что и матушкина "Инкорпорация" дала свои кровавые плоды.
Вот и этот курляндский выскочка мигом почуял в моих словах вызов к драке и теперь уже громко – для всего зала выкрикнул:
– "Увидеть ноги вашей сестры, – не проблема. Достаточно поехать в Кемери и полюбоваться на то, как она плещется после дозы шампанского в грязях, подобно любой протестантской свинье! А после этого купается в море в чем мать родила, – в компании веселых кавалеров! Вся Рига то знает, да боится сказать!"
Я, не раздумывая, бросил ему в харю перчатку:
– "Ваши слова – подлая ложь, и ты подавишься ими. Здесь и сейчас".
Мой враг со смехом отвечал:
– "Всегда к услугам – к чему терять время?!"
Нам тут же освободили место посреди танцевального зала и мы скинули мундиры, оставшись: я в егерских штанах из армейского зеленого сукна, он в щегольских кожаных лосинах; и белых рубашках – я из грубого лифляндского льна, он – в курляндском батисте и кружевах. За пару месяцев до того я присутствовал на подобной дуэли посреди танцев и по молодости удивился, зачем дуэлянты остались в одном исподнем? На что моя тогдашняя пассия прошептала со стоном: "Ах, красное на белом – это так эротично!" Так что в этот раз мне не надо было подсказывать снять мундир.
Господа офицеры тут же разбились на лифляндцев с курляндцами и стали заключать пари и делать свои ставки, а милые фроляйн сбились в одну стаю и, плотоядно облизываясь, и покусывая прекрасные губки, шептали:
– "Господи, как это ужасно!" – но толкались друг с другом, занимая место получше.
Я был выше и крупнее своего противника, но на шесть лет моложе его и, как следствие того – неопытен. У него же за плечами было уже две дуэли. Посему, должен признать, я – малость побаивался.
К счастью, я быстрее моего врага смог справиться с нервами и на пятом выпаде всадил ему "Жозефину" в левую половину груди – почти по рукоять. Впоследствии выяснилось, что рапира прошла в пальце от сердца моего обидчика и все для него обошлось. Но в тот миг я думал, что заколол его и, выдернув шпагу из страшной раны, воскликнул:
– "В добрый путь, милостивый государь!" – он тут же рухнул на пол, как подкошенный, а изо рта у него полезли кровавые пузыри.
Я к тому времени сам был оцарапан в левую руку и рукав моей рубахи здорово пропитался кровью. Так что моя возлюбленная тут же бросилась ко мне, собственноручно оборвала залитый кровью рукав и обвязала мою ранку дамским платочком, впившись в меня с поцелуями, как черт в грешную душу.
Раненого тут же унесли с глаз долой, а кровавое пятно посреди залы посыпали толченым мелом с опилками. Оркестр грянул самый непристойный и развратный танец этих времен – австрийский вальс. Я подхватил мою одалиску на руки и через мгновение все общество неслось по кругу в таком возбуждении танца, что еще немного и пары занялись бы соитием прямо посреди зала, а всякие следы недавнего инцидента стерлись нашими сапогами и дамскими туфельками.
Но на душе моей было нехорошо. Стоило Дашке достичь пятнадцати лет, она на глазах распустилась и похорошела, как майская роза. Вокруг нее тут же стали виться стаями кавалеры, которых я в шутку называл "опылители". Дашка при сем заразительно смеялась, кокетливо играя глазками и напоминая, что ей всего лишь пятнадцать.
Но я уже заставал ее за довольно двусмысленными играми в кругу ее фрейлин – подружек по бабушкиному пансиону и молодых офицеров. Они в один голос уверяли меня, что это обычные развлечения русского двора, к которым все эти ангелочки привыкли с младых ногтей. А если вы знаете нравы моей бабушки и ее двора – тут было над чем почесать голову.
Так что я с каждой минутой все больше терял душевное равновесие. Вскоре я не мог уже думать ни о чем другом, кроме как о Дашкиных голых ногах и обстоятельствах, при которых они демонстрировались публике. Тут я вспомнил пару Дашкиных кавалеров. Их я частенько заставал за фривольными играми с моей сестрой и они были зрителями давешней дуэли, но теперь – вдруг испарились самым мистическим образом.
Кто-то подсказал мне, что оба молодых человека сразу после вальса, завершившего мою дуэль, откланялись и ускакали в неизвестном направлении. Я сразу же заседлал мою лошадь и приказал прочим моим сторонникам остаться с дамами, – мы не хотим скандала и кривотолков. С собой же я взял только пару кузенов – Бенкендорфов по крови, которым доверял, как самому себе.
Через полчаса мы были в Кемери, в доме, из которого мы вышибли ненавистных Биронов сразу по завоевании Курляндии. Теперь этот особняк принадлежал Рижскому магистрату. На этом основании в нем теперь отдыхала исключительно наша семья и наши родственники и знакомые.
Слуги при нашем виде разбежались в ужасе. Столовая была в ужаснейшем беспорядке. Стол пуст, но стулья раскиданы по всей зале, а на скатерти полно крошек и пятен от еды и питья. На кухне я приказал накинуть петлю на крюк для свинины и только после этого мне открыли шкафчик с вином и пустой посудой. Я насчитал там с гору пустых бутылок из-под шампанского, – из полудюжины еще попахивало свежим алкоголем. Я спросил, кто пил вино и старый мажордом, вечно прислуживавший нашему дому, пал на колени и с дрожью в голосе признался, что – пригубил малость.
Я поднял старика с колен за шиворот и заставил дыхнуть. Наш верный слуга был трезв, как стекло, и я процедил сквозь стиснутые зубы:
– "Спасибо за службу, верный пес. За обман – лично будешь пороть розгами эту сучку, если я найду ее виноватой. Понял?" – старик, дрожа всем телом, и часто крестясь, покорно кивнул головой. Мы же с моими кузенами поскакали в наш домик на взморье – в трех верстах от особняка в Кемери.
Там все было тихо и покойно. Мирно потрескивал камин, у мягкой постельки с двумя взбитыми подушечками стоял ночной столик с приборами на двоих и ведерко со льдом, в коем плавала бутылка шампанского. В вазочках лежали фрукты, в блюдечках – заветривались ломтики сыра со слезой и красная рыбка. Сильно пахло жасмином с пачулями.
Я молча вышел из этого гнездышка и в гробовой тишине сел на свою лошадь. Служанки с нескрываемым ужасом наблюдали из всех щелей за каждым моим движением. В душе моей свирепствовали все силы ада.
Я прибыл в наш рижский дом, сестрины девки пытались загородить дорогу в ее покои, но я их расшвырял в стороны, как котят. Кузены встали на часах у дверей в спальню. Я же вошел к негоднице.
Здесь попахивало перегаром от шампанского и мускатными орешками. Несчастная разгрызла целую пригоршню в надежде отбить предательский запах. Я откинул одеяло, – Дашка лежала в ночной сорочке, сжавшись калачиком и усердно делая вид, что крепко спит. Я не поверил ей:
– "Сударыня, я не буду пороть вас... Это бесполезно и бессмысленно, и только добавит грязи к имени нашей семьи.
Кто-то из ваших друзей слишком распустил свой язык. Сейчас вы назовете имена всех ваших кавалеров, не указывая, кто именно из них... уже.
Я обещаю, с их головы волоса не упадет, ибо мне дороги желания моей сестры, как – мои собственные. У всех, кроме одного-единственного. Надеюсь, вы не будете на меня в обиде за такую вольность. Итак, я вас слушаю".
Моя сестренка вскочила с постели, обвила меня руками, и рыдая от счастья и облегчения, прошептала:
– "Ты правда – не сердишься на меня? Ты – такой славный!"
– "Сержусь. В другой раз выбирай себе менее говорливых любовников".
– "Ты обещаешь, что не тронешь никого, кроме – предателя?"
– "Нет. Возможно – таких говорливых более одного. Тогда я им всем собственноручно вырву... сама знаешь что. Но – только у них. Обещаю".
Тогда моя сестра во всем призналась. Список вышел значительным и я чуть в сердцах не надавал ей оплеух с вопросами, – со сколькими из них она уже переспала, но...
Мне понравилось, что спальня в домике на взморье была приготовлена для двоих. Раз женщина в ее возрасте уже умеет заниматься любовью с понятием и расстановкой, – сие означает – она созрела. А спорить с Природой в сих делах – глупо. Тем более – глупо ссориться из таких пустяков с родимой сестрицей.
Выяснить, кто из Дашкиного списка раскрыл рот, труда не составило. Большинство поклонников были юноши благоразумные и, памятуя о нравах нашей семьи, не афишировали личных побед. За вычетом одного малого, который любил выпить лишку и под влиянием алкоголя терял голову.
Кстати, Дашка оказалась умна и не спала с этим субчиком. Держали же его при себе за веселость нрава и легкость характера, – он немало смешил честную компанию своими забавными выходками.
Как только я установил виновника сих неприятностей и определил слабые и сильные стороны его характера, у меня созрел план мести сему господину. План, совершенно обеляющий мою сестру и Честь нашей семьи.
У нашей семьи был в Риге один любопытный дом – лавка. Вернее, – три лавки. В каждой из лавок была потайная дверка, которая вела на второй этаж этого большого, вместительного здания.
Из одной вы попадали в прелестный будуар с роскошным альковом на десять человек и всеми нужными в галантных делах причиндалами. (От бронзовой ванны и сладких помад, до... стальных оков и набора плеточек – для поклонниц неистового маркиза.) Многие из прелестниц обменяли мое золото на свое главное девичье достояние – именно в этой кровати.
Из другой лавки крутая потайная лестница вела в уютную столовую с батареей бутылок лучших вин, которыми нас только одарила Природа. Здесь же был обеденный стол, стулья, ломберный столик с мягким диванчиком и комплекты карт и костей. (Иные любят вист и попойку крепче девиц.)
Из третьей лавки гости поднимались в огромный кабинет, забитый книгами, шахматами и научными журналами, а на спиртовках рядом пыхтели изогнутые реторты и кофейники. (В природе встречаются и такие...)
Задние стены алькова, столовой и лаборатории были украшены огромными зеркалами. С другой стороны трех стен с зеркалами была еще одна комната, в которую имели доступ только мы с матушкой и наши верные слуги. Там были "тайные" свечи, – не дающие света наружу, и удобные конторки, – быстро писать чужие беседы.
Именно сюда я и привел мою сестру со словами:
– "Будешь сегодня вечером здесь со свидетелем. С него ты возьмешь клятву, что он забудет об этой комнате и этом стекле. Как придете, потяни этот шнур. Я пойму, что вы тут. Ясно?"
Дашка быстро закивала головой. В ее глазах плеснулся настоящий ужас. В тот день я не понял его причин, но потом я часто видел такое же выражение в глазах прочих, случись мне посвятить их в мои тайны. Ведь с этой минуты либо я доверяю этому человеку, либо шлю пышный венок "верному другу – товарищу". Старый добрый обычай нашего Ордена.
Вечером, после попойки в тесном кругу я вытянул болтуна на улицу и уговорил на еще один штоф. Тот, воображая меня другом, с радостью согласился. Мы прибыли в заветный кабинет и я без всякой жалости стал накачивать его до полного омерзения. Комедия длилась недолго, – вскоре я приметил условленный знак и хлопнул моего собутыльника по плечу:
– "Ладно, снимай штаны", – в первый миг на его лице было настолько остекленелое выражение, что я даже напугался – не перепоил ли его?! Но тут он протрезвел и чуть заплетающимся языком спросил: