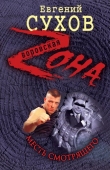Текст книги "Призванье варяга (von Benckendorff) (части 1 и 2)"
Автор книги: Александр Башкуев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
Ко мне пришел голубоглазый и светловолосый дяденька небольшого росточка. Он долго смотрел на моего Венци, а потом вытащил пистолет, зарядил его и вложил в мои руки, сказав при этом:
– "Это твоя лошадь и ты сам должен убить ее. Она – неизлечимо больна и к тому же заразна. Чем дольше она стоит в этом стойле, тем выше опасность заразить прочих лошадей и тогда другие мальчики будут плакать по их любимцам. Ты – внук моего командира, барона фон Шеллинга, я не должен объяснять тебе, каковы твои обязанности перед твоими друзьями и лошадьми твоих друзей. Я жду на улице".
Он сказал эти страшные слова и вышел из конюшни, а я впервые обратил внимание на то, что соседние стойла с моим Венци – давно пусты. А еще пусты стойла дальше по проходу, – тех лошадей чаще прежнего стали выводить на прогулку, причем открыли дальние двери и теперь лошади не проходят мимо стойла моего верного друга...
Господи, как же я плакал в тот день... А Венци стоял рядом со мной, будто все понимал и только губами будто целовал, да облизывал слезы на моих щеках. А потом я вложил дуло пистолета в ухо моей лошади и нажал...
Сразу откуда-то появились люди... Венци упал... Я выронил из ослабевшей руки пистолет и, не разбирая дороги, пошел на выход. Там меня поймал Давид Меллер, он хотел что-то сказать, но я оттолкнул его, наговорил каких-то гадостей и убежал куда-то, не помню куда, забился там в какой-то темный уголок и плакал там, пока не заснул.
А когда проснулся, мне стало так совестно, что я оскорбил единственного человека, который осмелился сказать мне правду и объяснить, что я – потомок фон Шеллингов обязан сделать в этой ситуации. И я пошел в расположение Рижского полка, сказал, что мне нужно найти капитана Меллера и меня пропустили.
Я нашел дядю Додика сильно пьяным. Он сидел в своей комнате за столом, на котором стояла пустая бутылка из-под шнапса и пустой стакан, пахнущий водкой. Я подошел к дяде Додику, встал перед ним на колени и повинился:
– "Господин офицер, простите мне мою неуместную выходку. Я осознаю, что мое поведение было недостойно будущего офицера и дворянина. Я был в состоянии аффекта, простите меня".
Пьяный капитан на глазах протрезвел, затянул верхний – единственный расстегнутый крючок на его безупречной форме, встал из-за стола, убрал бутылку со стаканом в сторону и строго сказал:
– "Господин будущий офицер, Вы – прощены. Но в будущем старайтесь держать свои нервы в руках. Помните, что Вы – офицер германской армии и вам не пристало иметь какие-либо эмоции. Держите себя в руках, – это Вам пригодится для разговоров с солдатами. У Вас есть пара минут свободного времени?"
– "Да, так точно".
– "Прекрасно, тогда пойдемте в конюшни. Сегодня у нас замечательное событие. Моя личная кобыла сегодня как раз ожеребилась и это важно, чтобы маленький с первого дня стал привыкать к своему хозяину. Близко Вас мать, конечно же, не допустит, но малыш должен запомнить ваш голос и запах – сие важно.
Ты уже почти взрослый, – тебе нужна настоящая лошадь, но не детский пони. Я понимаю, что никто, конечно же, не сравнится с твоим Венцлем, но жизнь – штука долгая, а Господь так устроил мир, что лошадиный век короток. Тебе еще не раз придется прощаться с друзьями... Держись. Ты – офицер".
Он говорил мне эти слова и мы шли по казармам Рижского полка и дядю Додика можно было бы принять за совсем трезвого, если бы на поворотах его чуток не пошатывало и глаза его не были столь багровыми и маслянистыми.
Я увидал моего будущего коня, против всех законов и обычаев настоял на том, чтобы его тоже назвали – Венцлем, а потом кобыла дяди Додика так доверилась нам, что даже сама взяла из моих рук корочку хлеба с солью, а маленький Венци стоял рядом и прядал ушами, приглядываясь ко мне своими черными и очень умными глазками. Но я уже был достаточно большим, чтобы не поддаться моменту и не протянуть руки к нему – приласкать малыша. Матушка его меня бы не поняла.
Потом мы сидели с дядей Додиком на скамеечке у ворот конюшни и он рассказывал мне множество самых занимательных историй про лошадей, которые только знал, а я настолько ими увлекся, что и не заметил, что на дворе глубокая ночь и около нас переминается с ноги на ногу моя глупая, старенькая бонна. Наконец, сам дядя Додик обратил мое внимание на поздний час и предложил прийти завтра, обещав показать, как моют и вычесывают лошадей. А на прощание сказал так:
– "Приходи чаще. У меня самого где-то растет вот такой же сорванец вроде тебя. Я вот все разговаривал с тобой и думал, что бы он сделал на твоем месте? Вырастет ли из него настоящий офицер?"
– "А что с Вашим сыном?"
Дядя Додик потемнел лицом и, подмигивая мне, признался:
– "Девичья фамилия моей матушки – Раппопорт. На этом основании меня попросили с военной службы, а мать моего сына развелась со мной, сказав, что я обманул ее доверие, не сказав ей о матушке до свадьбы...
Знаешь, пока топится кровавая баня, многим старшим командирам сложно разглядеть в пороховом дыму форму носа и ушей младших офицеров, а гул канонады приглушает особенности выговора. Но стоит войне стихнуть... При маршировке на плацу, или – скажем, перед важным парадом, въедливое зрение и острый слух вдруг возвращаются к владельцу. И начинается...
Если бы твой дед не взял всех нас в Америку, мне бы, к примеру, оставалась только – пуля в лоб. Я же ничего не умею, кроме как скакать на лошади, махать саблей, да орать команды дурным голосом. А из Америки я сразу приехал в Ригу – так что и не знаю, где мой сын и – что с ним. Приходи завтра. Я разрешу тебе самому помыть лошадь и даже – потом ее вычесать!"
Я пришел на другое утро. А потом всякое утро, когда я бывал в Риге, я "прибывал в расположение" Рижского конно-егерского полка и учился стрелять, ездить верхом, владеть всеми видами оружия и приемам верхового боя. Отец научил меня владению клинком в пешем порядке, но именно дядя Додик сделал меня лучшим "верховым рубщиком" всей Империи.
У нас с ним никогда не было разговора на сию тему, но сдается мне, что судьба распорядилась так, что мы сразу – понравились друг другу и мне от дяди Додика досталось все то, что обыкновенно полагается родным детям. Так что именно от "старого жида", как он себя называл, я и получил все навыки армейского быта, а самое главное – этакую "прививку" от обратной стороны армейской рутины.
Когда в 1812 году я стал генералом двадцати девяти лет от роду, я в сердцах написал на оборотной стороне приказа, что из меня такой же генерал, как из быка – балерина, а вот настоящего генерала – военного Божьей милостью, так до шестидесяти лет и продержали в полковниках. А после того как он сложил свою золотую голову под Фридляндом, хоть бы кто вспомнил о его семье – о его безвестном сыне!
Но меня не поняли. Решили, что это "очередная шаловливая выходка". А в ответном письме начальник Штаба – граф Беннигсен отвечал мне в том духе, что мол – "жиду довольно было и полковника, в Пруссии-то он так и помер бы капитаном".
В этом граф был, разумеется, прав. Но я очень хорошо запомнил этот ответ. Мы и до этого-то были не в самых хороших отношениях.
Дело же мое кончилось самым образом. Матушка доказала практически невозможное: дед был совсем даже не немцем, но итальянским швейцарцем, да вдобавок ко всему и католиком! Скандал случился невероятный, – матушка при всех плакала, когда ей пришлось открыть столь позорные обстоятельства. Родство с "итальяшками" во всей Германии всегда считалось более чем предосудительным. Упоминание же о том, что ее родной дедушка был католиком, вызвало в латышах столь противоречивые чувства, что потребовалось специальное заседание рижского магистрата, на котором было принято решение, что внучка не может отвечать за "религиозные заблуждения" ее деда и матушку публично "простили".
Впоследствии многие утверждали, что наших противников сгубила чрезмерная уверенность в себе, – им надо было сосредоточиться не на моем прадеде, но на его жене – урожденной Гзелль. Она была из семьи придворных художников и скульпторов и ее отец (негласно) создал первый в Санкт-Петербурге молельный дом и был там реббе.
По счастью, суд при изучении российских архивов столкнулся с определенными трудностями, вызванными тем, что моя бабушка сразу заявила: "Шарлотта – моя племянница, моя кровь и для всех остальных этого должно быть довольно". Но не это – самое удивительное. Ровно так же. Как из Санкт-Петербурга следователи не нашли русских архивов, из Берлина к ним не пришли архивы пруссаков!
В итоге нас с Дашкою признали "немцами" и "истинными арийцами". На сем Суд и кончился.
Ровно через неделю после Суда из России и Пруссии прямо аж повалили бумаги о нашем еврействе. Наши обвинители бросились к судьям и услыхали, что "по германским традициям в вопросах о Крови" рыбка задом не плавает. Когда же наши враги совсем было отчаялись, кто-то вдруг вспомнил, что у нас есть младший брат – Костик.
Тут же устроилось новое следствие, на коем об Костьку заочно не вытер ноги только ленивый. Когда его официально объявили "евреем", немецкая публика устроила прямо овацию!
Но больше всего всех изумила реакция моей матушки. Она на глазах всех вышла к тому самому обвинителю (немножко фанатику), облобызала его в обе щеки и с чувством сказала:
– "На таких как вы – держится мир!"
Окружающие решили, что у матушки временное помутненье рассудка. Лишь к 1816 году всем вдруг открылось, что Костька, как жид, не смеет претендовать на нашу с Дашкой недвижимость. Как видите, – в делах династических порой нужны и фанатики!
Стоило суду объявить приговор, матушка отправила меня изучать Закон Божий к Арье бен Леви. При этом она произнесла ее знаменитую речь, в которой высказала надежду, что этот церковный суд был последним в истории Риги, и более она не допустит подобного варварства. Она же отдает сына – немца в синагогу, именно потому что она не считает евреев, немцев, или латышей ни лучше, ни хуже прочих других людей и сын ее отныне будет учиться среди жидов, потому что жиды ничем не отличаются от немцев ни в худшую, ни в лучшую сторону.
Где бы я ни бывал, что бы я ни делал, я всегда натыкался на людей, которые в один голос могли повторить хотя бы основные положения матушкиной речи и четко представляли себе, что я – ее сын.
Долго ли, коротко ли прошло время – наступил 1793 год. Годом раньше русские армии под командованием графа Суворова приняли участие во Втором Разделе Речи Посполитой. Матушкины же латыши, несмотря на все ее горячие мольбы, к войне допущены не были, а Курляндия так и осталась – польской. В Риге это вызвало очередной взрыв антирусских настроений и все чаще стали раздаваться призывы к немедленному отделению от России. И вот – осенью 1793 года к нам в Ригу пришло письмо от моей бабушки, в коем та предлагала обсудить мою будущность.
Бабушка желала, чтоб я начал свое обучение в Пансионе Иезуитов Аббата Николя. (Практически единственной на всю Империю школе, где учили разведчиков и дипломатов.)
Письмо это вызвало в Риге целую бурю страстей, – матушка в течение трех дней обсуждала все возможные варианты развития событий, а также политические последствия как поездки, так и непоездки в столицу.
В самом конце октября, в день закрытия торгов Рижской Оптовой Ярмарки матушка обнародовала свое окончательное решение. Мы с нею едем в столицу Российской Империи без охраны в надежде только на добрую волю моей бабушки Государыни Императрицы. После пяти лет фактического мятежа и изгнания русских войск из пределов Латвии. (Да еще в иезуитскую школу – меня, протестанта!)
Когда матушка зачитывала решение перед магистратом, Карлис вдруг побледнел, как смерть, бросился к ней, упал на колени и на всю Ригу выдохнул:
– "Если ты белены объелась, сына-то пощади! Убей меня, но пока я жив,сына на смерть я не отдам!" – все так и ахнули. Вся Латвия, разумеется, знала – кто мой отец, но впервые он сам признал это. Да еще при таких обстоятельствах!
Матушка тоже побледнела, попятилась от отца, а затем еле слышно ответила:
– "С Сашей ничего не случится. Порукой в том – наши егеря. Русская армия ничего не стоит – ты сам введешь наших людей в Санкт-Петербург и поквитаешься за меня и сына, если с нами что-то случится. Я составила завещание – Ян Уллманис наследует Александру Бенкендорфу, но лишь в том случае, коль Карл Уллманис отомстит за смерть Александра".
Помню, как я стоял посреди Рижской Ратуши и слушал и не слышал матушкины слова, а рядом со мной стоял Озоль – Ян Уллманис. Губы Озоля безмолвно шевелились – он читал какую-то молитву, а потом он повернулся ко мне, облизал пересохшие губы и прошептал:
– "Ты верь мне, Сашка, я – твой младший брат и ни против тебя, ни против твоих детей – не пойду", – и мы с ним крепко обнялись. Нам было по десять, но дети живущие в непосредственной близости от престола, рано осознают, что есть – вопрос династический.
Тут от слов Озоля матушка опомнилась и объяснила:
– "Государыня боится, что Латвия отделится от России. Поэтому, прежде чем дозволить нам поход на Курляндию, она намерена взять заложника. Такого заложника, жизнь коего для меня значила больше – латвийского трона.
Я думаю – нам нужна Курляндия и русское покровительство. Во-вторых, я считаю, что моему сыну не повредят знакомства и дружба русских вождей – нам суждено вечно граничить с Россией и нашему принцу важно иметь побольше друзей при русском дворе.
Я привела свои резоны и теперь прошу моего верного слугу встать с колен и забрать свои слова обратно. Я знаю, на что иду в берлогу медведя, но -иного пути у нас нет".
Члены магистрата зашумели, раздались аплодисменты, а мой отец, не вставая с колен, стал целовать руки матушке, прося у нее прощения за несдержанность, а она – простила его.
В ту осень супруги Бенкендорф искренне пытались примириться между собой и Кристофер, дабы развеять матушкины опасения за мою будущность, даже сыскал цыганскую ведьму, которая гадала на звездах и умела предсказывать.
Ведьма знала, кто ее очередные клиенты (не догадываясь, – насколько у нас с Константином – разные отцы и даже – матушки) и сразу сказала, что наши с Костькой судьбы будут связаны с судьбами наших тезок – Романовых:
– "Все четверо мальчиков вырастут и прославятся великими военачальниками. Всех четверых ждут известность и слава, и всем четверым суждено стать вождями политических партий. Но наступит день и принцы латвийские скрестят шпаги с принцами русскими и в этой дуэли в живых останется только один. Но ему – не суждено царствовать".
Матушка упала в обморок, а Кристофер рассказал о сем за обеденным столом у Наследника в том смысле, – какими дурацкими бывают иные пророчества. Через много лет свидетели этого обеда припомнили, как мой дядя смотрел при этом на жену своего повелителя, а та на миг застыла, как перед разверстой пропастью, но сразу перекрестилась и сделала вид, что не слышит. Рассказывают, что матушка моя, заметившая эту странную реакцию, изумленно приподняла бровь и задумчиво посмотрела на старую подругу (они вместе учились в пансионе Иезуитов), а потом на своего мужа, но так и не проронила ни слова. Сам же Наследник обратил все в забавный анекдот про темных гадалок.
Матушка уж надеялась, что все дело анекдотом и кончится, когда в двери нашего дома постучался личный фельдъегерь Ее Величества и передал приглашение на аудиенцию "Шарлотте Бенкендорф с сыновьями – А.Х. и К.Х. Бенкендорфами".
Вот тут уж матушка всерьез упала в обморок и ее добрый час отпаивали ландышевыми каплями и терли виски нюхательной солью. Когда же матушка очнулась, она приказала срочно одевать меня и запрягать сани. Мы немедля возвращаемся в Ригу.
Дворня не поняла, что одевать надо меня одного. Истинная Костькина мать бросилась к моему дяде на службу, тот прибежал с ватагою офицеров и вышел очередной семейный скандал.
Генерал обвинял матушку, что она намерена украсть у него ребенка, а когда матушка изругала его последними словами и выскочила со мной на улицу, выяснилось, что за то время пока они препирались, офицеры охраны Ее Величества, пришедшие вместе с Кристофером, распрягли наши санки и увели всех наших лошадей на какие-то празднества.
Тогда матушка вернулась домой и написала записку прусскому послу, чтобы тот подал прошение матушкиной кузине с просьбой о направлении меня в какой-нибудь из германских Университетов с целью изучения богословских наук.
К сожалению, вместо ответа на записку очередной фельдъегерь привез матушкину порванную бумажку и устный совет Государыни Императрицы не спешить с определением моей судьбы. Обучение в чужедальнем Университете дело долгое, а Германия славится своим скверным климатом. Государыня же настолько дорожит своими внуками, что не желала бы потерять хотя бы одного из них из-за какой-то дурацкой простуды.
После этого визита у матушки случился второй обморок и очнулась она уже поздним вечером, когда ворота нашего дома были уже заперты и их охраняли офицеры лейб-гвардии Ее Величества, посланные дабы никто не смог потревожить ночного покоя Государыниной племянницы.
В общем, ночь была нервной и наутро у меня с Константином глаза слипались от усталости.
Наутро нас троих привезли во дворец и матушка перед самыми дверьми Ее Величества немилосердно отхлестала меня по щекам, иначе бы я упал прямо к ногам Государыни Императрицы и забылся глубоким сном. Она отхлестала меня столь жестоко, что у меня аж слезы выступили, а щеки горели так, будто у меня – скоротечная чахотка.
Я не помню ни об убранстве комнаты Государыни, ни о том, какая была погода на улице – слишком много воды утекло с того самого дня. Я помню только ужасную обиду на матушкины пощечины и невероятное, почти животное чувство страха, которое мне передалось от нее. Я боялся бабушки до такой степени, что у меня свело живот! Если бы не аудиенция, я заперся бы в клозете и просидел там до самого вечера. Нет, эта аудиенция запомнилась мне на всю жизнь.
Интересно, что я не очень хорошо помню бабушку. Она почему-то представляется мне этаким белым облаком жира и жасмина, которое сразу поползло в нашу сторону, стоило нам войти в кабинет.
У облака был чуть дрожащий от старости голос, необычайно сильные и цепкие руки – морщинистые и узловатые на запястьях, на которых росли неестественно белые, будто точеные, пальцы с длинными, ярко накрашенными ногтями. Будто когтями хищной птицы. Если бы мне в ту минуту сказали, что бабушка любит ужинать десятилетними мальчиками, я бы поверил этому, не задумываясь.
Эти ужасные, мертвенно-холодные пальцы придвинулись к моему лицу, впились в мои щеки, и откуда-то из глубины облака заскрипело:
– "Покажи-ка мне моего внучка. Второго-то я каждый день вижу, а вот на "принца латвийского" не любовалась. Хорош. Хорош..."
Она так больно сдавливала мои щеки и так царапала их ногтищами, что я не вытерпел. Нет, если бы матушка не отхлестала меня перед этим, я бы, конечно, сдержался, но тут два мучения наложились одно на другое и я так испугался заплакать перед царицей, что почел меньшим злом взять ее жирно-костлявую руку и отвести от моего лица со словами:
– "Простите меня, Ваше Величество, – Вы делаете мне больно".
На пару минут воцарилось молчание, матушка даже задержала дыхание от моей выходки, а Государыня... Она тут же оторвала руку от моего лица и даже отступила на шаг в сторону. Затем она медленно, стуча клюкой, обошла меня кругом (у нее тогда уже сильно развилась водянка и она не могла ходить без палки) и снова остановилась передо мной. Потом она пригнулась ко мне и я до сих пор помню особую смесь из запаха вкусной помады, жасмина и стареющей плоти, которыми пахнуло на меня.
А еще я увидал глаза Государыни, и этого зрелища мне не забыть до конца моих дней. Представьте себе, у этого ходячего трупа, у этой горы жира и вонючего мяса были молодые глаза! На меня смотрела если не юная озорная девушка, то смешливая, веселая женщина лет тридцати – не больше.
Она подмигнула мне, и один из ее лучистых, серовато-голубых глаз на миг закрылся старым, морщинистым в старческих пятнах веком и мне стало так жаль ее – это несправедливо... Несправедливо, что тело старится быстрее души и я, чтобы утешить царицу, сказал:
– "Зато Вам есть, что припомнить. Ведь Вы ни о чем не жалеете, правда?"
Мои слова прозвучали так нежданно-негаданно, что Государыня прыснула, будто монетки просыпались, сразу закашлялась и побагровела. Матушка даже бросилась к ней в опасении худшего.
А Государыня, насмеявшись вдоволь, сказала:
– "Позабавил ты меня, внучек, ой – позабавил. Мне уж о погосте пора, а ты все на старые мысли... Позабавил. Скинуть бы мне годочков сорок, да тебе накинуть двадцать – то-то бы мы позабавились! Хочешь орешков? Вкусные, медовые, нарочно для тебя заказала".
Протягивает мне горсть медовых орешков, а у меня хоть плачь – сенная болезнь к меду. Вот и прикиньте, что лучше: обидеть Государыню второй раз, или обчихать с головы до пят?
Я сделал страдальческое лицо и сказал:
– "Простите меня, Ваше Величество. Я тут провинился – переел сладостей, что были приготовлены моим отцом для меня и теперь у меня зуб болит – спасу нет".
Бабушка пару минут сдерживалась, а потом лукаво глазами – то на меня, то на матушку, а потом опять – как прыснет со смеху:
– "Зуб у него болит! Ты благодари Бога, что я не Петр Алексеевич, он-то любил таким вот придумщикам самолично зубы драть. Ему от чужой боли слаще елось, да пилось, – и сынок мой весь в своего предка! А ты – мой. Наша кровь.
Спасибо, мать, за внука, – порадовала ты меня, ой, порадовала. Слушай, ты знаком с кузеном – моим внуком Сашкой?"
– "Не имею чести".
– "Ну да ладно, с Сашкой-то у тебя в годах разница, а вот с Костькой я тебя познакомлю".
– "Не имею желания", – ответил я, и сам испугался сих слов.
Бабушка насторожилась, посмотрела внимательно и говорит:
– "Почему ж это ты не хочешь с ним познакомиться?"
– "Все кругом говорят, что им суждено убить меня, зачем же мне знакомиться со смертью?"
Бабушка наклонила голову, будто долго прислушивалась к чему-то, а потом тихо сказала:
– "А ведь ты и вправду – настоящий фон Шеллинг. Наша кровь. Черт побери – наша! Жаль будет, если мои недоноски доберутся до тебя, право слово... Учить тебя надо... Слышишь, Шарлотта, надобно учить твоего первенца – жаль если такие задатки пропадут для России".
В матушкином горле что-то пискнуло и она упала на колени перед бабушкой и стала обнимать ее за ноги, говоря, что я еще мал для учебы. Тут Государыня жестом повелела мне отойти дальше, сама поковыляла к своему креслу и они на целый час с матушкой стали поглощены разговором.
Я все это время так и простоял навытяжку, ожидая решения своей участи, а Костька добрался-таки до вазочки с медовыми орешками и сожрал добрую половину сладостей. Сожрал, а потом и захрапел с очередным орешком в кулаке прямо на собачьих подушках. Ну что с него было взять – шесть лет малышу.
Тут матушка с бабушкой кончили свой странный торг и вернулись. Государыня еще раз протянула свою когтистую руку к моему лицу, чтоб лучше рассмотреть меня (к старости она стала хуже видеть), но вдруг отдернула руку и я вздохнул с облегчением. Некрасиво дважды подряд противоречить Ее Величеству, но и нельзя, чтобы тебя унижали, когда ты уже выказал свое отношение. Так говорила матушка. Поэтому, чтобы помочь бабушке, я нарочно подошел к свету, и она долго стояла у самого окна и рассматривала меня, будто не могла наглядеться. А потом обещала:
– "Запомни на всю свою жизнь, Сашка, коль угодишь в беду – говори всем, что ты – мой внук. Ты первый из внуков, кто стал мне перечить, и пожалел меня – бедную, а этого я не забуду".
Затем обернулась, ища глазами Костика, увидала его храпящим промеж собачек и, с видимым неудовольствием в голосе, произнесла:
– "Вы посмотрите на этого поросенка – вылитый Бенкендорф! Ничего не говори, душенька, я сама была замужем за таким же сокровищем и, как же я тебя – понимаю! Боже, какая мерзость".
На том моя первая и последняя встреча с Государыней и закончилась. Нас троих вывели из покоев Ее Величества. Вслед за нами вышел лакей с совочком, в коем лежали орешки. Я был так потрясен этим зрелищем, что даже спросил у матушки, неужто Государыня так разозлилась на Костьку, что приказала выбросить за ним сладости, но матушка загадочно покачала головой и еле слышно ответила:
– "Сие – испытание. Фон Шеллинги не выносят меду. У самой Государыни от него до крови свербит. Но ее муж – Петр Третий любил медовые пряники и сын Павел – любит. И внуки любят – так что у нее много медовых орешков, да пряников. Ты первый из внуков, кто выказал к ним фамильную неприязнь. Поздравляю".
Точной даты прибытия в Колледж я не помню, – мы с матушкой вернулись в Ригу и я справлял Рождество дома. В том году матушка дала роскошный рождественский бал в здании театра и было очень весело – особенно, когда прочие разъехались и остались только свои. В ту пору кровь "лифляндских жеребцов" уже дала о себе знать и я вовсю ухаживал за актрисой Деборой Кацман. Все это было по-детски и весьма наивно, к тому же Дебби – старше меня на добрых семь лет, так что с ее стороны такое внимание к моей персоне было скорее знаком вежливости к моей матушке. Однажды мы с ней так нацеловались, что я даже принялся ее раздевать и ей стоило больших трудов убедить меня, что в театре много народу и в комнату могут войти. Не стану же я компрометировать мою возлюбленную! Господи, а ведь мне было всего десять лет тогда...
В последний вечер перед отъездом мы с Дебби долго катались на санках по льду залива. В небе стояла огромная луна и снег искрился, искрился и шуршал под полозьями. Я сидел на месте извозчика в легком полушубке, лифляндской фуражке, отороченной мехом, легких шерстяных штанах, новеньких яловых сапогах (мне их сшили по особому заказу – нарочно для Колледжа) и кожаных перчатках с гербами фон Шеллингов и – знай себе, погонял лошадей. Дебби была в артистическом платье (даже туфельки – атласные, несмотря на мороз) и поэтому всю дорогу она куталась в медвежью доху, которую я подарил ей на прощание.
Мы остановились посреди совершенной ледяной пустыни и я целовал ее глаза, губы и шею, а она шептала в ответ, что обязательно меня дождется. А если поднять глаза вверх, было видно бездонное черное небо, сплошь усыпанное звездами, и откуда-то оттуда появлялись холодные искристые крупинки, которые опускались на наши разгоряченные лица и я все удивлялся – откуда берется снег, если небо чистое? Она не дождалась меня...
Был один древний банкир, кто ухаживал за актрисой и когда я убыл в столицу, сделал ее наследницей, ибо родных он сжил со свету. Он был стар и уже не мог быть мужчиной, поэтому он, как Давид, хотел чтобы девица грела его по ночам и... радовала на французский манер.
Тем и кончилось для меня мое первое чувство. У них длилось недолго месяца три, а потом он умер и действительно все оставил подружке... С тех пор я отношусь к актеркам так, как они того и заслуживают: увидал милую дебютантку – назначил ей цену. Если "да" – марш в постель, если "нет" -пошла вон! Последние годы я не слышу "нет" от этих девиц. Поэтому я и простил Дебби...
Ясным январским днем 1794 года я прибыл в Санкт-Петербург, где меня встретил Карлис: у него вдруг появились дела в столице – на Рождество, пока мы с матушкой поехали в Ригу, бабушка вызвала его к себе и сделала много подарков и прочих милостей. А как только я приехал на обучение, она и отпустила отца домой.
Наутро мы с провожатым сели в санки и поехали в Колледж, а Карлис вернулся в Ригу. Сперва он хотел меня проводить, но... в общем, его не пустили. Помню, отец на прощанье обнял меня что есть силы – так что у меня слезы на глазах выступили и шепнул на ухо, мешая латышскую и немецкую речь:
– "Держись, Бенкендорф. Анна велела деда твоего в масле варить, коль он не смирится. Да только сдохла курляндская сука за месяц до казни, а Бирон не решился. Даст Бог..."
И я отвечал ему по-латышски в первый и последний раз в жизни:
– "Pal'dies, teevs. (Спасибо, отец.)"
Потом мы поехали со двора и он все шел за санями и махал мне рукой, а я не обернулся ни разу и только смотрел на полированную металлическую спинку, в которой кое-как отражалось то, что осталось за нами. Помню, мой провожатый все смотрел на меня, а потом не выдержал, выматерился и не проговорил, а будто сплюнул сквозь зубы:
– "Что вы за народ – немцы?! Не сердце, а – камень..." – а потом выругался совсем непотребно, прибавив, – "Волчонок..."
Так кончилось мое детство.
x x x
Из журнала графини Элен Нессельрод
Однажды мы разговорились в салоне на тему: "Что есть – Божья Любовь?" Было высказано много мнений, а в конце все обратились к моему Саше – ибо он у нас всегда говорил последнее Слово.
Граф тогда сильно задумался, а потом произнес:
"Когда меня отправляли в учение к русским, я очень не хотел уезжать. И тогда отец мой вывез меня в деревню и показал простой камень. Он сказал:
– "Знаешь ли ты – что есть этот Камень? Это – Дар Божий!"
Я весьма удивился. Тогда батюшка мой объяснил:
– "Когда человек мал и неопытен, он жаждет, чтоб Господь выказал ему, как Он его Любит. И Божью Любовь мы все понимаем, как кусок Золота с неба, иль красивую девку, а может – еще какую забаву...
Но... Вместо всего этого Господь посылает нам на сию землю одни только камни. Камни сии растут прямо из-под земли по весне и убивают наши и без того крохотные наделы...
Камни сии надобно убирать, разбивать на куски, строить из них дома, изгороди, или – мостить ими дороги. И юный глупец готов проклясть Господа за сей Дар, ибо он несет лишь тяжкий труд, да всякие тяготы.
И лишь на краю жизни старый латыш вдруг понимает, что Господь – Любит его. Ибо сей Камень и есть – тот самый важный Дар Господа. Самый его Ценный Дар.
Ибо истинную Ценность Камня может понять лишь лифляндец. Уроженец наших топких болот...
* Часть II. Ливонский меч *
"Нет мелочей в
Делах Династических!"
Колледж Иезуитов Аббата Николя был в том году самой лучшей, дорогой и, я бы сказал – элитной школой Империи. Именно из Колледжа вышли лучшие разведчики, дипломаты и управленцы. Однако, – в Колледж не рвались и для России он стал "вещью в себе".
Видите ли, – ученикам приходилось принять католичество. А это – на Руси не приветствуется.
Теперь вы поняли – кто учился в Колледже. Там были дельные мальчики из захудалых фамилий, много отпрысков видных поляков и огромное число лизоблюдов и прихвостней этих католиков. Там было немало курляндцев, в жилах коих текла немецкая и польская Кровь, но ни единого немца и лютеранина!
Мне не следовало приезжать в сей гадюшник. Единственное, на чем сошлись бабушка с матушкой – иезуиты мне обещали гарантии и протекцию: мой прадед по матушке был внуком Генерала Иезуитского Ордена в Рейнланде с Вестфалией, а в Братстве – большое почтение к Крови и былым достоинствам предков.