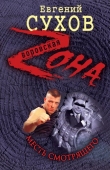Текст книги "Призванье варяга (von Benckendorff) (части 1 и 2)"
Автор книги: Александр Башкуев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
(Кстати, мы с ней еще ни разу не собирали орехи, но уже грызли их, и знали, что они где-то водятся.)
Сестра орала так громко, что через минуту в дверь церкви молотилась целая толпа латышат с дикими криками:
– "Хозяйкиным детям плохо! Они – страшно кашляют!"
Через мгновение церковная дверь распахнулась и перепуганные охранники пулей влетели к нам в церковь. Дашка кашляла столь оглушительно, что все мужики побежали прямиком к ней, а наша дружная троица – бочком, бочком вышла из церкви.
Мы, наверное, погорячились и сразу же побежали со всех ног. Нас, конечно, заметили и погнались в погоню. Наверное, меня бы и моих двух товарищей ждала беспримерная порка, но когда нас поймали и хотели уж драть, все услышали Дашкины вопли:
– "Отвезите нас скорей к матушке! В этой церкви – мрачно и сыро. Мне тут так холодно, что я сейчас совершенно замерзну!"
Мужики растерялись и стали шушукаться. В итоге они порешили:
– "Давайте сюда девчонку и пять человек из охраны. Черт его знает, может и правда – их там застудим... Пусть уж сама госпожа Баронесса разбирается с этими бесенятами!"
Они хотели отнять у меня Петера с Андрисом, но я закричал:
– "Вы их сразу накажете! Я хочу, чтоб они с нами ехали! Я сам объясню все моей матушке и если нас выпорют, пусть меня выпорют вместе с моими товарищами!"
Мужики призадумались, а потом признали в моих словах "голос будущего Хозяина" и Петер с Андрисом спаслись от неминуемой порки. Потом мы все забрались на телегу и поехали "искать мою матушку".
В дороге Дашка стала нас шантажировать. Она говорила:
– "Я все расскажу моей мамочке! Вы пытались бежать и ослушаться ее приказания! Если б не я, вас бы точно – всех выпороли. За это с вас по десять орехов – с каждого. И еще по десять за то, что я не скажу все моей мамочке!"
Петер с Андрисом были в шоке от такой детской жадности. Мужики же, что ехали с нами в телеге – помирали все со смеху и говорили, что их ждет "расчетливая Хозяйка". Самое же забавное состояло в том, что в ту пору еще не созрели орехи. (Я до тех пор не был летом на улице, а Дашка верила мне безусловно во всем.)
Стоило огромных трудов доказать скандалистке, что орехов еще нет в лесу. За это она на нас всех крупно обиделась и сменила свой гнев на милость лишь после обещания Петера покатать ее на плечах.
Тем временем дорога подошла к Озолям и в воздухе явно запахло гарью. Скоро нам стало дурно от тяжкого, липкого запаха крови и горелого мяса. Я даже упросил возницу не ехать к самому хутору, а обождать в стороне. Тот согласился и наша телега с верховыми охранниками свернула к амбару, стоявшему на самой границе хутора.
Дорога шла по лесу, а потом была полянка и амбар, так что все мы выехали сразу на свет, и в первый момент никто не понял, что – перед нами. Потом Дашка свесилась с телеги и стала блевать, а мой желудок всегда был крепче и я удержался. Только ноги сами понесли меня вперед – к большим воротам, на которых висели... десять, или одиннадцать детей и баб. А старики с мужиками догорали на самом хуторе и воняли теперь на всю округу.
А здесь у старого амбара было очень даже тихо и почти совсем не пахло. Меня хотели оттащить от повешенных, но я уже усвоил "Хозяйскую формулу" -"Такова моя воля!" – и никто не смел перечить "маленькому Хозяину".
Я хорошо их запомнил... Они были голыми и на их голых телах ярко горели две полосы дегтем, – в виде нашего тевтонского креста. Вот только нижняя часть этого креста была не черной, но черно-красной.
Я знал, что это такое. Я уже своими глазами видел, как оскопляют весной поросят, чтобы из них выросли жирные и покладистые боровы, но не вонючие и драчливые хряки. Я знал, что сделали перед казнью с этими мальчиками. И еще я видел случки и, как осенью потрошат скот, перед тем как подать мясо к столу. И я своим детским умом уже понимал, что перед казнью сделали с бабами и девочками, но не мог взять в толк...
Если уже вскрыли живот и выпустили кишки – почему их не удалили и не промыли? И если уж курляндцы столь людоеды, что вырезают женщинам вымя, почему они не стали есть всего остального?
А еще я не понимал – зачем вырезать, да выдавливать людям глаза? Ну если уж вы – людоеды, глаза-то при чем? И я смотрел на казненных, а мои охранники стояли рядом и не решались ни прогнать меня, ни снять убитых, ибо я запретил им.
Тут прибежал наш возница, а вслед за ним прискакала и взмыленная, бледная, как смерть, матушка. Она соскочила с коня, крепко взяла меня за руку и сказала:
– "Тебе нельзя смотреть таких вещей. Пойдем, я уложу тебя спать. Тебе надо хорошенько выспаться".
А я стал упираться и кричать:
– "Я не могу! Я должен понять, зачем?! Оставь меня! Они играли в войну, да?! А я могу так же играть с их детишками?! Могу, или нет?!"
Помню, как у приехавших с матушкой людей исказились лица, а матушка обняла меня, резко повернула к трупам повешенных и чуть ли не ткнула носом в каждый из них, приговаривая:
– "Это и есть – Война! Они не играли. Они убивали твоих друзей и подружек ни зачем и ни за что! Медленно убивали. И ты обязан запомнить это, чтобы когда вырастешь – так же убивать католиков. Медленно. Не спеша. Запомни это, чтобы потом отомстить!" – и она тыкала меня носом в покрытые застылой кровью коленки таких же крохотных клопов и клопиц, как и я, и во вспоротые животы, таких же баб, как и она сама, до тех пор, пока я не заорал благим матом и не лишился чувств.
С той поры я частенько стал играть со своим ножом, воображая, как я вспорю им брюхо ненавистным католикам. Для того, чтобы вырезать на их телах их кресты – курляндские. Католические. Польские. Славянские. Кресты главного славянского святого – Святого Георгия. И рядом со мной росли такие же малыши, которые тоже точили ножи и тоже мечтали о скорой мести...
Меня потом часто спрашивали, – почему именно Андрис и Петер? Как потом выяснилось, – в той кирхе были ребята и поздоровей Петера, и гораздо умней Андриса. Не знаю. Глянулись они мне с первой минуты и по сей день я не раскаиваюсь в моем Выборе. Наверно, это – Судьба.
Другой, не менее важный вопрос – как сие началось? Откуда возникла такая взаимная ненависть внутри латышей? Неужто в Религии есть нечто этакое, что ради того можно вспарывать животы соседям своим? Может быть я не прав, но вот, что мне кажется:
В незапамятные времена на земли племени ливов прибыли первые немецкие рыцари. Именно там и возникли первые ливонские города Дерпт и Пернау. В отличие от дальнейших событий, немцы не ссорились с ливами – им нужны были верные стрелки-арбалетчики. Ливы же – народ очень малый и живший одной лишь охотой тоже был рад пришельцам. Те привозили ливам много еды.
Потом немцам стало мало "малой Ливонии" и они захотели "большую Ливонию". У нас был мир и "разделенье Остзеи" со шведами, так что немцы устремились на юг. А большую часть их армий составляли те самые ливы -финского корня. История моего семейства звучит так: Тоомас Бенкендорф был сыном эстонки, женился на ливке, а невестка его была из латышек. Если задуматься – за сим семейным преданием чудятся кровавые событья тех лет.
Эстонка, ливинка, латышка... А за всем этим стальная поступь Орденских армий, постепенно утюживших мою Родину с финского Севера на балтский Юг.
А навстречу нам маршировали поляки. И огромная Даугава стала природным барьером, разделившим германские и славянские армии. Да, по обеим сторонам Даугавы жили, конечно же – латыши. Но в жилах северных латышей теперь текла и немецко-финская Кровь. Кровь истинных протестантов. А в жилах южных -Кровь поляков с литовцами. Кровь католическая.
Можно всячески восхвалять безвестных ливинок, даривших немецким возлюбленным первых ливонцев. Можно всячески жалеть несчастных южных латышек, коих якобы жестоко насиловали бессовестные поляки. Но – если вглядеться в суть дела...
Боюсь, что в известные времена у латышек не было выбора. Они обязаны были оказаться в чьей-то постели. Те, кто пустили к себе барона, иль его арбалетчика – дали начало лифляндцам и протестантам. Прочие переспали со шляхтичем и его литовским уланом, став прабабушками курляндских католиков.
Так что – резня меж лифляндцами и курляндцами имеет на мой взгляд, не религиозные, но национальные и межкультурные корни...
Стоило кончиться Шведской войне, как части Вермахта стали возвращаться с севера – из Эстляндии, которую мы под шумок к тому времени практически оттягали из-под носа России. Теперь наши руки были полностью развязаны в отношении Курляндии.
В первый год стрельба на границе шла ни шатко, ни валко, но к осени 1790 года мы стали совершать сперва робкие, а с каждым днем все более и более дерзкие вылазки на вражеский берег. Кто-то, конечно, погиб, но прочие обрели нужный опыт. Курляндцы же столкнулись с нежданной проблемой – они физически не могли прикрыть огромную по протяженью границу меж нашими странами.
Хитрость же заключалась в том, что мы так и не смогли вернуть в арсеналы оружие, розданное в начале Войны латышам. К счастию, – оно обернулось не против нас, но – ненавистных католиков. Теперь с нашей стороны дрались обычные мужики, а с их – дорогие наемники. Своим же мужикам курляндские сволочи раздать оружие – побоялись.
К весне 1791 года ситуация на границе изменилась разительно: курляндские помещики бросили свои земли вдоль всей Даугавы и прятались в укрепленных городах и крупных селах, наши же мужики осмелели настолько, что рейды аж до самой Митавы почитались у них – плевым делом. Самым же обыденным развлечением стали регулярные "охоты" на католиков.
Ранним летним утром 1791 года нас – совершенных молокососов, после долгих месяцев муштры и обучению стрелять из мушкетов, вывезли, наконец, "нюхать пороху". Матушка в тот день как раз поехала по дальним хуторам осматривать хозяйство (она сама была бы против такой забавы), ну, а Карлис только спал и думал, как бы быстрее нас с Озолем приучить к "мужскому делу". А в семье Бенкендорфов единственным занятием достойным мужчины почиталось умение владеть шпагой и пистолетом, а также – практическое использование сих средств на католиках.
Стояли мы в постах внешнего оцепления отряда нашей милиции. Наше "оцепление" "совершенно случайно" оказалось развернуто в сторону нашего берега,– позади всех прочих. Да на "флангах" располагались ребята постарше, которые фактически и прикрывали подходы со стороны реки. Мы – малышня этого, конечно, не знали и относились к полученной "боевой задаче" со всей серьезностью и ответственностью.
Всю ночь перед походом мы точили ножи и надраивали кремневые ружья. Само собой, нам было запрещено раньше времени заряжать их и лишний раз баловаться с порохом, но – мальчишки есть мальчишки и ружья зарядились как бы сами собой задолго до выхода и здорово мешались на марше и переправе.
Прибавьте к этому колкую вонючую рубаху. Лифляндское ополчение испокон веку имело некое подобие военной формы, – грубые льняные рубахи из небеленого полотна, которые специально вываривались в густом травяном настое и от этого приобретали характерный буро-болотный цвет.
Единственным украшением к такому наряду полагались четыре белых прямоугольных клина, нашиваемых на плечо левого рукава так, чтобы со стороны это выглядело как буро-зеленый крест в белом канте. Все вместе это называлось "лютеранским крестом" и носилось как знак отличия от "католического" красного креста, вышиваемого на правом плече белой рубахи.
Но я отвлекся – в то холодное туманное утро я был всего лишь маленьким испуганным мальчонкой, сжимающим огромное тяжкое ружье и мечтающим о великих подвигах, которые я совершу этим утром. По молодости и неопытности я надел тогда льняную рубаху прямо на голое тело и теперь у меня все нестерпимо чесалось. Может ото льна, а может – и от моей сенной болезни. А еще от свежевыкрашенной рубахи несло какой-то гадостью, да так – что меня чуточку подташнивало. От нас эти дни несло, как из хлева.
Добавьте к этому холодный сырой туман, клубившийся от какого-то безымянного ручейка на этом берегу Даугавы. На нашей стороне мы знали местность, как свои пять пальцев, но здесь все казалось другим и очень страшным. Да и в сон клонило с непривычки, и ноги были уже стерты почти до крови с нее же. В общем, война оказалась совсем непохожа на веселую увлекательную игру, как это казалось из сытой, довольной Риги.
Сейчас я не могу вспомнить точно, как это именно произошло – то ли хрустнул сухой сучок, то ли пахнуло каким-то непривычным запахом – у меня всегда был необычайно чувствительный нос, но что-то заставило меня встрепенуться и обернуться чуть в сторону. (Через много лет я пришел к выводу, что среди пленных католиков наши мужики нарочно отобрали жертву, которую и выгнали на нашу детскую цепь.)
Я, ни задумываясь ни на миг, при виде поляка стал тщательно целиться и как только уверился в правильности всех моих действий – тут же нажал на курок. Поляк упал, затем тут же вскочил и побежал, покачиваясь, на заплетающихся ногах прочь от нас. Я сразу понял, что попал в цель, выдернул нож из голенища и закричал что есть силы:
– "Не стрелять! Он мой!" – и бросив уже ненавистное, оттянувшее руку, ружье, побежал за моей жертвой. Мои друзья тоже побросали свои ружья и побежали за мной следом.
Поляк пробежал недолго – шагов пятьдесят – не больше. Потом он упал ничком на землю и, все пытаясь подняться на колени, стал читать молитву. Пытался читать – моя пуля вырвала у него часть горла и теперь несчастный только булькал кровью и хрипел что-то нечленораздельное: я разобрал что-то вроде "доминус" и "Кристи". Если бы он просто лежал, или молил нас о пощаде, мы бы скорее всего смутились и оставили парня в покое, но мерзавец молился латынью, выказывая себя мерзким католиком, и мы сразу ожесточились.
Я подошел к упавшему, встал над ним поудобнее, а затем всадил свой нож ему под ухо, под самую челюсть – туда где проходит сонная жила. Поляк дрыгнул ногами, захрипел чуть громче и я, припоминая, как на моих глазах умирали мужики на Шведской войне, понял что – убил его.
Я тут же выдернул нож из раны и отскочил подальше, чтобы меня не обрызгало кровью, а мои товарищи тут же стали тыкать ножами в еще живое тело, чтобы тоже считаться настоящими мужчинами. Потом мы, пьяные от запаха крови и полученных впечатлений, пошли назад. Затем ребята решили, что теперь уже не стоит вытаскивать пули из ружей и стали стрелять на меткость по трупу и совершенно разнесли ему череп и разворотили грудь и живот. Я плохо помню последовательность всех этих событий – в памяти сохранились только два странных факта. Я опомнился от своей победы, когда кто-то из мужиков тронул меня за плечо и сказал, что нельзя так сильно нажимать на штык – он может сломаться. В этот миг я вдруг осознал, что расстрелял все три моих заряда и почему-то держу в руках неожиданно легкое, почти ничего не весящее ружье, хотя очень хорошо помню, как бросил его за полсотни шагов от этого места.
Второе странное воспоминание об этом дне. Мы плыли на лодках назад – на наш берег Даугавы и я почуял какой-то странный непривычный запах. Я долго не мог догадаться что это и откуда это, а потом неожиданно понял, что это пахнет от меня – кисловатым запахом мужского пота – как от взрослого мужика. Я был так потрясен своим открытием, что невольно толкнул моего соседа и мы стали нюхать сперва друг друга, а затем и всех остальных по очереди. И, представьте себе, ото всех нас и вправду пахло, как от настоящих мужчин – а нам было по восемь лет! Можете вообразить нашу радость и ликование.
Я не помню, что было дальше. По рассказам прочих, по возвращению нас всех отвели в баню, а затем омыли наши ножи пивом и мы – малыши напились им до совершенного изумления и здорово проблевались после этого. (Латышонок-протестант, не умеющий пить пиво, в глазах хуторян выказывает себя слабаком, – от этого все лифляндцы такие большие и тучные. Кроме того, – дополнительный вес дает финская Кровь. Финны в массе своей – тучней балтов.)
Матушки, как я уже говорил, в тот день как раз не было дома. Вечером же, когда матушка вернулась, она обнаружила меня в стельку пьяным и, памятуя о непутевой судьбе Кристофера Бенкендорфа, испугалась, что наклонность к алкоголю может быть не только в роду Романовых, но и – Бенкендорфов, и потребовала объяснений. Когда же она поняла истинную причину моего опьянения, у нее вышел глубокий обморок, и ее всю ночь не могли привести в чувство.
Наутро же у нее вышел крупный разговор с Карлисом и, по слухам, она даже собиралась кого-то за что-то наказывать, но потом – передумала. Вместо этого она позвала нас с ребятами, поздравила нас "с первой добычей", благословила на грядущие подвиги, а потом вдруг опечалилась и сказала:
– "Вы у меня молодцы! Растете настоящими воинами. Защитниками сирых и слабых. Настоящими христианами. Вот только поступили вы – не по-христиански. Это католики, как дикие звери, терзают свою добычу и бросают, где убили, да позабавились. Истинный же христианин должен иметь милосердие в сердце своем и заботиться о душе врага своего.
Нет греха в том, что вы убили католика – вы не могли поступить иначе. Но грех ваш в том, что вы не предали тело еретика – земле, дабы душа его могла в урочный час предстать пред Господом нашим и покаяться во всех своих смертных грехах.
Как вам не стыдно?! Как вам не совестно?! Разве не читали вы Писания, где сказано, что долг каждого христианина – спасать душу заблудшую, а вы бросили труп на съедение диким зверям, "аки сами – звери дикие есмь". Пойдемте ж, ребятки, исполним наш долг".
Мы вышли на улицу и опять переправились через реку. Убитый нами мальчишка лежал все на том же месте и даже еще не начал разлагаться. Мы с ребятами взяли по лопате и стали копать могилу.
С ней пришлось попотеть. Я почему-то думал, что в Курляндии – сплошной чернозем и надеялся, что работа быстро пойдет, но не тут-то было. Нет, почва оказалась посуше, да и камней поменьше, чем на нашем болоте, но – не чернозем.
Когда мы здорово употели и поснимали рубахи, кто-то из взрослых сказал:
– "Может хватит, – дети ведь... Госпожа баронесса, мы согнали сюда всех окрестных католиков, они за пару минут управятся – ведь дети малые!"
А матушка, которая гарцевала вокруг нашей могилы на своей кобыле, привстала на стременах и осмотрела огромную толпу согнанных латышей католиков. Потом, прикрыв глаза рукой, она взглянула на ослепительное, жаркое солнце и сухо ответила:
– "Ничего, не маленькие. Смогли человека убить, пусть смогут и схоронить по-людски. Они же теперь – совсем взрослые", – и все разговоры сразу же смолкли.
Было очень жарко и пот заливал мне глаза. Да и чуть пониже пошел сплошной камень. Ясное дело – высокий берег Даугавы. Да и глина под ногами была покрепче нашей – у нас на такой глубине уже бы хлюпало. А тут берешь деревянную трамбовку, бросаешь на дно круглый голыш. Удар и голыш ушел в землю. Только круглая дырка осталась. Нет, хорошая земля в Курляндии – на нашем берегу эту дырку сразу бы глиной затянуло. Такое у нас болото.
Вот выкопали мы наконец могилку: ноги гудят, руки горят и крючьями сволокли в нее этого. На этот раз я его хорошо разглядел – совсем мальчишка. Правда, лица у него попросту не было, но по всему остальному – несомненный мальчишка. Ручки тоненькие, ножки щупленькие, а шейка такая, что я ее мог бы голыми руками сломать – настоящий дистрофик. И странное дело – думалось мне, что должна была у меня к этому мальчишке проснуться то ли ненависть, то ли жалость. Но ничего так и не было. Случайный парень. Случайно мы его убили. Не сказал бы он на латыни – остался бы жить...
Засыпали мы его быстрее, чем яму выкопали. А за то время, пока мы копались, прочие ребята сколотили простенький деревянный крест, а Ефрем достал киновари и нарисовал на могильном кресте простенький красный крестик – курляндский, католический.
Воткнули мы крест в могилу и хорошенько обложили вынутыми из ямы камнями и я сам вырезал на кресте: "Behut euch Gott" – "Храни вас Бог". Матушка, прочитав мою надпись, одобрительно кивнула головой и объявила со значением в голосе:
– "Господа католики, теперь вы можете вернуться к своим занятиям. И "Храни вас Бог!", коль с надписью что случится!"
Вечером я тихонечко постучал к маме на кухню. Была пятница, но она почему-то не позвала меня, чтоб читать новую книжку и варить нашу курочку. Из этого я заключил, что она – сердится на меня.
Матушка сидела за кухонным столом рядом с Дашкой и делала вид, что не знает о моем появлении. Дашка же посмотрела на меня, наморщила носик и всем видом показала, – как она мною брезгует.
Я подошел к ним, встал перед матушкой и сестрой на колени и тихонько проблеял:
– "Я больше не буду! Простите меня, пожалуйста!"
Матушка оторвала свой взгляд от книжки и я никогда не забуду – с какой болью она посмотрела вдруг на меня. Голос предал ее. Она минуту не могла ничего вымолвить, а потом даже не прошептала, а, скорей – просипела:
– "Ты доволен собой, протестант?! Ты знаешь – кого ты убил? Ты своего прадеда бил прикладом! Ты свою бабушку резал ножом... Ты ее – именно ТЫ ее изнасиловал и замучил! Иди же к своим – протестант! К таким же как ты -кальвинистам с пруссаками!"
Я обнял ее колени, я зарыдал, прижался к матушке всем моим телом и закричал:
– "Я больше не буду! Я ТАК БОЛЬШЕ НЕ БУДУ! Я не подумал! Я люблю тебя, мамочка! Я так больше не буду..."
Матушка мгновение смотрела на меня с недоверием, а потом всплеснула руками, обняла меня, трясущегося от рыданий, и заплакала вместе со мной:
– "Я понимаю... Я все понимаю. Ты – не можешь иначе. Ты ведь, правда, – не можешь иначе! Я все понимаю...
Они убивают твоих друзей. Если ты хочешь дружить с латышатами – ты тоже должен убивать этих католиков... Но не таким же способом!
Святой Долг любого мужчины – защищать Дом, Родину, любимых женщин. Убивать ради этого! Но не безоружного мальчика! И не прыгать потом на хладном трупе с пещерными воплями..!"
А я, обливаясь слезами, стоял перед матушкой на коленках и ревел еще пуще:
– "Я больше не буду, мамочка! Я ТАК БОЛЬШЕ НЕ БУДУ!"
С того самого дня прошло уже больше полвека... Я убил много народу, но никто и никогда не посмеет обвинить меня в том, что я убил безоружного, или – не-преступника. И еще, – с того самого дня я ни разу не глумился над трупами. Убил и – убил. Не надо плясать над чужим телом. Это был -Человек.
К тому времени среди немцев пошли разговоры против жидов. Матушка, на всех углах говоря о своей "нелюбви к оккупантам", исправно платила налоги и сборы русской казне. В ту пору Империя дралась на два фронта: пока мы брали Измаил, да Очаков, шведы стали нам шилом в заднице и "рижский мятеж" был весьма кстати.
Матушкина родня в Берлине и Лондоне требовала от Швеции "оставить Ригу в покое" и так как шведы во всем зависели от британцев, "Латвию" объявили "нейтральной". Матушка немедля ввела Вермахт во все города побережья – до Нарвы и получилось, что шведы могли воевать с Империей только в предместьях Санкт-Петербурга. Такое сужение фронта было на руку русским и бабушка пальцем не шевельнула на все наши "Восстания".
Долго такие штуки не могли продолжаться и вскоре по Риге пошли разговоры, что "госпожа баронесса" на самом-то деле – "жидовка, продавшая нас русским". Латвию же за глаза стали звать не иначе, как "Царством жидов".
Немцам все это не нравилось и многие из них стали все чаще поглядывать в уставы магдебуржского права, в коих черным по белому было прописано запрещение нашему племени занимать должности в магистратуре, и даже торговля.
Но матушка была необычайно популярна среди латышей. Она открыто жила с латышом и ее первенец был – от латыша. Все помнили, как латыши по матушкину призыву согнули в рог местных баронов и... Назвать ее "жидовкой" было небезопасно, но очень хотелось.
Повод для скандала нашелся на изумление быстро. Я пошел в школу только с восьми, – годом раньше шла Шведская. Латышских школ в ту пору в Риге еще не было, а отдать меня в обученье раввину – казалось политическим самоубийством. Так что я пошел в школу немецкую и для немцев, хоть матушка и прекрасно знала о том, как не любит нас немецкое население города.
Я ощутил сие на своей шкуре в первый же день. На протяжении всех занятий вокруг меня существовал этакий вакуум, – прочие дети не играли со мной и даже не разговаривали. Учителя не задавали мне вопросов и не вызывали к доске. Даже места по обе стороны от меня были пусты. Передать не могу, как скверно было у меня на душе. На перемене я слышал, как мне в спину шипели: "Жид!"
Я оборачивался, дабы проучить наглецов, но все были заняты своими делами и никто, казалось, не обращал на меня никакого внимания. Я даже не мог догадаться, кто именно только что открыл рот и в мой ли адрес брошено оскорбление. Да, этот день я не забуду до конца моей жизни.
По счастью – всему всегда приходит конец. После уроков нас повели на молебен. У дверей в часовню стоял один из учителей богословия – скромный и незаметный. Впоследствии я узнал, что в тот день он был без уроков, но его нарочно позвали, ибо все знали, какой он – маньяк и фанатик. Мания его состояла в идее национальной чистоты и всемирного жидовского заговора.
Был он человеком твердых и неколебимых принципов из породы людей, что когда-то становились мучениками.
При виде моей жалкой персоны сей господин аж вскинулся телом, издал из своего нутра победительный клекот и кинулся на меня. Он больно схватил меня за ухо, выволок из строя учеников младшего возраста и завопил, что есть силы:
– "Святотатство, поругание святынь! Мерзкий жид пытался войти в Храм! До чего дошла Рига, сия саранча скоро выживет немцев из нашего города! Буль-буль-буль! Кудах-тах-тах!" – ну и так далее.
Он стоял и крутил мне ухо, а мне было не больно. Я слишком был поглощен запоминанием всех деталей происходящего, чтобы обращать внимание на сии мелочи, а этот олух от сего сильней распалялся. Под конец он не выдержал и завопил мне в лицо:
– "Почему ты не отвечаешь, когда с тобой говорят старшие?"
На что я, в лучших традициях дома Бенкендорфов, задумчиво пожал плечами и тихо произнес, внимательно разглядывая его побагровелую морду:
– "Вас, верно, удивит сие откровение, но в моем доме меня с детства учили, что нет смысла общаться с покойниками", – моего врага чуть кондрашка не хватила от злости. Но он тут же выпустил мое ухо и почти нормально сказал:
– "Простите, милорд, но я не имел в виду ничего оскорбительного для имени Бенкендорфов! Я всего лишь хотел обратить внимание общественности на то, что в жилах твоей матери есть примесь жидовской крови от "известных жидов" Эйлеров и настало время..." – тут он снова распетушился и стал орать во всю глотку. Я даже понадеялся, что еще немного и его хватит удар от такого усердия и не придется марать об него руки.
Вдруг крик его прервался на полуслове. Неизвестно откуда появилась моя матушка, которая осторожно взяла меня за руку, опасливо заглянула в мои глаза, не плачу ли я, а затем выпрямилась и весьма сухо сказала:
– "Друг мой, я уже поняла суть Ваших слов и преклоняюсь пред Вашим мужеством. Я приму меры, дабы волосок не упал у Вас с головы до итогов Суда.
Коль Церковь признает моего сына жидом, я покину сей город с моим сыном и пусть курляндцы всех здесь рассудят по справедливости. Но ежели Церковь сочтет моего сына – немцем и истинным арийцем, молитесь, друг мой...
Вижу, – здесь католический заговор. Прошу Архиепископа дозволить применение пыток к подозреваемым, как и положено при следствии по делам Веры.
Но, повинуясь милосердию, коему меня научила Церковь, имея натуру женскую, слабую и впечатлительную, я готова простить раскаяние. Чистосердечье его мы установим из подробного изложения фактов о природе заговора, составе участников, а также степени их вины. А пока – доброй всем ночи. Не опаздывайте".
Мое дело оказалось довольно простым: суд не интересовали линии Бенкендорфов, Уллманисов, или – фон Шеллингов.
Проблемы мои возникали, когда речь заходила об Эйлерах. Однажды я, несмотря на мой малый возраст, чуть не спросил: если мой прадед, да будь он трижды жидом, был-таки избран умнейшим человеком Пруссии и сделал немало для ее славы и процветания, может быть... Но потом природная предусмотрительность взяла-таки свое и я предпочел оставить сию мысль при себе.
Вины же Эйлера состояли в том, что он: во-первых, "жил с еврейкой"; во-вторых, не мог произнести букву "р"; в-третьих, называя свое имя, говорил "Эйля", в то время, как "истинный ариец" произнес бы "Ойлер" по аналогии -"Euler" – "Deutsch". И, наконец, самое главное обвинение заключалось в том, что он "бежал из Швейцарии от жидовских погромов секты Кальвина". Тем самым, он, якобы, "самолично признал свою жидовскую кровь". Конец приговора.
И вот, – каждый Божий день я обязан был являться поутру в суд, класть руку на Библию и публично клясться перед скопищем идиотов в том, что я: "Немец, только немец, и ничего, – кроме немец". После чего все эти чудаки долго думали, с весьма глубокомысленным видом шептались о том, что с моей буквой "р" – все в порядке, да и выговор скорее с латышским акцентом, нежели жидовским, а на внешность так и вообще – истинный ариец, тяжко вздыхали и отпускали с миром ввиду малолетства. На другой день процедура повторялась до йоты – и так на протяжении четырех месяцев!
Каждый день прямо из зала суда я бежал в казармы Рижского конно-егерского полка. Того самого, который и получил в народе прозвище "жидовской кавалерии". В том, что я близко сошелся с этими людьми не было ничего странного, или предосудительного: водиться с немцами мне стало небезопасно, латыши боялись вмешиваться в "баронские дрязги" и только жиды не боялись ни упреков в "жидовстве", ни дружбы с мальчиком "спорной крови".
В полку меня встречал капитан Меллер, который в ту пору командовал первым (кавалерийским) батальоном (полковником числилась моя матушка) и отвечал за подготовку "молодого пополнения и ополченцев".
Познакомился же я с ним при печальных обстоятельствах. Моего пони звали – Венцлем и у него была белая лоснящаяся шкура и подстриженная грива. Я всегда укалывал об нее руки. Я был без ума от Венци. Он у меня был такой умный и – вообще...
И вот однажды мой Венци захворал. До сих пор не знаю, чем была вызвана эта болезнь, но он вдруг погрустнел и стал худеть прямо на глазах, а шерсть отваливалась целыми клоками. Никто из ветеринаров не знал, как помочь моей беде (вернее знали, но боялись сообщить мне страшную правду) и, наконец, кто-то из них посоветовал мне обратиться к Давиду Меллеру – лучшему из рижских лошадников.