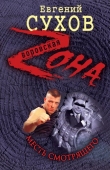Текст книги "Призванье варяга (von Benckendorff) (части 1 и 2)"
Автор книги: Александр Башкуев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Только один-единственный раз он всерьез разозлился, дав волю своему природному бешенству. Однажды он пришел в гости к жене и обнаружил ее в необычайно хорошем расположении духа. Генерал Бенкендорф рассказывал ей с матушкой пикантные анекдоты. Наследник решил присоединиться к веселью, но вскоре взбесился.
Бенкендорф был не в ладах с русским и потому рассказывал анекдоты исключительно по-немецки, а его не знал сам Наследник. Тогда Павел приказал всем присутствующим говорить только по-русски и все веселье сразу же кончилось. Бенкендорф не мог дольше веселить дам по причине незнания языка, а те со зла стали говорить гадости на чистом русском, а он как известно велик и могуч, и склонен к эзоповым и византийским роскошествам.
Так что Наследник выбежал из покоев жены совершенно взбешенным, а вслед ему раздался дружный смех. Бенкендорф, по простоте душевной, не поняв ни одной из дамских шпилек на чуждом ему языке, продолжил увлекательную историю про жену молочника, или что-то вроде того. Самое любопытное, что Наследник нисколько не озлился на своего Охранника. Он был сыном своей матери, чтоб обижаться на главного придворного идиота.
Тот же, "радуя" жену господина всеми доступными способами, говорил всем, что такими методами он восстанавливает мир в семье. Ведь частые роды и впрямь жестоко обезобразили его любовницу. Вот такая идиллия.
В ноябре месяце 1795 года к нам в Колледж прибыл вестовой с приказом от Государыни "всем воспитанникам организованно прибыть в театр и просмотреть весь репертуар заезжего Рижского театра". Ну, не надо и говорить, какое у нас началось оживление. Казарма она и есть – казарма и там не до развлечений.
В театре давали премьеру (для России) "Гамлета" – у столь позднего дебюта Шекспира в России весьма прозаическое объяснение: русский профессиональный театр появился на свет только в 1783 году (в Риге – в 1782). До того театры в России были исключительно крепостными, исполняя функции публичных домов, да борделей.
Во-вторых, – Шекспир писал во времена английской династии Тюдоров и был придворным драматургом протестантки Елизаветы Великой, которая, как известно, разгромила испанскую Непобедимую Армаду и обезглавила свою соперницу – католичку Марию Стюарт.
Елизавета была женщина властная и жестокая. Сам Шекспир частенько принимал участие в возмущениях против своей покровительницы и она миловала вольнодумца единственно ради его таланта. Когда же, к безграничной радости великого драматурга, Елизавета умерла, пришедшие к власти Стюарты выкинули его на улицу. Я люблю вспоминать эту притчу нашим фрондирующим литераторам, но они смеются и делают вид, что сие – не про них.
Потом на английский престол взошли наши родственники. Они-то и вымели со сцены всех католических драматургов, сдунув пыль с уже забытого протестанта – Шекспира. С этого дня Шекспир стал культурным идолом всех протестантов. Именно этим и объясняется его столь бешеная популярность в Англии, Пруссии, и разумеется – Риге.
Россия же долгое время дружила с католиками против нашего брата. А на русских крепостных подмостках безусловно господствовали пасторали. Но когда во Франции грянул Террор, русским срочно понадобился Шекспир. Расин же стал вольнодумством, а за Мольера сразу рвали ноздри и – в Сибирь на вечное поселение.
Бабушка даже нарочно устроила гастроли рижского театра, – матушкины актеры не знали русского и спектакли шли по-немецки. (Языком знати к той поре был язык Вольтера – "злостного якобинца", согласно новому веянию.) Поэтому после представлений всех, кто не понял сути происходившего, люди Шешковского тут же брали "на манжетку", как предполагаемого вольтерьянца со всеми вытекающими последствиями. (Цены на немецких учителей выросли до небес, а от французских гувернеров шарахались, как от чумы.)
Надо ли объяснять, что спектакли смотрели, затаив дух, с замиранием сердца и занавес опускался под всеобщие аплодисменты, переходящие в бурную овацию, так что зритель шел более-менее подкованный и многие из моих друзей-актеров потом со слезами на глазах признавались, что так как в России – их не принимали больше нигде во всем мире.
С той поры во всех губерниях идет хотя бы одна пьеса Шекспира и это ныне числится лучшим примером "благочиния" всей губернии.
(Что меня радует в сей истории, – благонадежность проверили все-таки на Шекспире... А ведь могли и на чем-нибудь квасном, кондовом, да доморощенном!
Помните, – "по брегам невским много крав лежало, к небу ноги вздрав!" А ведь сей "пиит" стал при Павле числиться "русским народным классиком", да "гордостью русской литературы". Чур меня, Господи!)
Пригнали нас в театр, рассадили на галерке и началось представление. По счастью, вся моя группа знала немецкий, и мы (в отличие от славян) получили огромное удовольствие.
Впрочем, гастроли в столице начались скандалом. В царской ложе посреди "Гамлета" поднялся шум и спектакль вдруг прервали. Потом по нашим рядам побежали какие-то люди, которые спрашивали, – нравятся ли нам жиды? Многие из тех, кто ответил отрицательно, тут же поднимались и покидали театр. Прочие же чисто подсознательно пересаживались ближе к моей группе. (К нам просто не подошли.)
Вскоре добрая половина театра опустела и стали играть дальше. Оказалось, что посреди представления Наследник Павел вдруг вскочил с места и произнес:
– "Такой великий герой, как Гамлет, не мог быть жидом! То, что его играет жид – оскорбление. Я требую убрать евреев со сцены!"
Пару минут в царской ложе царило гробовое молчание, а потом Государыня обернулась к моей матушке и прохрипела:
– "Объясни ему, что они все – жиды и жидовки. Если их убрать, вообще никакого спектакля не будет. Он страшно близорук и чуток косоглаз, а Гамлета он опознал лишь по выговору. Объясни ему. Я уж язык обмозолила, да и не разговариваю с этой радостью. Всякий раз, будто дерьма наешься..."
Наследник весь аж пошел багровыми пятнами и заорал:
– "Все зло от сего чертова семени! Жиды совершили Революцию в Франции, в России они пролезли на все посты, жидовка отбирает у тебя Прибалтику, а ты ей во всем потакаешь!"
Тут уж почти все невольно отшатнулись от матушки и в ложе образовалось как бы пустое место. А посреди него матушкин стул и чуть ближе к сцене кресло моей бабушки.
Тишина стояла такая, что казалось – еще немного и грянет гром среди ясного неба. Даже на сцене все замерли. Актеры не станут играть, пока из царской ложи раздаются всякие выкрики. Потом кто-то из знати наверняка захочет поглядеть пропущенную сцену еще раз, так зачем потеть дважды?
Затем моя бабушка оторвалась от созерцания застывших актеров, обернулась к матушке и, чуть пожимая плечами, повинилась:
– "Тяжело тебе с ним придется. Весь в отца. Не думает ни о приличиях, ни о своей голой заднице, ни даже – Империи. Где он кредиты намерен искать – не возьму в толк... Не был бы моей плотью – удавила б гаденыша".
Тут уж у матушки не выдержали нервы и она, забыв об обычной предосторожности, поклонилась Государыне и отвечала:
– "Я исполню все тайные желания Вашей Милости!"
Тут Наследник картинно взмахнул руками (он всегда любил "жест ироический") и воскликнул:
– "Решено! Я – не стану вторым Густавом Третьим! Те, кто любит меня и готов живот положить в битве с сей саранчой – ура, за мной!!"
Добрая половина двора бросилась вслед за будущим Императором и первым среди них – Кристофер Бенкендорф, а прочие сдвинули стулья ближе к центральным двум креслам и трагедия продолжалась.
Кстати, совсем забыл объяснить – при чем тут Густав III. Сей подлец в свое время получал от матушки весьма крупные кредиты на более чем приятных условиях и обещался, в свою очередь, обеспечить нейтралитет Риги в случае русско-шведской войны. Но он и не думал держать своих слов.
Матушка этого так не оставила и в 1792 году, через два года после ничейного исхода Шведской войны, Густава III – зарезали.
Впервые в истории Северной Европы Помазанник Божий пал жертвой наемного убийцы. Все следы заговора вели к нам в Ригу, но на шведских следователей было оказано колоссальное давление со стороны Англии (должной – полмиллиарда гульденов частным инвесторам) и в итоге выяснилось, что смерть Густава дело рук маньяка. Конечно же, – одиночки. Впрочем, с той поры матушку ни разу не решились надуть при сделке. Даже монархи.
Люди же, с коими матушка никогда не вела дел, (навроде – Наследника Павла), не зная подробностей, стали во всеуслышание болтать о существовании некоего "всемирного заговора", нити которого тянутся к некоему таинственному Рижскому Синедриону и главе его – Шарлотте Бенкендорф. Ну, что возьмешь с больных, да убогих?
По возвращении в Колледж страсти накалились. Две плотных толпы воспитанников, возглавляемые Наставниками, чуть ли не сцепились у мостков на наш островок. Только личное вмешательство самого Настоятеля Колледжа Аббата Николя предотвратило кровавую драму. Стороны уже взялись за шпаги, сторонники Павла прибыли на островок раньше нашего и теперь отказывались пускать нас за нашими же вещами.
Переговоры продолжались всю долгую, холодную и мерзостно-слякотную столичную ночь и к утру в нашей компании выработалось общее мнение, что нам нужны лишь наши вещи, а учиться под одной крышей с сей сволочью мы не станем, чего бы это нам ни стоило.
Были небольшие сомнения – что делать с русскими, пожелавшими примкнуть к нашей группе? Мы предложили им вернуть исконное православие, плюнув на католическое распятие и латинскую Библию. Средь них было много сомнений и в конце концов мы взяли лишь тех, кто согласился стать православным, но отказался осквернять святыни общие для всех христиан.
(В католическом Колледже того не учили, но по протестантским понятиям – нет различий в кресте протестантов с католиками. Тем более – нет ложных Писаний. Есть Писания на латыни, по коим грешно справлять лютеранскую службу, но от этого они не прекращают быть Святыми Писаниями!)
С католиками нам было не по пути, а существ, для коих нету Святынь (пусть даже и – католических!) я не считаю людьми. (Кстати, сам граф Спренгтпортен впоследствии говорил, что я поступил в лучших иезуитских традициях.)
Мы даже немного побили отказавшихся поганить святыни. Впоследствии это стало обычаем Эзельской Школы – мы (в иезуитском обличье) били новоприбывших за их лютеранство, требуя от новичков Отреченья от Веры. Если мальчик ради шкуры своей отрекался, его выгоняли, стойких же помещали в карцер, откуда они выходили уже нашими Братьями и – полноправными членами нашего "цеха".
Так в моем Управлении появились первые русские и я никогда не жалел, что принял этих ребят к нам на службу. Русский – обязан быть Православным и уважать чужую Веру при этом...
К утру прибыли бабушкины лейб-гвардейцы и матушкины конные егеря. Две детских толпы были наконец-то разведены и бабушкины охранники стали выносить нам из казарм наши вещи.
Все наше имущество было изодрано, запачкано и осквернено юными "павловцами" и я приказал ни к чему не касаться. (Кроме, разумеется, памятных вещей и – семейных реликвий.) Так мы покинули Колледж налегке, а за нашей спиной осталась гора изгаженных "павловцами" вещей. В прямом смысле этого слова – изгаженных.
Так кончилось мое обучение в столице и началась моя рижская жизнь. В следующий раз мне довелось прибыть в столицу только через шесть лет – в 1801 году принять участие в коронации Императора Александра I.
19 мая 1796 года жена Наследника Павла разрешилась от бремени мальчиком, названного Николаем. Николаем Павловичем.
С первой минуты после рождения придворные дамы, присутствовавшие при сем событии, стали шушукаться о том, что теперь с наследованием трона проблем не предвидится, – роды были очень тяжелыми. Мальчик родился в два раза тяжелее и в полтора – длиннее своих старших братьев, – Александра и Константина. Но больше всего поразил факт, который сразу стал анекдотом.
Павел был колченог и потому носил короткие сапоги. В длинных кривизна ног сразу бросалась в глаза – даже по швам. Точно такие же ноги были и у Константина. Александр же унаследовал ноги матери и любил щеголять во всем обтягивающем. Ножки его имели вид самый что ни на есть – соблазнительный, а попка – аппетитней попок многих и многих дам. Извините за эту "казарму".
Итак, у Александра ножки были – фигуристыми и он предпочитал сапоги мягкие, почти дамские, которые бы хорошо облегали ногу и подчеркивали достоинства фигуры Наследника. У новорожденного же ноги были невероятно длинны и очень мощны. До такой степени, что придворная дама, исполнявшая роль восприемницы от повитухи, при виде сих ног перекрестилась и воскликнула:
– "Ну, наконец-то! Теперь и в этой семье есть кому носить ботфорты Петра!"
Тут в дверь постучались и сказали, что Наследник желает знать о здоровье и статях новорожденного. Дама тут же передала мальчика на руки своим помощницам, а сама вышла к Наследнику, который стоял в окружении свиты, и рассказала:
– "Это мальчик, Ваше Высочество! Настоящий богатырь, вырастет в подлинного гренадера! Я приняла роды у многих женщин и сразу могу сказать, кто в итоге получится из маленького. Мне частенько приходится кривить душой, но сегодня мальчик удался на славу – истинным русским богатырем! А ножки у него просто на радость! Несомненно мальчик будет... будет... носить... ботфор..." – тут несчастная мертвенно побледнела и упала в глубокий обморок.
Вернее, не упала. Потому что ее успел подхватить на лету Начальник Охраны Наследника. Генерал-лейтенант гренадерского роста и богатырских статей – Кристофер Бенкендорф. Он стоял совсем рядом с Наследником и последние слова впечатлительной дамы были обращены скорее к нему, чем к Принцу. Вернее, не к нему, а к его сапогам – огромным, тяжелым, надраенным до зеркального блеска ботфортам, которые заканчивались, извините за подробность – "у самых... причиндалов", а те как раз получились на уровне грудей восприемницы. И груди Наследника.
Начальник Охраны Наследника был воистину богатырского роста. И я весь в него, вернее – в его родного брата, который тоже был таким же, как и все Бенкендорфы. Сегодня при дворе только один человек может оспаривать у меня пальму первенства самого рослого человека русского двора. Это нынешний Государь Всея Руси – Николай Павлович Романов.
Любопытна реакция Наследника на сии сообщения. Он необычайно приободрился и сказал весьма гордым голосом:
– "Это – неудивительно. Ребенок настолько большой, потому что мать переносила мальчика в своем чреве. Представьте себе, она по моим подсчетам носила моего сына десять с половиною месяцев! Вот он и вымахал таким громадиной. Ничего удивительного!"
На другой день о десяти с половиною месяцах и ботфортах судачило пол-России и люди не знали, что им делать, – смеяться, или плакать в ожидании правления Павла.
Доложу, когда я впервые услыхал про десять с половиною месяцев, я ржал до болей, до визга, до колик в желудке!
Сегодня мне стыдно за тот смех, – из архивов я понял, что Наследник чуть ли не с первых дней знал, что жена ему изменяет...
Люди – странные существа, и я никогда не любил Павла за то, что он был несомненным лунатиком и маньяком. И вот теперь, после многих лет я узнал, что он... любил свою жену. Любил настолько сильно, что готов был простить ей предательство несомненное. Любил до того, что искренне желал, чтобы ее ребенок любой ценой стал Императором Всея Руси. Много ли найдется других мужчин, которые бы любили своих жен до такой степени?
На нем же самом лежало какое-то ужасное проклятие, – его не любили. Его не любила матушка, его не любили жены, его не любили любовницы. Ужаснейшая кара, какую только можно представить...
Сегодня я пытаюсь понять, какое нужно было самообладание, для того, чтобы не учинить скандал в тех условиях, чтобы не объявить новорожденного младенца – незаконнорожденным...
Ради чего?! Ради сущего пустяка – вашей Любви к неверной вам женщине. Люди бывают странными существами. Даже курносые, колченогие карлики, способные одним своим видом вызвать только наше презрение. Никогда не смейтесь над странностями других людей. Вы можете просто не знать некоторых неприметных подробностей.
А кроме того возникла проблема и – юридическая.
В незапамятные времена в Великой Степи кочевали монгольские скотоводы. Пока монголы резались меж собой, не все примечали, что мужчины надолго покидают свой дом. Но потом стало ясно, что в годы походов резко падает деторожденье в Степи и стало быть – меньше солдат вырастет для новых войн. Из этого в Ясе Чингисхана появился любопытный Указ.
Ввиду того, что монголы числили себя по родам по мужской линии, Чингисхан объявил, что нет разницы от кого родится ребенок. Лишь бы он появлялся от родственника ушедшего на Войну по мужской линии!
В домонгольской Руси право наследованья шло по "братней лествице". По "Русской Правде" (Своду Законов Кнута Великого) наследство умершего переходило к его младшему брату, а если он сам был младшим в семье – к его племяннику от старшего брата при условии, что старший брат сам владел сим имуществом.
Увы, деловая и судебная практика скандинавского общества, выросшего на постоянных "квиккегах" – пиратских походах в соседние земли, сразу вошла в разительное противоречие с Правом и обычаями древних славян. И уже после смерти Ярослава был созван Любечский собор, на коем постановили: "каждый держит отчину свою". (Судя по всему, у тогдашних славян было больше в почете право "отцовское", нежели – "братнее".)
Оба Права все время вступали в конфликт меж собой, но поистине неразрешимым он стал уже при монголах после смерти Даниила Московского. Сей Святой Князь имел несчастие умереть раньше своего брата – Андрея и таким образом не стал Наследником. И стало быть его сыновья – Юрий Злой, да Иван Калита лишились прав не только что на "Великое Княжество", но даже – самое Москву.
Будь сие с другими князьями, История пошла бы иным путем. Но мать Ивана и Юрия была единственной дочкой хана Берке – младшего брата хана Батыя. Сам Берке при жизни имел титулы "Меч Ислама", да "Бич Неверных" и среди своих родственников почитался почти что Святым! И тогдашний Хан Золотой Орды -дядя юных московских князей, – знаменитый на весь мир хан Узбек объявил Москву – "ханским городом", выведя ее таким образом из состава Руси.
Теперь в Москве действовала Яса Чингисхана со всеми ее Указами и нелепостями. Так в "Домострое" появилась строка про то, что "если воин по приказу правителя покинул очаг, а его жена забеременела от родственника его – ребенок считается мужним"!
Сложно сказать, – как сия норма действовала в допетровской Руси, но в эпоху Петра Россия испытала те же проблемы, что и Монголия Чингисхана.
Постоянные войны за тридевять земель от России требовали все больше дворян в действующей, а законы Природы уменьшали число законных детей – в сердце Империи. И тогда древняя норма официально вошла в Законы Петра Великого...
Опять-таки сложно сказать, как именно она воплотилась в жизнь, но из архивов явствует, что иногда офицеры пытались подать в суд на своих жен, а им отказывали именно по этой статье.
Скандал разразился в годы правления бабушки. Потерпевшим оказался сам граф Суворов! За время трехлетней отлучки жена его – урожденная боярыня Прозоровская родила ему сыночка Аркадия.
Суворов был в бешенстве. Ни по срокам, ни по приметам он не мог быть отцом своему первенцу и на основании этого он подал в суд на жену и... собственного племянника. А ему в суде показали на дверь и кипу ровно таких же жалоб иных офицеров.
Сама Государыня сказала своему лучшему генералу:
– "Я понимаю размеры вашей обиды и негодования, но... коль уважить сию просьбу, выйдет еще худшая обида для прочих! А там недолго и до мятежа с Революцией!"
Суворов очень переживал, но не решился пойти против всего офицерства, обиженного ровно этим же образом. Но теперь – если бы Наследник Павел посмел возмутиться и его жалоба была б принята к рассмотрению, – обиженным оказался бы сам граф Суворов и добрая половина офицеров всей русской армии! (К тому же сам "обиженный" – Павел не желал и слышать об Иске.)
Так что Наследникам Александру и Константину осталось лишь утереться и смотреть на крохотного Nicola с долей презрения. Весь двор знал – кто отец Николая, но с точки зрения русских законов он был, конечно же – "Павловичем" и никто не мог с этим что-то поделать!
Вся декабрьская катавасия проистекла из того факта, что в общественном мнении укоренилось два факта: Наследник Константин – бездетный содомит и педераст с весьма сомнительными развлечениями из эпохи Нерона и Калигулы, а младшие братья – Николай с Михаилом – "наполовину – немножко ублюдки". Если первый из фактов попал в нынешние учебники, второй – "ушел в дальний путь по Владимирке".
Одним летним утром 1796 года нас с Дашкой нарядили получше и повезли к "тайным" пристаням, – где сгружали секретные грузы и контрабанду. Поездка была из обычных, но я сразу же удивился, что нас сопровождают – капитан Меллер и его ветераны. Да не в обычной, зеленой форме Рижского конно-егерского, но самых разнообразных одеждах их прусской молодости.
Когда мы приехали, к причалу швартовался "американец". Только с него подали трап, я увидал старенького субъекта высокого роста и необычайной худобы, – из-за высокого борта торговца сперва показался высокий цилиндр, затем узкое, худющее лицо, испещренное глубокими морщинами, которое увенчивала необычайно нахальная козлиная бородка торчком вперед. Далее появился узкий черный сюртук нараспашку, из-под коего виднелась атласная жилетка с огромными золотыми часами на толстенной цепочке и белая рубашка, да галстук – "веревочкой". Но самым ошеломительным в наряде нашего гостя были – полосатые штаны! Навроде тех, что носят комики в балагане и фарсах. На ногах незнакомца были длинные остроносые штатские штиблеты, которые вызвали у нас с Доротеей презрительные ухмылки. Для нашей касты человек не в сапогах – не совсем человек.
Американец подошел к нашей группе встречающих, картинно раскинул руки-жерди в стороны и обнял дядю Додика. Со стороны было очень смешно смотреть на этого долговязого, смахивающего на кузнечика, – или вернее хищного богомола, старикана и маленького, подтянутого и крепко сбитого полковника Меллера, стискивающих друг друга в объятиях.
Затем визитер оторвался от создателя нашей армии и подошел к самой матушке. Она была ростом гораздо ниже его и старику пришлось нагнуться, чтобы расцеловать ее щеки. Только когда их лица оказались рядом, я осознал, где видел это лицо, – каждое утро в зеркале во время утреннего туалета!
И еще за завтраком, когда я входил в столовую и наклонялся к матушке, дабы поцеловать ее. Разумеется, в том отражении, которое я видел в зеркале, лицо было пошире, потяжелей в челюстях (кровь Бенкендорфов), а у матушки еще не образовались эти глубокие, точно кора старого дуба, морщины, но...
Это было наше лицо. Лицо – фон Шеллингов.
Старик шагнул к моему отцу и они пожали друг другу руки. Потом он повернулся ко мне и сказал странным, высоким, чуть надтреснутым голосом:
– "Сэмюел Саттер, к вашим услугам. Можно просто – дядюшка Сэм. А вы кто такой?"
Голос господина Саттера был каким-то особым, какого-то странного тембра. Стоило ему заговорить чуть громче, как появлялись какие-то весьма неприятные на слух, визгливые нотки, но в целом – это был голос человека любившего посмеяться и посмешить окружающих. И я отвечал ему, раскрывая объятия:
– "Я родился после твоего отъезда. Рад тебя видеть, дедушка".
Лицо моего деда исказила какая-то совершенно непередаваемая гримаса, он будто поморщился от какой-то неведомой боли, усмехнулся, ухмыльнулся, подмигнул мне, состроил комическую гримасу, хлопнул меня по плечу, ущипнул меня за нос, обхватил меня за плечи и одновременно шепнул на ухо:
– "В нашем роду рождаются – одни девчонки. Наследственная болезнь... Правда, она позволила нам оказаться в постелях всех лютеранских государей Европы, но... женщины, на мой взгляд, дают опору семейному клану, но только от мужчин зависит его слава и положение. Ты не находишь?
Готовишься стать военным? Это хорошо. Все фон Шеллинги, – кем бы они не стали впоследствии – академиками, торговцами, или вот как я – паяцами, все проходили через армейскую форму. И надо сказать, у нас получалось недурно!"
– "Я знаю, Ваше Превосходительство. Дядя Додик рассказывал, что Вы были – хорошим генералом, а он всегда знает о чем говорит".
Дед тут же нахмурился и с деланным подозрением и неодобрением воззрился на своего бывшего комбата:
– "Давид-то? Он – романтик! Кого ты слушаешь?! Да он в Америке не мог самолично повесить ни одного французского шпика – так у него руки тряслись! Да курица он мокрая, а не – офицер! Кого ты слушаешь?! Он тебе про меня басни плетет, а какой я генерал?"
Дядя Додик и оба его зама – все хором прошедшие американскую кампанию, от души расхохотались, а дед, разгорячился, распетушился, поставил руки фертом, откинул в сторону неведомо откуда появившуюся в его руках тросточку, и закричал неприятным голосом:
– "Цирк приехал, господа! Дамы, не пропустите случая посмотреть на нашего Вильгельма – перекусывает якорные цепи одним зубом, подымает пудовые гири одним пальцем, делает славных детей одним... О, господи, зарапортовался!
Не слушайте меня, увечного, искалеченного, героя войны, а пожалейте, купите билетики, наши билетики – цена двадцать центов, – деньги немалые, но у дядюшки Сэма лучшее зрелище во всех северных штатах! Цирк приехал!
Фокусы! Фокусы! Мсье, посмотрите вот сюда, какая это карта? Не угадали, милейший, свои часы и бумажник получите у кассира за вычетом двадцати центов – актерам тоже нужно с чего-то жить. Мадам, ах, какой запах у ваших духов, я просто потерял голову... Точно такая же голова – голова индейского вождя Тути-Мкути приветствует вас в нашем паноптикуме, а под ним коллекция скальпов его семерых жен, снятая мною собственноручно! Обратите внимание на третий и пятый, они, как видите, белокуры. Я плакал, господа, поверите или нет, я плакал, когда снимал скальпы этих восхитительных дам!
А они что? Они – хоть бы что! Отряхнулись, взяли у меня мои кровные и оставили эти парички мне на память, сказав, что через дорогу они купят новые. Господа, танцы! Дамы приглашают кавалеров, – в заведении дядюшки Сэма все танцуют только самые модные и непристойные танцы из до самого нутра прогнившей – старушки Европы. Итак..." – дед внезапно оборвал свою необычайно занятную тираду (я и впрямь уже чувствовал себя этаким лопоухим зевакой перед дверьми балагана в далекой, неведомой для меня Америке). Его лицо стало каким-то смятым, торжественным и печальным. Он выпрямился во весь свой рост и резко скомандовал так, будто подковки на сапогах лязгнули:
– "Сабли... наголо..! Француз в ста шагах за гребнем. С Богом, братцы!" – а его бывшие солдаты вдруг словно загавкали:
– "Хох, хох, хох, ур-ра!" – и я как наяву увидал генерала в блещущем золотом мундире впереди кавалерийской лавы на стремительно несущемся коне...
Меня охватил какой-то суеверный ужас и я дал зарок, – коль мне суждено умереть до срока, я это сделаю в сапогах и офицерском мундире. В штиблетах и полосатых штанах что-то есть – омерзительное.
А дед мой уже теребил меня, устанавливая мои ноги в исходную позицию и орал:
– "Эту ногу сюда, эту – сюда, улыбочку... По-ошли! Да не так же! Да на тебя обхохочутся все портовые доки от Балтимора до Провиденса! Ты же фон Шеллинг! У тебя должно быть врожденное чувство такта! Ритм, чувствуй ритм, какой ты – будущий жеребец, ежели ритма не сможешь выдержать?! Еще раз пошли!
Вот! Вот так! Получается... Ура, получается – вот это и называется чечеткой. Смотри и учись – пока я жив!" – тут он прямо перед таможенной будкой встал в позицию и отбил такую лихую чечеточку, что даже таможенники выглянули посмотреть и захлопали в ладоши – так здорово у него получилось.
А дед мой, садясь со мною, Дашкой и матушкой в одну карету, обронил вдруг сквозь зубы:
– "Белобрысый парень со сломанным передним зубом справа – негоден. Смотрел на меня, разинув рот, а за его спиной – щель в заборе, – ткнуть его ножом и проход справа открыт.
Замени и девчонку, смешливую такую, что стояла у крыльца перед женским пунктом досмотра. Глаза у нее – шальные, – влюбчивая. Хороший контрабандист ее так скрутит, что она ему и ключи, и печати – маму родную со службы вынесет.
Смени, но – не выгоняй. Белобрысого я бы послал за рубеж. Раз так смотрел – парень с воображением. Ему с людьми должно работать – не с тряпками.
А смешливая – хороша! Выдать ее замуж за не слишком ревнивого и – за границу. Интересные мужики по ней будут с ума сходить, а она видно – с фантазией..."
Тут мой дед обернулся ко мне, прикрыл пальцем мою отвалившуюся от удивления челюсть и сухо заметил:
– "А вот это – нехорошо. Мой внук должен меньше глазеть, да сильней примечать! Впрочем, – мал ты еще для семейного ремесла".
Я страшно обиделся. Я так обиделся, что не выдержал:
– "Я встречал тебя со всей душой, а ты мне – такие гадости! Как же тебе не стыдно?!"
Дед выпучил глаза, – будто от удивления:
– "Мальчик мой, что есть – стыд?! У разведчика не должно быть стыда. Я ведь не собираюсь тебя чему-то учить. На мой взгляд – общение меж людьми сводится к простому обмену мнениями. Коль я тебе интересен, – слушай. Нет, жизнь моя на этом не кончена!"
Я растерялся, – этот странный человек с неприятным голосом вел себя вызывающе, можно сказать – по-хамски, но... я отвечал:
– "Прекрасно. Я согласен на такие условия. Мне интересно, что ты мне скажешь, но я... оставлю за собой право – делать любые выводы и думать своей головой".
Мой дед обернулся к матушке и с интересом спросил:
– "Этому мальчику только тринадцать?! Из молодых, да – ранний. Интересно пощупать – чем он тут у тебя дышит".
А матушка многообещающе ухмыльнулась и предупредила:
– "Я думаю, что вы оба еще удивите друг друга. С ним – забавно. Он у меня уже на все имеет свою точку зрения и однажды – послал меня к черту.
У него есть невеста, о которой я тебе написала, но он – упрям, как все фон Шеллинги. Ведь ты женился на моей матери тоже против воли всей нашей семьи – не так ли?"
Дед внимательно, но с некоторым осуждением во взоре, окинул меня с головы до ног, а затем подмигнул моей матушке:
– "Разберемся. Впрочем, я о том ни разу не пожалел. А ты?"
Матушка задумчиво улыбнулась, и вдруг отчужденно и как-то холодно прошептала:
– "Конечно, нет. Только вот ждала я тебя слишком долго... Лучше бы ты вернулся пораньше!"
Где-то через неделю – мы с дедом катались в окрестностях Озолей и он показывал мне всякие штуки. Как обертывать копыта лошадей лопухами, или вести ее под уздцы так, чтобы она не заржала и не захрапела. Или наоборот, как заставить кобылу тихонько подать голос, чтобы ей ответил жеребец неприятеля. Все это не составляет никакого труда – если знать, как сие делается. Но для меня это была настоящая "Терра Инкогнита" и я слушал дедов урок, затаив дыхание.