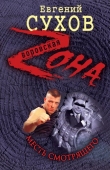Текст книги "Призванье варяга (von Benckendorff) (части 1 и 2)"
Автор книги: Александр Башкуев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Башкуев Александр
Призванье варяга (von Benckendorff) (части 1 и 2)
Александр Башкуев
Призванье варяга (von Benckendorff) ч.1,2
А.Х. Бенкендорф
1783-1844
(Копия парадного портрета кисти Д.Доу из серии портретов русских генералов
– участников Войны 1812 года. 1819-1829. Военная галерея 1812 год.
Оригинал уничтожен по Высочайшему повелению Императора Николая I в 1845 году.)
* Часть I *
Моцарт:
Да! Бомарше ведь был тебе приятель;
Ты для него Тарара сочинил,
Вещь славную. Там есть один мотив...
Я все твержу его, когда я счастлив...
Ла ла ла ла... Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?
Сальери:
Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.
Моцарт:
Он же гений.
Как ты, да я. А гений и злодейство
Две вещи несовместные. Не правда ль?
Сальери:
Ты думаешь?
(бросает яд в бокал Моцарта)
Ну, пей же...
Замысел этой книги родился у меня много лет назад, на одном из вечеров в зиму 1831-1832 годов. Это было волшебное время: мы только что покончили с Польским Восстанием, балы следовали один за другим, – общество ликовало.
Мне тоже сыскали повод для торжества. Государь наградил меня Виртутом Милитари – Высшим Орденом Царства Польского. В шайках – всех мажут кровью.
Не хочу выглядеть чистоплюем и объяснюсь, – на мой вкус лютеранская Латвия так же отлична от православной России, как и чертова Польша. И если поляки жаждут Свободы от русских, того ж требуют и мои латыши. Поэтому я отказался поднять егерей на эту пирушку и вступил в бой лишь когда польская мразь стала жечь церкви, да вешать русских попов.
Война – войной, Свобода – Свободой, но слуги Божии (какой бы Веры они ни были) – безоружны и не вступиться за них – страшный грех. Когда мои лютеране прибыли, наконец, на войну, Государь был столь счастлив, что сразу хотел наградить, но я – отказался. Теперь, после общего омовения в польской крови, отказ выглядел бы Бесчестным и я принял награду.
Бал, данный мной по этому случаю, отличался особой пышностью и весельем. (Не потому, что я получил эту висюльку, иль истребил еще кучу католиков, но – в ознаменование новых льгот, вырванных нами у русских.)
Была вся столица – положительно вся: Августейшая Чета впервые "вывела на свет" Наследника и столичные барышни падали в обморок от одного взгляда юного принца. Из министров и сенаторов были все. Все пришли свидетельствовать мне почтение. (А может не мне, но – моим егерям, без коих русские так и не справлялись с поляками.)
Успех был совершенный. Гости разъезжались под утро, и на прощание Государь, будучи в легком подпитии и потому – хорошем расположении духа, изволил предложить продолженье банкета в другой день в узком кругу.
Левашов сел писать список "узкого круга", а мы с Орловым и Государем стали выдвигать кандидатов. Набралось человек тридцать (без дам),– все либо "немцы", иль из сильно сочувствующих. Разумеется, такая пьянка не могла обойтись без слабого пола и мы пригласили всех жен и... наших подруг. С их благоверными. Мы ж – не китайцы и знаем кое что о приличии.
Список уже закрывался, когда я приметил, что Государь жаждет видеть еще одну даму, но не решается просить нас об этом. Я толкнул в бок графа Орлова. Он отрицательно покачал головой, ибо крепче других заботился о Чести, но Левашов, приметивший наши все перемигиванья сразу спросил:
– "Кого еще, братцы?!"
Я отвечал:
– "Может быть, Пушкин? Должен же быть и шут за столом..."
Государь сразу обрадовался, Левашов же нахмурился хуже Орлова и сухо сказал:
– "Это твое награждение, кого хочешь и – приглашай. Но я б не советовал – общество не поймет. Вам, немцам, оно ни к чему, а русские не поймут".
Здесь я раскрою известную тайну. Да, Государь больше немец, чем русский, ибо воспитывался в нашей среде и просто не знал русских понятий. О Долге, Чести и Крови.
Ему нравилась юная Пушкина и он не мог взять себе в толк, почему нельзя пригласить ее (с мужем, конечно) к себе на обед. Верней, почему русская знать так ярится при одном слове "Пушкин".
Дело же в том, что у русских понятие "Честь" более родовое, чем у всех европейцев. Именно Родовая Честь требовала у многих из нас держать "гиблую высоту" на Войне. Ценой собственной жизни, но и Чести – сыновьям, внукам и правнукам. Верен и обратный пример.
Пушкины навсегда запятнались тем, что дед Александра Сергеевича был зачинщиком и участником всех бироновских безобразий. И если к Бирону, Остерману и Левенвольду отношение в русской среде было больше брезгливым -"мол, что взять с этих немцев", то к русским их блюдолизам... Согласитесь, что когда бьет, да вешает иноземец – ему можно простить, но когда вроде бы свой...
Дети Изменника на Руси страдают всецело, внуков же избегает чаша сия, если дед с другой стороны своей Честью покроет Бесчестие свата. Увы, с Ганнибалами судьба обошлась даже гаже... И дело не в крови, – те же Кутузовы ведут род от мамлюкского султана Коттуза, а в том – каким местом арапчонок Абрам стал генералом. И если с сыном Изменника на Руси не здороваются, потомков "ночного горшка" в казарме ждет худшая участь.
Прежний Государь знал эти вещи и не привечал "сию порчу", Nicola же настолько далек от русского языка и Культуры, что просто не знал про такого поэта.
Я же, будучи гроссмейстером "Amis Reunis", обязан Уставом и "Целью Бытия" нашей Ложи содействовать развитию Русской Культуры. И вот, по согласованью с "Великим Востоком" моего кузена Сперанского ("Amis" не имеют права на деятельность вне Прибалтики и в России обязаны просить обо всем "Великий Восток"), я однажды "подвел" моего протеже к Государю. Царственному кузену было плевать – кто получит права на Имперский "станок" и он с радостью свалил на меня этот груз.
Вот и пришлось мне потеть, приглашая поэта, развлечь толпу то туда, то – сюда. Это – нелегкое дело, ибо по русским понятиям сие покровительство "порчакам" пятнает Честь самого благодетеля. Именно сия запятая принудила нас в свое время всерьез обсуждать – кому из русских поэтов мы даем покровительство.
Было три претендента: Пушкин, Катенин и Кюхельбекер. Катенин уже тогда сильно пил, Пушкин "был порчен" в глазах русского общества, а начать русскую словесность с человека по имени Кюхельбекер у моих Братьев не подымалась рука. В конце концов, согласились на том, что пьющего лишь могила исправит, Кюхельбекера никогда не признают своим среди русских, а Пушкина должен вывести в свет человек – будто не знающий русских порядков.
Вот так и вышло, что хоть "Культурой" у "Amis" и занимались Грибоедов, да Чаадаев, "выводить Пушкина" пришлось именно мне – "глупому немцу". Поэтому я и шел против русских понятий и правил:
– "Мой брат хочет видеть конкретную даму и я приглашу ее с мужем на мое торжество. Прошу понять меня и не устроить скандала".
Второй бал выдался лучше первого. Так всегда бывает, когда встречаются только друзья. Многие жены, зная нас и что предстоит, сослались на нездоровье, да усталость от первого бала. Супруги наших подруг не рискнули докучать своим видом так что, – число дам было равно числу кавалеров. (Плюс-минус моя жена, Государыня, пронырливый Нессельрод, ухаживавший за обеими, пока я имел тур мазурки с "Прекрасной Элен" – графинею Нессельрод, да... Пушкин.)
В первый день было сложно расслабиться, -"австрийцы" любят злословить, да и глядеть на постных масонов – удовольствие ниже среднего. Но "положенье обязывало", как говорят лягушатники, и мне, скрепив сердце, пришлось звать эту шваль.
А в отсутствие сих уродов мы отвели душу. Дамы раскраснелись и разыгрались вовсю, особенно когда Государю выпало водить в жмурки. Мазурки следовали одна за другой, и моя нога – память о Бородинском деле разболелась так, что я не мог шагу ступить на другой день. Ну и, конечно, мы воздали должное Бахусу до такой степени, что Государю стало малость нехорошо, и мы усадили его в кресло перед раскрытым окном.
У Государыни к той поре разыгралась мигрень. Все ж таки она иностранка, а им многие наши забавы никогда не понять. Государь порывался ее проводить. Государыня же, видя его чудесное настроение и памятуя о том, как легко оно портится, уговорила мужа не бросать нас. У Царя есть не только права, но и обязанности. А только она уехала, мы сели в фанты, потом были жмурки и закрутилось!
Из всей компании выпадал только Пушкин. Недаром нашу Империю зовут "сословной монархией". Иль на общепонятный язык – кастовым обществом. Высший класс имеет право на все (за вычетом общения с "низшими") без ущерба для собственной Чести. Обязанность же одна – в черный день встать "под Орлом" и умереть – где придется.
Другая каста зовется Синодом и духовенством, – мы с ними почти не общаемся, но у них тоже – свои права и обязанности.
Дальше идут купцы, чиновники, инженера, да врачи и ученые. У них тоже – свои права, да обычаи, – у каждого цеха по-разному. Но сие – так далеко от меня, что я боюсь и напутать.
Ниже всех – мужики. Некоторые – крепостные, другие вроде бы как -свободны, но разницы на мой взгляд – никакой. Но даже последние мужики в общественном мнении выше – "ваганек", – людей вне каст, иль сословий.
Эти состоят из актерок, бумагомарак, да иных куаферов – и прочих шлюх обоего пола. "Домострой" просто говорит, что "ваганька" не имеет Чести, как понятия – в принципе, а из поучений Церкви следует, что в России у таких нет и... Души. Может быть и была – да вся вышла. (Кстати, Пушкина за "ваганьковский образ жизни" Церковь не дозволила хоронить в освященной земле – ни в столице, ни в первопрестольной. Вот и пришлось родственникам везти эту "ваганьку" куда-то в деревню, но даже там поп не пустил их на деревенское кладбище!)
Сия ненависть Церкви легко объяснима. Став при дворе, Пушкин сразу же стал военнообязанным (как и любой другой дворянин нашей касты). Но когда началось Восстание, он вместе с многими испугался. (И было с чего – поляков до зубов вооружила Англия с Францией,– я в первый раз в жизни видел конную артиллерию на дутых шинах с рессорами! Техническое превосходство восставших над русской армией было столь велико, что победа поляков казалась лишь делом времени. Пока не прибыли мои егеря со штуцерами, винтовками, унитарным патроном, да оптическими прицелами... Русским же не по деньгам так вооружать свою армию.)
Потери средь русского офицерства в первые ж дни Восстанья стали попросту безобразны. Государь каждый день посылал от двора все новых людей и те гибли под английской картечью. (Англичане в своем порохе пользуются чилийской селитрой, обладающей большей мечущей силой, нежели получаемая в России – из мочевины. Разница выстрела лишь за счет пороха достигает двухсот шагов!)
Многие из "дворовых", дабы избежать чаши сией, бросились из столицы, прячась по карантинам. (Холера, грянувшая тем летом в России, дала им столь гнусный способ к спасению.) Зимой же, когда холера пошла на убыль, Государь лично просил всех "холерных" отбыть на войну. И вот тогда Пушкин... женился.
Невеста его – юная Гончарова была милой, божественной... бесприданницей. Лишь поэтому родные ее пошли на столь пятнающее их Честь родство. Но долгие годы они все надеялись выдать красавицу в лучшие руки... Все изменила война. Слишком много полегло офицеров и Гончаровы смирились с Судьбой – лучше уж такой муж, чем вообще никакого.
Но тут... Звереющие поляки стали не только рушить православные храмы, но и вешать попов, да монахов, а на православное Рождество в январе 1831 года сотни русских священников были согнаны в церкви и сожжены поляками заживо (именно после сего варварства я и смог поднять на ноги моих лютеран).
Священный Синод в происшедшем увидел не только обычную ненависть поляков к России и Православию, но и... особенный умысел. Поэтому Русская Церковь объявила 1831 год – годом скорби и просила всех воздержаться от каких-либо празденств. (Именно поэтому все балы и гуляния в честь победы над Польшей начались именно в Рождественскую неделю 1832 года, – даже день капитуляции Польши армия отметила лишь гробовыми поминками русских батюшек.)
Для Пушкина возникала дилемма – жениться, идя наперекор мнению общества и всей Православной Церкви, но получить год отсрочки, положенный любому молодожену. Иль не жениться, попасть в действующую и... Там уж – на все Воля Божия.
Пушкин сделал свой выбор, Церковь же объявила сей брак "нечестивым" и "безблагодатным" со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Государь никогда б не решился столь открыто ухаживать за милой Пушкиной, не числись она дамой свободной во всех отношениях, ибо брак ее так и не был признан Синодом. А так как она "без священного брака" уже была кем-то "пробована", Честь ее испарилась и мой кузен мог с ней что угодно, не обременяясь любыми угрызеньями Совести. В нашем кругу столь "доступных" дам можно пересчитать буквально по пальцам, а тут ведь не просто – какая-то, а женщина по праву носящая титул "первой русской красавицы"!
Так что Государь развеселился сверх всякой меры, офицеры по сему поводу говорили просто скабрезности, наши ж подруги имели возможность вовсю поиздеваться над "шлюшкой" за чужой счет. (В случае с фавориткой им это вышло бы боком, но Пушкина была "без Чести" и не смела хоть как-то влиять на Наше Величество.)
Но еще хлеще досталось самому будущему рогоносцу. Раз он явно не мог "сберечь бабы", – господа офицеры шутили, что "в казарме новая девочка" и надобно "подарить ее Чернышеву". Если "в масть не пойдут", так хоть "развлекутся на дыбе"!
Дамы фыркали и перешептывались, обсуждая быт и нравы бахчисарайских татар, уверяя друг друга, что у татар и арапов сие на манер ослиного. А одна из фрейлин побойче (не стану упоминать ее имени) даже громко спросила, знаем ли мы, что от брака кобыл с ослами родятся только бесплодные мулы и поэтому в жеребячьем обществе нет места штатским ослам? Или здесь речь – о сохатых?
Как виновнику торжества, мне пришлось спросить у нее – чем ей не нравятся штатские?
– "Запахом", – отвечала прелестница, – "шпак за версту пахнет чернилами, потной задницей, да рукоблудием. А вы что, – не чуете?"
Я весьма растерялся и промямлил, что никогда не примечал за Пушкиным таких "доблестей", а затем нашелся и спросил, чем же пахнет от нас офицеров?
Так эта нахалка окинула меня столь откровенным взглядом, что мне стало не по себе. Она ж втянула в себя воздух, будто нюхала меня через весь зал, обернулась к своим соседкам и, с таким видом, – будто по секрету, но довольно громко сказала:
– "Эполетами", – при этом она опустила взгляд ниже и, лукаво улыбаясь, добавила, – "свежими орденами", – затем посмотрела еще ниже и, к дикому оживлению дам и восторгу офицеров, воскликнула – "Ах!"
Я привел сей случай лишь для того, чтоб описать атмосферу нашего праздника. Если таковым был уже вечер, можете вообразить, что в нашей казарме творится к ночи.
Тем не менее, я почуял, что если срочно не приду на выручку Пушкину, его пить дать – заклюют.
Поэтому я призвал всех к вниманию и предложил Пушкину прочесть "Клеветникам России". Сперва стоял сильный шум, и многие не поняли, почему заговорили по-русски (в нашем кругу все общаются лишь по-немецки), а общее предубеждение против "шпака" было столь велико, что его чуть не ошикали. Правда, последние слова сего творения потонули в громе оваций. Дамы плакали, а генералы считали долгом пойти к Пушкину и потрепать его за плечо.
В нашем кругу не найдешь человека, на коем Война не оставила бы отметин. Все прошли через Аустерлиц, и через Фридлянд, и были на Бородине, да при Лейпциге. Да и посмотреть на чертов Париж, – грязный, с поджатым хвостом, дешевыми кокотками и жмущимися буржуями – всем довелось.
Мне часто снятся Фридлянд с Бородиным. Господи, сколько ж друзей я там оставил...
А лягушатников мы били, и будем бить! Да и на польское быдло у нас осин хватит.
Из всех нас лишь Государь не прошел через всю эту кашу, а остальные все – причастились. Дамы плакали... Почти у всех на Войне остался: у кого отец, у кого – милый друг, у кого – старший брат.
Это – Русь-матушка. Довелось тут родиться в казарме, так в казарме и отпоют. А не довелось, – так и сдохнешь поганым асессором. Вроде Пушкина...
Есть на Руси тайный закон, – о Войне смеет знать только тот, кто прошел через все это. Коль тридцатилетний мужик бегает от войны, прячась по карантинам в час польского мятежа, какие бы патриотические стишата он ни кропал, – в его отношении общество дозволяет все, что угодно. К тому же все сразу заговорили о Дельвиге.
Сей негодяй в Честь начала Восстания тиснул якобинскую оду, прославлявшую чуть ли не – гильотину. Я вызвал баловника на ковер и спросил, давно ль его мамка не шлепала по мягкому месту? После двухсот шпицрутенов, да по заднице – пишут совсем иные стихи. Дельвиг мне не поверил, я побился с ним об заклад и свистнул пару жандармов покрепче.
Вы не поверите, – сей "якобинец" наделал в штаны, когда осознал, что я уже не шучу. Обкакался прямо, как маленький, и хлопнулся в обморок, когда его только повели – вниз, в подвал тихого здания у нас на Фонтанке. А мы его еще и пальцем не тронули!
Пришлось отправить домой сего обосранца (и все наши картинно зажимают нос, коль речь заходит о Дельвиге), а там он (якобы) занемог и, по увереньям семьи, в три дня помер "от слабости сердца".
На самом же деле, от страха перед грядущим допросом, сей барончик глотнул самого обычного уксусу и сжег себе пищевод и желудок. Его ж родственники упросили меня не давать делу ход, чтоб не позорить имени Дельвигов. На мой вкус звания "обосранцев" для сего дома довольно и я все замял. Церковь, правда, не пожелала принять самоубийцы, но это уже – другая история.
Дело сие (правда, без уксуса) приняло большую огласку и общество разделилось. Иные сказали, что я был лишне жесток, другие считали, что теперь надобно допросить всех, причастных к сей публикации. На предмет якобинского заговора.
Пушкин числился другом несчастному, его нежелание воевать против Польши стало выглядеть в ином свете, а свадьба в обход просьбы Синода стала рассматриваться как участие в "антирусских кругах".
Тут же пошли разговоры о том, что Пушкин, якобы, стал масоном в дни кишиневской ссылки и общество сразу озлобилось. Ибо для русских все масоны казались поляками и якобинцами.
Ничего не могу знать по сей категории. Был договор меж лютеранами и православными, но большая часть Лож на Руси были Ложами католическими и мутила воду по-всякому. Мы пытались призвать их к Порядку, но католики объявили нам почти что войну и мы истребили их всех.
С той поры в Прибалтике и Финляндии осталась лишь моя "Amis", а в России – один "Великий Восток". Но Молдавия, униатская Украина, зона Одессы и Польша остались вне моей компетенции и католики там резвились вовсю. К примеру, людей там принимали без всякой проверки и рекомендаций – иной раз, – прямо с улицы.
Но Ложи сии – просто микроскопические, грызущиеся меж собой и не имеющие реальной силы ни в Империи, ни – за границей. Так что и смысла там состоять – нет никакого. А посему для нас с "Великом Востоком" их как бы и нет. Что бы там ни плели насчет Всемирного Братства Вольных Каменщиков... Это лишь болтуны, да бездельники мыслят общими категориями, для нас же -все очень конкретно.
Как бы там ни было, общество жаждало крови и сие сочинение чуть успокоило страсти среди обывателей. В иных же кругах сия гадость стала лишь доказательством низкой душонки поэта. Средь них многие верили, что отказ от участия в подавленьи Восстания – позиция человека и скрытое сочувствие Польше. (Вплоть до сожжения русских священников вся "латвийская" партия сочувствовала полякам, ибо поднялись они на Восстание за Правое дело, – это Россия в 1829 году нарушила Договор 1815 года "Об учреждении Царства Польского" изданием нового Свода Законов Российской Империи.)
А "Клеветникам" все расставили по местам – с той поры и до выстрела на Черной Речке у несчастного были одни враги и ни единого товарища при дворе.
Если бы Государь на сем вечере не изволил напропалую ухаживать за обворожительной Натали, многие бы из нас затеяли б над сим перевертышем любую проказу.
Впрочем, тут нас позвали к столу, и у меня возникла надежда, что неловкость в отношении Пушкиных сгладится за едой, но Государь, одушевленный отсутствием чужих глаз, развеселился сверх всякой меры и предложил "занять места какие угодно" и сам подал пример, усевшись на стул Пушкина, рядом с "первой красавицей".
Мы все были в шоке. Чтобы как-то сгладить неловкость, и обиду для Государыни, причиной коей полагаю "Клико", я в шутку сказал:
– "Когда Государь желает предстать перед нами поэтом, поэту прилично царствовать за столом. Прошу Вас, Александр Сергеевич, вот сюда – во главу".
Многие перевели дух (на Руси испокон веку во главу стола сажали шутов), но тут все испортила Государыня. Она сказала:
– "Нет, не пойдет. Мы собрались в доме троюродного брата моего и если тот, кому должно возглавить собрание, отказывается от Чести, я считаю, нет, я настаиваю, чтоб Герцог Латвийский занял место Господина Всея Руси".
Фраза прозвучала более чем двусмысленно, и Государь даже на миг побагровел, бросив на меня не самый дружеский взгляд. Многие не знают, почему Государь так болезненно относится к шуткам, затрагивающим имя мое вкупе с именем Государыни. Не знают и, забавы ради, подтрунивают над сей чувствительностью Nicola.
Проблема же не во мне, но статуте "Латвийского Герцогства", не признанного Россией, но существующего для протестантской Европы. Вплоть до того, что на Венском конгрессе Англия с Пруссией "особо оговорили латвийской вопрос", а в 1816 году заключили с моей матушкой договор, согласно которому "обязывались оказать военную помощь в случае русской агрессии".
Ее Величество – урожденная Гогенцоллерн и моя троюродная сестра. Поэтому она любит где надо и где не надо пнуть мужа сией исторической пакостью. Nicola – мой двоюродный брат и не сомневается в моей ему верности, но вечно заводится от таких слов. Политика – мать ее так.
В другой раз Государыня не решилась бы на очередную семейную бурю (вплоть до выведения прусских и русских частей к общим границам), но на сей раз ее уж очень обидел мужнин поступок. В нашем кругу у всех есть любовницы, но не ухаживают же за ней при законной супруге!
Особенно ж всех взбесила позиция Пушкина и его шлюшки. Если кто пьян и забылся, достаточно мужу поманить жену пальцем и... "друг" обязан знать свое место. Пусть даже он – Самодержец Всея Руси. Или назавтра мы – в фараонстве, иль еще худшей сатрапии! Ибо в другой раз речь пойдет о наших супругах и – нашей Чести...
Этот же ... сидел с блаженным лицом и делал вид, что скандал ни капли его не касается. Что взять с "порчака"?! А у всех нас сразу заныли старые раны, – это в обычной семье бьют посуду, а этакие супруги лупят друг друга полками... Нашими, мать ... , полками.
Да ладно б если с галлами, да бритонами – тех не жалко, а в нашем кругу у двух из троих немецкой крови больше чем русской... И лезть под братнюю пулю из-за Государевой шлюшки – лично мне, – ну никак не хотелось.
А эта?! Ну сказала бы своему обожателю, что сие – неприлично. Иль хотя б поклонилась Ее Величеству, – мол, я бы рада уйти, но не смею перечить Его Величеству. Нет же! Сидела и радовалась, что в центре внимания! Шлюха, она и есть шлюха... А нам из-за таких вот – в штыковую, ежели что. (Ведь дело не только в семейных-то склоках – меж нами с пруссаками вопрос о польской границе, о торговых квотах, да сборах, о статусе Мемеля... – да тут на три войны хватит!)
В общем, не вовремя затеялся сей разговор, ох, как не вовремя!
А у Государя уж лицо багровеет, да шея у воротничка аж надулась -вот-вот заорет, что завтра же пострижет Ее Величество в монастырь! (И что мне тогда делать? Вести полк егерей – отбивать родную кузину? Не поведу -прощай Честь, ибо это – сестра моя. Поведу – замараю Честь Мятежом против брата. Куда ни кинь – все клин.)
Она ж, по обыкновению, будет стонать, что немедленно уезжает и забирает Наследников. Государь в крик, – "сыновей не отдам". А как не отдать, если прусский король сразу в амбицию – "моих племяшей томят в русской тюрьме"! Затем "хох", "зиг хайль" и "руссиш швайн". И прусские гренадеры на марше к нашим границам... А во главе гренадеров – свекор моей старшенькой...
Мы с ним сдружились в феврале 1813-го. В Берлине. Француз превратил город в настоящую крепость, и нам пришлось его брать. Я там больше половины людей положил...Свату пришлось еще хуже – он был с "фольксштурмистами" вчерашними штатскими.
По сей день помню вкус водки, какую мы пили из котелка на ступенях их Канцелярии. Кругом шла стрельба, что-то горело, да рушилось, а мы поставили водку в снег, и обнимались, да тискались, как два мужеложца. Когда стало тише и окруженные подняли лапки, мы узнали, что у меня в пеленочках дочь, а у него – малый сынок...
С той поры много лет утекло и наш союз с Гинденбургами уже явление политическое, но сдается мне, что сват помнит ту водку и тот котелок... Я знаю сколько причин к драке с Пруссией, но не вижу единой, чтоб мне воевать с моим сватом.
Мир в Европе стоит, пока не вымерли генералы Войны. Пока живы я, Витгенштейн, Гинденбург, да "милый Артур" – герцог Веллингтон.
А Государь, да прусский король в сем не участвовали. Вот и охота им строить из себя Цезарей с Ганнибалами. Что один, что другой – шпак, не нюхавший пороху.
И вот сии недоросли погонят нас на войну. Стрелять сват в свата. А ведь придется...
Спас нас всех Нессельрод. Он юлой подлетел то к Его Величеству, то к Ее Величеству, всех успокоил, всем больное место лизнул, а потом выскочил на средину и говорит:
– "У меня есть идея! Раз Государь не хочет на свое место – пусть так. Раз наш Хозяин не хочет на место кузена – прекрасно. И раз Государыня хочет к кузену – все просто. Пусть Ее Величество сядет к Бенкендорфу, а я готов сидеть с госпожой Бенкендорф. Стулья же во главе стола – посвятим их Господу нашему и Божьей Матери и будет нам всем благодать!"
Все страшно обрадовались, стали двигаться и пересаживаться и так получилось, что прибора одного не хватило. И прежде чем кто-то успел что-либо предложить, Ее Величество сказала по-русски:
– "Ступай, братец, на кюхен. Там тепье все готоф. Тепья позофут, когда срок".
Она сказала сие, обращаясь к нашему рифмоплету. Вообще-то кузина хорошо знала русский, но ее просто взбесило неумение Пушкина говорить по-немецки. Пару раз она о чем-то спросила поэта, тот не сумел слова связать, почему-то переходя на французский. Лягушачье же наречие в нашем кругу – с Войны признак дурного тона. К тому ж Государыня долго была в лягушачьем плену и с той поры любое галльское слово принимает как личное оскорбление.
Все наложилось одно на другое... Зал грохнул. Каюсь, смеялся и я. Смеялся я оттого, что не надо мне мучиться за кого быть – Государыню, иль Государя, не надо мчаться в полки, да марать очередную духовную, да не маяться мне на марше о том, что дочки не выданы, а война с Пруссией... Найдут ли после такой они себе партию?
После 1812-го две трети дворянок в монастырь подались... Вот и смеялся я, как последний дурак. И не стыжусь.
Пушкина вывели.
Вскоре после первой перемены блюд Государь пожелал "развеяться на стишатах".
Пушкин прочел "Моцарта и Сальери" под копченую стерлядь в белом вине и раков в сметанном соусе. Шум стоял такой, что даже нам с Государыней, а мы сидели к чтецу ближе всех, едва было слышно, а что слыхал Государь, сидя в той стороне стола – Бог весть. Впрочем, ему все понравилось, ибо всю дорогу он комментировал пьесу на ухо Пушкиной, а та всеми силами старалась не прыснуть от его шуток на сцене отравления Моцарта.
Мне же, к примеру, очень понравилось. Да и Ее Величество, которая сперва была так шокирована поведением Государя с его новой шлюхой, увлеклась сей великой трагедией, и подала пример к бурным аплодисментам.
Я был настолько рад успеху Александра Сергеевича, что считал вечер несомненно удачным. Ведь сама идея пригласить Пушкиных имела смыслом не только угодить Государю, но и предотвратить очередную ссылку поэта, подготовленную Августейшим семейством. Государь желал спровадить докучного мужа, Государыня думала, что у его жены достаточно Чести, чтоб не быть на балах в отсутствие мужа. (Государыня ошибалась – мадам Пушкина даже родила двух детей в отсутствие мужа, – долговязого, белокурого, сероглазого Сашеньку и столь же белокурую и сероглазую Натали. При том, что сама Пушкина была кареглазой шатенкой, а Пушкин – догадайтесь с трех раз. Общество было просто шокировано!)
Ах, если бы Пушкин чаще прислушивался к словам, а еще лучше интонациям Государыни! Не знаю, удалось ли бы мне спасти его от судьбы, но от материальных трудностей он избавился б наверняка... Государыне вправду понравилась его пьеска, ведь Ее Величество в душе необычайно сентиментальна, и всем своим видом она уже выказала свою благосклонность, но тут...
Государыня собиралась уже уезжать и даже предложила Пушкиным место в третьей карете, и сам Пушкин тоже было оделся, но тут Государь примчался в очередном туре мазурки, и, не переставая кружить Натали, закричал:
– "Браво, Пушкин, мы поставим вашу трагедию в Мариинском! Останьтесь и после танцев мы обсудим актеров и декорации".
Я стал делать знаки – уезжайте! Уезжайте немедленно! Скажите, что у вас болит зуб. Скажите, что у жены на заднице чирей. Скажите, что хотите, только – уезжайте!
Черт бы побрал всех этих поэтов... Стоит сказать им, что они – вторые Гомеры и все...
Лицо Пушкина расплылось от удовольствия, он передал слуге уже готовую шубу жены и сам стал раздеваться. Его Величество, не прекращая танца, унесся с Пушкиной по паркету Бог знает куда, а Государыня...
Только я, ее кузен, профессиональный жандарм, смог бы заметить эти на миг проявившиеся желваки, этот чуть искоса и исподлобья брошенный взгляд, эти побелелые следы ногтей на ладони, когда она протянула мне руку для прощального поцелуя. И только я, сын своей матери – урожденной баронессы фон Шеллинг смог понять скрытый смысл реплики моей кузины:
– "Поздравляю Вас, Пушкин. Я слыхала, мой муж готов поставить вашу вещичку... Мило. Весьма любопытно. Желаю удачи".
Пушкин не понял немецкой фразы и рассыпался в благодарностях, а я закрыл глаза и докончил речь Ее Величества так, как это бы сделала моя матушка – "Она теперь тебе пригодится".
Что ж... Пушкин выказал себя идиотом. Когда кузина уехала, я хотел подойти к нему и объяснить, что ему теперь не выбраться из долгов, а пьеска его теперь – тьфу, а не пьеска. Но он бы так счастлив, что у меня просто не хватило духу сказать ему, что теперь, после этих слов Государыни на его спектакль придут только круглые дураки, да нищие. И первые весьма скоро станут вторыми, если вздумают тягаться с Империей кошельками. (Государь в реальности – нищ, как церковная крыса. Все, что есть в доме Романовых -приданое Государыни, да свадебные подарки невесте от моей матушки.)