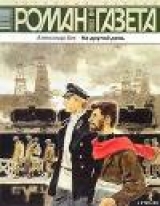
Текст книги "На другой день"
Автор книги: Александр Бек
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
7
Меж тем несколько кудлатый, с темной щеточкой усов, весь как бы на шарнирах, Мануильский не унимается, некий бесенок подбивает его отколоть новое коленце. Озорно посмотрев на Сталина, он опять искуснейше воспроизводит грассирующий говорок:
– А вы, това-а-ищ…
Уже на кончике языка повисло: Сталин. Вдруг непревзойденный имитатор запинается. К нему с неожиданной, будто кошачьей легкостью повернулся Коба, вперил тяжелый взор. Черт возьми, каким нюхом Коба разгадал, что ему в спину нацелена стрела? Затылком, что ли, видит? Глаза Сталина сейчас недвижны, в карей радужке явственно проступил отлив янтаря.
Под этим взглядом Мануильский на миг, что называется, прикусывает язык. Однажды этот весельчак уже имел случай убедиться, что со Сталиным лучше не шутить.
Случай был таков. Поезд Сталина, возглавлявшего Военный совет Царицынского фронта, шел с Волги в Москву. Охрана в теплушке, дежурные пулеметчики на бронеплощадке на всякий случай прикрывали поезд. В хвосте двигался вагон Мануильского, которому была тогда поручена горячая работа чрезвычайного комиссара продовольствия в районе Украины и прилегающих южных областей.
В пути Мануильский коротал вечерок у Сталина в его вместительной, по вагонным масштабам, столовой. Туда сошлись некоторые близкие Сталину люди, сопровождавшие его. За стаканом вина Мануильский разыгрался. Кого только он в тот вечер не показывал! Начал с Троцкого, воспроизвел металлически чеканный голос, сумел даже, как божьей милостью иллюзионист, достичь того, что присутствующие вдруг словно узрели несколько высокомерный профиль Троцкого, профиль не то Мефистофеля, не то пророка. Неприязнь, вражда между Сталиным и Троцким в те месяцы – в жизни Сталина «царицынские» распылалась, стала открытой. Эффектные сценки с участием Троцкого вознаграждались хохотом. Удались на славу и другие импровизации-перевоплощения.
Уже запоздно, что называется, под занавес Сталин спросил:
– А меня показать можешь?
– Пожалуйста!
И разошедшийся, слегка под хмельком гость талантливо в нескольких эпизодах сыграл Сталина. Придал физиономии грубоватость. Каким-то фокусом заставил глаза утратить блеск. Изобразил: Сталин, сунув руку за борт френча, диктует телеграмму: «Я, Сталин, приказываю дежурному немедля отправить по назначению. Москва. Ленину. Пусть Мануильский даст телеграфное распоряжение своим уполномоченным не захватывать наших продовольственных грузов и мануфактуры, не противодействовать приказам Сталина. Копию за номером мне, Сталину. Горячий привет. Сталин».
За столом вновь хохотали. И больше всех смеялся Сталин.
Распрощавшись, вернувшись к себе, Мануильский сладко уснул под убаюкивающее постукивание, покачивание вагона. Утром еще сквозь дрему он неясно ощутил странно долгую тишину и неподвижность. Оказалось, его вагон отцеплен, стоит в тупике на какой-то глухой станции.
С того времени Мануильский уже не рисковал шутить со Сталиным. Теперь поддался было соблазну, но, встретив взгляд Сталина, осекся.
И в мгновение перестроился. Восклицание, имитирующее голос Ильича, прозвучало так:
– А вы, това-а-ищ… э…э… Каменев? Изволили засаха-аинить наше госуда-а-ство? Сп-я-ятали в ка-а-ман бю-о-ок-аатизм? Благода-а-ю, п-е-евосходнейший пода-а-ок!
Давно замечено, что артист в сфере своего таланта предстает человеком более тонкого, более проникновенного ума, чем в повседневности. Это следует в какой-то мере отнести и к Мануильскому.
Коротенькое восклицание угодило, что называется, в точку. Интонация ленинской иронии столь уместна, что удается на минуту обморочить и достопочтенного «лорд-мэра». Не распознавший подвоха, Каменев благодушно возражает:
– На юбилее и про бюрократизм? Не бестактно ли?
Ленин раскатисто хохочет. Сдается, все тело участвует в этом приступе безудержного смеха, ноги пружинят, приподнимая и вновь опуская раскачивающийся туда и сюда корпус. Опять смеются и вокруг. Слышно, как Ленин, еще рокоча, выговаривает:
– Попались, батенька! – Уняв себя, он продолжает: – А по мне, долой такие юбилеи, на которых нельзя огреть коммунистических чинуш. И, посерьезнев, добавляет: Выдавать теперешнюю нашу республику за образец – это такая, гм, гм, снисходительность, из-за которой в один прекрасный день нас с вами повесят.
– Но вы же сами, Владимир Ильич, писали, что…
Ленин отмахивается:
– Доводилось, доводилось писать и глупости. Но такое лыко нам в строку не поставят, если не заважничаем.
…Выставив плечо, Ленин пробирается к Сталину и, взяв его за локоть, увлекает к свободному простенку. Они встали рядом, приблизительно равного роста, один – пятидесятилетний, в послужившем опрятном европейском костюме, не расставшийся во все годы российских потрясений даже с жилеткой, с запонками, с цепочкой в косых срезах воротничка, живо поворачивающий туда-сюда отсвечивающую крутизну лысины, другой – на девять лет моложе, в одежде фронтовика, на вид невозмутимый, с копной отброшенных назад черных толстых волос над узким лбом.
Из внутреннего пиджачного кармана Владимир Ильич достает сложенную вчетверо бумагу, которую час-полтора назад ему привез мотоциклист или, как тогда говорилось, самокатчик, развертывает и без слов подает Сталину. Бумага помечена грифом: «Полевой штаб Революционного Военного Совета Республики, Совершенно секретно». В сообщении говорится, что сегодня, 23 апреля, на Западном фронте вторая и третья галицийские бригады, ранее перешедшие к нам от Деникина, подняли восстание в районе Летичева, то есть на стыке 12-й и 14-й армий, и повернули оружие против советских войск. На этом участке фронта образовался опасный разрыв. Для подавления мятежа в район Летичева направлены резервы обеих наших армий.
Прочитав, Сталин поднимает голову. Ничто в его лице не изменилось. Не разглядишь душевных движений и в жесте, каким он возвращает бумагу Ильичу. Обоим отлично известны ходы и контрходы в попытках закончить миром войну с Польшей. Воинственный, верующий в свою историческую миссию, глава Польского государства Пилсудский, соглашаясь на переговоры, вместе с тем отклонил предложение установить перемирие на советско-польском фронте. Там как бы в предзнаменование близкого конца войны уже много недель не было боев, но… Но Ленин еще с февраля, когда обозначился разгром Деникина, требовал перебрасывать и перебрасывать войска на усиление Западного, словно бы тихого фронта. Как раз сегодня Первая Конная армия, прославившаяся в боях на юге, сосредоточенная под Ростовом, выступила в тысячекилометровый марш на запад. А теперь вот галицийские бригады, занимавшие изрядный отрезок фронта – можно угадать безмолвный комментарий Ленина: «Мы тут были не рукасты, ротозейничали», галицийские бригады восстали, далеко опередив прибытие наших новых крупных сил. Польские войска еще нс двинулись в брешь, как бы не реагировали. Однако не последует ли удар завтра-послезавтра?
– Увертюра? – вопросительно произносит Ленин.
Ответ короток:
– По-видимому.
Вот и вся беседа. Это поистине спетость, – от глагола «спеться», принадлежащего к излюбленным в словаре Ленина, – понимание друг друга буквально с одного слова.
8
Раздается настойчивый приглашающий трезвон. Достав карманные часы, Ленин кидает взгляд на циферблат. Уже и отсюда, из-за кулис, гурьбой тянутся в зал. Кауров бросает окурок в урну-пепельницу и пристраивается к покидающей кулисы череде. Вдруг он слышит:
– Того, здорово!
Никто, кроме Кобы, не называл так Каурова. Но Сталин когда-то, еще в дни русско-японской войны, наделил его такою кличкой и с удивительным упорством иначе не именовал. Да, сейчас неподалеку спокойно, как бы вне спешки, толкотни, стоит улыбающийся Сталин. Несколько лет – с памятного 1917-го им не доводилось этак вот увидеться, перекинуться словцом.
– Здравствуй, Коба.
Крепкое рукопожатие точно возрождает давнишнюю дружбу. Кауров, как ему случалось и прежде, делает некое усилие, чтобы выдержать тяжеловатый пристальный взгляд Сталина. И тоже смотрит ему прямо в глаза – узкие, миндалевидного, унаследованного с кавказской кровью сечения, цвет которых обозначить нелегко: иссера-карие, да еще с оттенком желтизны, то едва заметным, то иногда явственным.
– Какими судьбами ты здесь обретаешься? – спрашивает Сталин.
Кауров кратко сообщает про свои злоключения: ехал на съезд, заболел, врачи только теперь наконец выпустили.
– Валандаться, Коба, тут не собираюсь. Загляну туда-сюда, наберу литературы и, наверное, послезавтра в путь.
– К себе в поарм?
Произнеся «поарм» (здесь, возможно, нужна расшифровка: политический отдел армии), Сталин, не затрудняясь, назвал и номер армии. Каурову приятно это слышать: Коба знает, помнит, где работает его давний сотоварищ.
– Конечно. А куда же?
– В какой ты там пребываешь роли?
– Секретарь армейской парткомиссии.
Кто-то подходит к Сталину, обращается к нему. Тот неторопливо и вместе с тем живо отказывается:
– Минуту!
И продолжает разговор с Кауровым:
– Того, надо бы встретиться, потолковать без суеты.
– Буду рад.
Наклонившись, Сталин достает из широкого своего голенища блокнот или, верней, военную полевую книжку. Эта простецкая солдатская манера использовать раструб сапога вместо портфеля опять-таки нравится Каурову. Полистав книжку, помедлив, Сталин говорит:
– Завтра день субботний… Так… В три часа завтра ты свободен?
– Освобожусь.
– Приходи в Александровский сад. Найди там местечко около памятника одному нашему, – усмешка мелькает под черными усами Сталина, – нашему, как это записано, кажется, в «Азбуке коммунизма», прародителю.
– Какому?
– Который не прижился на российской почве. Во всяком случае, памятник не выдержал крепких морозов. Развалился на куски. Может быть, это прародителю и поделом: имел слабость, слишком любил говорить речи.
Казалось, Сталин шутит. Но и в этой тяжеловатой его шутке опять словно таится некий второй смысл.
– Робеспьер? – восклицает Кауров.
Коба кивком подтверждает угадку.
– Друг друга отыщем, – заключает он.
Сквозь переборку в почти опустевшие кулисы врывается громыхание аплодисментов, в зале увидели Ленина.
Коба подталкивает Каурова.
– Иди, иди.
А сам, нашарив в кармане карандаш, что-то помечает на раскрытой страничке, складывает книжку, сует за голенище. И остается за кулисами.
…Ленин уже вышел к трибуне.
– Должен поблагодарить вас за две вещи: во-первых, за те приветствия, которые сегодня по моему адресу были направлены, а во-вторых, еще больше за то, что меня избавили от выслушивания юбилейных речей.
Аудитория и смеется и аплодирует. Ленин, не выжидая тишины, демонстрирует присланную ему сегодня в подарок карикатуру двадцатилетней давности, изобразившую тогдашний юбилей Михайловского – одного из столпов народничества. Среди поздравителей нарисованы и русские марксисты. Художник представил их детьми, «марксятами».
Пустив карикатуру по рукам. Ленин быстро ведет далее свою речь. Пожалуй, ее можно счесть несколько разбросанной, не подчиненной единому архитектурному каркасу. Однако каркас есть.
Вот будто вне какой-либо связи с началом оратор обращается к строкам Карла Каутского, тоже давнишним, поясняет:
– Тогда большевиков нс было, но все будущие большевики, сотрудничавшие с ним, его высоко ценили.
Зал внимает цитате:
– …Центр тяжести революционной мысли и революционного дела все более и более передвигается к славянам.
Кауров, опять присевший на помост близ стенографисток, видит на краю кулисы Кобу, уже надевшего шинель. Суховатая рука держит на весу еще не донесенную к черноте зачеса меховую шапку. Ленин читает дальше выдержку из Каутского:
– …Новое столетие начинается такими событиями, которые наводят на мысль, что мы идем навстречу дальнейшему передвижению революционного центра, именно передвижению его в Россию…
Этой цитатой Ленин как бы пополняет арсенал доводов, которые он, взыскательный к себе марксист, без устали отыскивает в обоснование исторической правомерности того, что совершилось в России.
Вместе с тем в статье, приводимой Лениным, русский марксизм, русская пролетарская партия уже предстают вступившими в пору возмужалости. Нагляден убыстренный шаг истории. Детство, мужание и…
– Наша партия может теперь, пожалуй, попасть в очень опасное положение, – именно в положение человека, который зазнался.
Ленин режет дальше:
– Известно, что неудачам и упадку политических партий очень часто предшествовало такое состояние, в котором эти партии имели возможность зазнаться… Блестящие успехи и блестящие победы, которые до сих пор мы имели, – ведь они обставлены были условиями, при которых главные трудности еще не могли быть нами решены.
Почти всегда выступления Ленина содержат нечто поражающее, не вдруг усваиваемое, кажущееся иной раз неуместным. Такова и его сегодняшняя речь. Слушатели притихли.
Жестом обеих рук он как бы что-то округляет:
– Позвольте мне закончить пожеланием, чтобы мы никоим образом не поставили нашу партию в положение зазнавшейся партии.
Под рукоплескания, скорей раздумчивые, нежели бурные, он покидает трибунку, которую занимал не более десяти минут.
…Потом, уже после концерта, когда одетый во все кожаное шофер-богатырь Гиль захлопнул автомобильную дверку и плавно стронул машину, Надежда Константиновна, глядя на едва в полумгле различимый профиль, тихо спрашивает:
– Польша?
Владимир Ильич поворачивает к ней голову в нахлобученной кепке. Ведь о Польше он на минувшем вечере ни словечком не обмолвился. И кивает.
– Угу…
9
На следующий день выдалась теплынь. Перевалив, как говорится, за обед, пригревало апрельское солнце.
Алексей Платонович, войдя в Александровский сад, пролегший у одной из стен Кремля, сверился с карманными часами. Стрелки показывали чуть больше половины третьего. Что же, придется, значит, около получаса подождать.
По склонности южанина, он облюбовал скамью на солнцепеке, сел, распахнул шинель, освободил от фуражки светлые волосы, вытянул ноги, сегодня немало походившие. Уличная пыль сделала матовыми, припудрила головки высоких сапог, что утром он по привычке наваксил, начистил.
Здесь, под Кремлевской стеной, было по-апрельски сыро. Бежал весенний ручеек. Редкие трамваи с железным скрежетом поворачивали на закруглении, ведущем к Красной площади. Сад еще не зазеленел. Палая прелая листва прошлых годов, которую тут не трогали тогда ни грабли, ни метла, лишь кое-где пробита острыми стебельками молодой травы. Высились голые, с набухшими почками вековые липы – и врассыпную, и вдоль главной аллеи. Странная расцветка – малиновая, фиолетовая, пунцовая – еще пятнала, хотя и поблекнув, могучие стволы. Их раскрасили – Каурову довелось про это слышать – левые художники почти два года назад. Было известно, что Владимир Ильич вознегодовал, увидев размалеванные липы. Однако краску отмыть, стереть не удалось. Лишь постепенно это делали дожди да колючий снег поземки.
На аллее громоздилась бесформенная куча обломков. Из-под нее проглядывал угол каменного постамента. Это и была, как догадался Кауров, растрескавшаяся, разрушившаяся на морозе фигура бестрепетного якобинца, звавшегося Неподкупным, сраженного заговорщиками. Лишь позже из мемуарных свидетельств Кауров узнал, что у этой скульптуры, еще целой, любил посидеть Ленин, когда он – до ранения – выходил, по ночам из прогулку сюда в сад.
Две девушки в красных косынках – такие косынки стали в ту пору модой революции быстро прошли мимо Каурова. Прошли и оглянулись на светлоголового, со смолисто-черными бровями, с хрящеватым острым носом пригожего военного. Он им улыбнулся. Снова взглянул на часы. Без двадцати три.
Прохожих было немного. Мамы разных возрастов, а также и бабушки присматривали за малышами, порой еще в пеленках. Сюда были выведены и ребята, очевидно, детдомовцы, в одинаковых курточках темной фланели. Они, несмотря на голодноватое время, бегали, гомонили, увлеченные извечной, памятной по мальчишеским годам и Каурову игрой в «палочку-стукалочку».
Впрочем, Алексей рано перестал быть мальчуганом. Да и забавы подростка недолго увлекали его. Уже в пятнадцать лет, гимназистом последнего класса, он забросил все свои коллекции, его забрала страсть – та, что в некоторые времена с поразительной, не сравнимой ни с чем силой овладевает поколением, – страсть мятежника, революционера.
Пожалуй, тут течение нашего повествования делает уместным поворот в прошлое. Автору посчастливилось уже в нынешние годы, то есть во второй половине века, встретиться с Кауровым, семидесятилетним ветераном партии, посчастливилось познать его доверие, занести в свою тетрадь все, что он поведал. Выберем из этой тетради страницы, где рассказано о знакомстве, о встречах, отношениях Каурова и Кобы.
Однако в нижеследующей сценке, что служит завязкой, Коба еще нс предстанет глазу. 1904 год. Летний вечер в Тбилиси – этот главный город Грузии значился в Российской империи Тифлисом. Явочная квартира на уходящей в гору узкой улочке. В комнате за кувшином вина и миской фасоли беседуют двое. Один из них Алексей Кауров. Он здоровяк, румянятся загорелые щеки. Глаза, серые с искоркой, серьезны, одухотворены. Уже исключенный из гимназии, определившийся как революционный социал-демократ, сторонник Ленина, он приехал сюда на день-другой, чтобы от имени кутаисской молодой группы большевиков договориться по важным вопросам с Союзным, то есть общекавказским комитетом, который тоже разделял большевистскую позицию. Кауров дельно, горячо говорил о закипающих в Кутаисском округе крестьянских волнениях, о революционном подъеме городской молодежи, доказывал, что следует распустить нынешний Кутаисский комитет, немощный, поддерживающий меньшевиков, и назначить новый, большевистский, боевой.
Юношу слушал степенный бородатый грузин, не забывавший, кстати сказать, обязанностей гостеприимного хозяина. За бородачом утвердилось прозвище Папаша, хотя ему тогда еще не стукнуло и сорока. В молодости он был народником, затем, после основания группы «Освобождение труда», примкнул к марксистам. И далее неизменно шел, по собственному его выражению, «левой стороной». Воевал против «легального марксизма». Был твердым «искровцем». Последовал за Лениным при расколе партии. На роль теоретика никогда не претендовал, не литераторствовал. Заслужил славу безукоризненно чистого, честного революционера. Его моральный авторитет был непререкаем.
Папаша задавал вопросы, присматривался к гостю, порой склонял набок голову и почесывал шею. Почесывал и раздумывал, что-то взвешивал. Потом высказался. С прежним комитетом мы действительно каши не сварим. Но, может быть, удастся перетянуть того-другого на свою сторону. Возможно, надо бы кого-нибудь оставить и для преемственности.
– Но практически как мы должны действовать? И когда же получим права комитета?
Снова додумав, Папаша ответил:
– К нам в Кутаис мы пошлем товарища, который поможет это решить. И наладит дело.
Далее пояснил:
– Его зовут товарищ Сосо. Он некоторое время в работе не участвовал. У него были, – Папаша усмехнулся, – переживания после того, как мы его покритиковали.
– За что же?
– Это, товарищ Алеша, пусть будет между нами, не надо ему напоминать. Предложил сделать грузинскую партию самостоятельной. Свой Центральный комитет и тому подобное. Он парень упрямый. Не болтунишка. Ну, потрепали его: ударился ты, товарищ Сосо, в национализм. Он обиделся, не показывался месяца три. Но недавно принес заявление, которое озаглавил «Кредо». Там он послал к черту национализм! На этом и подвели черту. С кем не случается?
Разговаривая, Папаша прихлебывал слабое розовое вино, да и по-прежнему не забывал обязанности гостеприимства.
– Товарищ Сосо, – продолжал он, – сам вызывается поехать к вам в Западную Грузию, где идут волнения.
Несуетливый, приятный в общении, бородач еще несколькими фразами охарактеризовал Сосо. Проверен в серьезных делая. Есть у него и немалый марксистский багаж. Упорный, энергичный, отважный профессионал революционер.
– Ожидай его. Он организует новый комитет. И поведет работу вместе с вами.
10
Первая встреча с посланцем из Тбилиси, с человеком, который почти девять лет спустя избрал себе фамилию Сталин, отчетливо запомнилась Каурову.
Явкой служил кутаисский городской парк. Сухой восточный ветер, еще усиливавший томительно знойную жару, гнавший пыль по невымощенным улицам, пробирался сквозь заслон инжировых деревьев, каштанов, магнолий, барбариса сюда, на аллеи и тропки.
Близился вечер. К Алеше, кружившему около клумб, где белые цветы табака еще оставались по-дневному поникшими, подошел малорослый худенький лохматый незнакомец. Откинутые назад, не стриженные давно волосы – толстые, как приметил Кауров – возлежали беспорядочными прядями на непокрытой голове. Бритва давненько не касалась подбородка и щек, поросших черной, с приметным отливом рыжины, многодневной, но не густой, словно бы разреженной щетиной, Уже потом, в какую-то следующую встречу Кауров смог рассмотреть, что скрытая зарослью кожа нещадно исклевана оспой.
Сейчас он вопросительно глядел на подошедшего, ожидая, чтобы тот произнес условную фразу-пароль. Обращенные к Каурову запавшие глаза отличались каким-то особенным цветом – такой свойствен жареным каштанам, что обладают не блеском, а, по русскому словечку, туском. Кроме того, сквозила и легкая прожелть. Однако выражение глаз было веселым.
Неизвестный безмолвно показал взглядом на гуляющих. Действительно, здесь в центральном круге парка прохаживались парочки и группы, в большинство при участии офицеров во фронтовых, защитной окраски фуражках. Некоторые, прихрамывая, опирались на костыль или палку, у иных черная подвязь покоила раненую руку – русско-японская война, идущая в далекой Маньчжурии, населила город множеством привезенных сюда раненых, сделала вдруг его тесным.
– Пойдем куда-нибудь от греха подальше, – спокойно сказал незнакомец.
Кауров в мыслях тотчас признал его правоту. Так с самого начала обозначились их отношения: одному принадлежало старшинство, другой сразу это принял.
Они молча зашагали в темноватую глубь парка. Кауров имел время внимательно рассмотреть спутника.
Кончик четко вылепленного носа кругловат, однако чуть раздвоен ложбинкой, уничтожающей это впечатление кругловатости. Губы нисколько не расплывчаты. Твердо прорисован и увесистый сильный подбородок, просвечивающий из-под волос. Эту мужественную привлекательность, однако, портил низкий лоб – столь низкий, что сперва Каурову даже почудилось, будто верхняя доля скрыта хаотическим зачесом. Убедившись в ошибке, он, впрочем, тут же нашел оправдание этой некрасивости, воспринял ее как мету простолюдина.
Одеждой незнакомец почти граничил с оборванцем: мятые обшарпанные брюки, мятый пиджак с бахромой на обшлагах. Шаг казался мягким: ступни облегала примитивнейшая обувь, стянутые ременной вздержкой истоптанные постолы, каждый из одного куска сыромятной шкуры. Засаленный ворот рубахи был расстегнут, ей явно не хватало пуговиц. «Хоть простолюдин, а неряха», подумалось Каурову. Но он и тут удержался от осуждения. Наверное, этому человеку доводится ночевать и под открытым небом. Да, под мышкой у того сверток-шерстяная легкая четырехугольная накидка, которая может служить и чем-то вроде пальто, и одеялом. По внешнему облику, по физиономии, лишенной черт интеллигентности, он мог легко сойти за бродячего торговца фруктами.
На глухой тропке отыскалась пустующая скамья. Ее наискось делила пробившаяся где-то сквозь листву полоска вечернего солнца. Тут они сели.
Вот и произнесены необходимые условные слова. Затем приехавший без околичностей заговорил о деле. Сообщил, что назначен членом Имеретинско-Мингрельского комитета партии.
– Приехал вам помочь.
– Знаю, – подтвердил Кауров.
– Так введи в курс. С меньшевиками вконец размежевались? Или еще надеетесь ужиться?
– Нет, какое там ужиться! Наша группа, товарищ Сосо…
Каурову не пришлось закончить эту фразу. Собеседник тотчас оборвал:
– Не называй меня Сосо. Он не повысил голоса, нотка была, однако, повелительной. Всем надо переименоваться. Мы обязаны сколотить строго конспиративную, а не какую-то полулегальную организацию. Борьба нам предъявляет ультиматум: или глубокая конспирация, или провал!
Не пускаясь в дальнейшие разъяснения – мысль и без того была ясна, – он неторопливо добавил:
– Зови меня Коба.
– Коба? – воскликнул Кауров. – Из романа Казбеги «Отцеубийца»?
– Да.
Кауров вспомнил выведенного писателем героя – это был мужественный горец-бедняк, неизменно благородный, ловкий, безупречно верный в дружбе, непреклонный рыцарь справедливости.
– Только зря Казбеги назвал роман «Отцеубийца», – высказал мелькнувшее сомнение Кауров. Это, пожалуй, дешевая приманка.
– Тебя такое заглавие задевает? Что же, сколь я могу судить, ты имеешь для этого некоторые основания. В самом деле, кого из нас двоих можно считать отцеубийцей?
Уже тогда, в те минуты первого свидания, Кауров уловил манеру Кобы: риторические вопросы уснащали скупую речь.
– Мой отец – «холодный сапожник», – продолжал Коба.
«Холодный сапожник» – тот, что сидит на улице и тут же чинит обувь. Подтвердилась догадка Каурова: да, с ним разговаривает человек из народа, выходец из самых низов, знавший нужду, нищету и, наверное, с раннего детства ненавидящий богатых.
– Сапожник, повторил Коба. Зачем я его стану убивать? – Он опять выдержал паузу после этого очередного риторического вопроса. – А твой отец полковник. И к тому же хотя и небольшой, но все-таки помещик.
Ага, значит, Коба приехал уже осведомленный. Да, родитель Алексея был полковником в отставке и теперь жил на покое в собственном имении недалеко от Кутаиса. Российская казна выплачивала ему пенсию – 250 рублей в месяц. А те, кто вынужден был продавать пару своих рабочих рук, труженики в его поместье, нанимались, как и по всей округе, за 100 рублей в год. Когда-то, еще малышом, Алеша был поражен этой несправедливостью, с ней не мирилась совесть.
– Ошибусь ли я, – меж тем говорил Коба, – если предположу, что он и поныне посылает тебе деньги?
Простой грубоватый вопрос требовал ответа.
– Не ошибешься, подтвердил Кауров. Получаю от него сорок рублей в месяц.
Коба удовлетворенно усмехнулся.
– А что ты делаешь на его деньги? – Снова он выдержал паузу. – Подготавливаешь революцию. Намереваешься отобрать у него и землю и царскую пенсию. Он этакое может и не пережить. Тебя это, однако, не останавливает? А?
– Не останавливает.
– Получается, следовательно, что как раз ты и есть отцеубийца. Да еще и у отца же берешь на это деньги.
Коба засмеялся, довольный своей шуткой. Смех тоже был веселым, как и взгляд. Кауров увидел его зубы, крепкие, подернутые желтизной, немного скошенные внутрь. Конечно, этот Коба не лишен юмора. Правда, тяжеловатого: мотив, казалось бы, к юмору не располагал. И логика Кобы была сокрушительна. Да, сильный, видимо, человек. Сильный работник. И возразить нечего. Все же Кауров нашелся:
– О таких вещах, товарищ Коба, еще Гете размышлял. У него сказано: теперь роль древнего рока исполняет политика.
– Где же Гете об этом говорил?
Полоска солнца уже сползла со скамьи, почти померкла. Однако еще пробивались последние оранжевые лучи. Один будто застрял в щетине Кобы, явственно отблескивала примесь рыжины. Были ясно видны и глубоко посаженные его глаза. Теперь они вдруг сменили выражение: стали как бы вбирающими, впитывающими. Впоследствии Кауров не раз схватывал во взгляде Кобы такую, казалось бы, далекую от дел внимательность: сын сапожника как бы на ходу пополнял образование, нечто усваивал.
– В беседах с Эккерманом, – ответил Кауров. – Если хочешь, дам почитать.
– Пока не надо. Не до Гете… – Опять в словах просквозил грубоватый юмор. – Значит, зови меня Коба. А тебя я буду называть Того.
– Того? Что за Того?
– Не знаешь? Японский адмирал, который напал без предупреждения на русскую эскадру. Вот и ты нападай без предупреждения.
Каурову, однако, кличка не понравилась.
– Нет… Ну его к черту, этого Того. И почему тебе это взбрело? Разве я похож на японца?
Нс отвечая, Коба глядел на Каурова. Конечно, этот лобастый, светловолосый, с черными, как два мазка углем, бровями, с легким румянцем, смазливый юноша отнюдь не напоминал японца.
– У тебя кепка похожа на японскую, – обронил Коба. И с силой повторил: – Нападай без предупреждения. Не угрожай! Не говори: сделаю. Делай! Бей до смерти. Не оставляй врага живым. И семя его уничтожь! Помолчав, переменил тему: Расскажи, Того, что тут у вас происходит.
– Да не желаю я быть Того.
Коба на это никак не отозвался. Холодно сказал:
– Ну, к делу.
Кауров кратко изложил позицию группы кутаисских большевиков, составившуюся из молодежи. Крестьянские волнения идут вокруг Кутаиса. Надо их возглавить, добывать оружие, готовить восстание, которое сомкнется с общерусской революцией. Меньшевистский комитет, куда входят, главным образом, всякие так называемые почтенные интеллигенты, к решительным действиям не способен. Это не воины революции. Они охочи порассуждать, подискутировать о неотвратимом историческом процессе, но осуществлять этот процесс, вести пробуждающиеся массы – нет, тут они лучше постоят в сторонке. Мы с ними расплевались. Движение уже, по существу, отшвырнуло их.
Коба одобрил линию группы. Сказал, что разрыв надо закрепить организационно. И прежде всего устранить от руководства прежний состав комитета. Кого возьмем в новый комитет? Кауров назвал, охарактеризовал нескольких товарищей.
– Так. Это еще обдумаем, – произнес Коба.
Здесь, в садовой глуши, уже почти стемнело.
– Теперь, Того, иди. Разойдемся по отдельности.
– Но где ты будешь ночевать?
Левая бровь Кобы вскинулась. Это осуждающее скупее движение было достаточно красноречивым.
– Не задавай таких вопросов. На них нс отвечают. Если нужно, скажу сам.
– Извини… Я только побеспокоился насчет тебя. Ты уже имеешь где-нибудь приют?
– Пока нет.
– А твои вещи? На вокзале?
– У меня все вещи с собой. Коба жестом указал на сверток, покоившийся на коленях. Не волнуйся, спать буду под крышей.
– А тебе ничего не нужно?
– Ничего. Иди.
В полутьме еще можно было различить худенькую фигурку. Смутно виднелись сложенные на животе руки. Кауров поднялся.
– Ты не болен ли? – спросил он.
– А что?
– Такое впечатление… Вроде бы ты исхудал, ослаб после болезни.
– Ослаб? Хочешь, поборемся?
– Ну, я же был первый силач в классе. И до сих пор упражняюсь с гирями.
– Вот как…
Внезапно Коба вскочил и, подавшись к Каурову спиной, захватил одной правой рукой ствол его шеи. Левая, как успел заметить в тот миг Кауров, не была столь быстрой. Это, однако, не помешало Кобе, быстро опустившись на колени, перекинуть рывком через себя юношу-атлета. Поверженный Кауров тотчас вскочил, сгреб, стиснул Кобу, стал его валить. Да, у того впрямь плохо действовала левая рука, была в локтевом сгибе лишь ограниченно подвижной. И все же Коба оказался жилистым, вывернулся. Оба запыхались.








