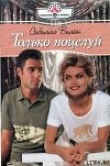Текст книги "Дом, в котором совершено преступление (Рассказы)"
Автор книги: Альберто Моравиа
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
"С какой стороны она пойдет дальше? – спрашивает себя Сильвио. – Справа или слева? Пожалуй, справа". Но вот, словно вопреки ему, трещина начинает расти слева, извиваясь и раздваиваясь, сначала медленно, с трудом, а потом со зловещей и молниеносной быстротой. Весь фасад, который только что был целехонек, теперь покрыт сетью черных трещин; некоторые тянутся до самого неба, другие появляются с боков; там, где сплошной белизной сияли стены, теперь появилась зловещая мозаика из белых осколков, окаймленных черным; это было неповторимое зрелище, тяжкое и печальное, оно вызывало у Сильвио страх и отвращение. Но самое удивительное было впереди; пока Сильвио смотрел, как трескается фасад, и удивлялся, что он еще не обрушился, сначала из широких, а потом и из самых узких трещин стали появляться черные насекомые. Вот их уже мириады, они просачиваются через каждую щелку, расползаются из черных каемок на уцелевшие белые, нетронутые участки, это что-то среднее между скорпионами и муравьями, они скоро заполонят весь дом, все комнаты, все уголки. Но не могут же они ползать бесшумно, и Сильвио в самом деле слышит, как они сухо трещат крыльями, скребут брюшком, царапают стену клешнями и хвостами. Он оцепенел, охваченный отвращением и страхом, ему хочется, чтобы дом рухнул, провалился под землю вместе со всей этой нечистью. Теперь уже весь фасад черен; треск крыльев становится все громче. "Сжечь! – думает он. – Сжечь... Все это надо спалить", – и в тот же миг приходит в себя.
Треск черных крыльев сменился звоном цикад; во сне Сильвио всей тяжестью навалился на Амелию; открыв глаза, он увидел, что она сидит прямо, поддерживая его, и искоса на него смотрит.
– Я, кажется, заснул, – сказал он смущенно. – Прости меня.
Она покачала головой ласково, словно хотела сказать: "Ничего".
– Если хочешь, поспи еще... – прошептала она, помолчав. – Я буду тебя оберегать.
Воздух в машине был душный; сквозь веки, еще влажные от сна, Сильвио посмотрел на зеленую, залитую солнцем долину; там ему чудился дом, там он видел, как белый фасад раскололся, покрылся мириадами черных, трещащих крыльями насекомых.
– С твоим особняком ничего не выйдет, – сказал он вдруг девушке.
– Почему?
– Такое у меня предчувствие.
Она засмеялась с жестокой радостью и сказала, что они еще будут любить друг друга в этом особняке.
Сильвио ничего не ответил.
На обратном пути оба молчали. Расстались они у подъезда пансиона, причем Амелия в припадке странной благодарности несколько раз поцеловала у него руку. Красный отпечаток ее губ оставался на руке до самого вечера. Всякий раз, взглянув на него, Сильвио испытывал торжество и вместе с тем смущение. О своей невесте он старался не думать и убеждал себя, что в конечном счете это всего только легкое приключение, которое не будет иметь последствий.
И он не ошибся: его чувство к Амелии не было ни глубоким, ни нежным. Как он и думал, это было легкое приключение без всяких последствий. И тем не менее через несколько дней чувство это охватило все его существо и овладело его мыслями. В его жизни наступила смутная и бурная пора, и он сам уже не понимал, счастлив он или же несчастен; ему казалось, Что он гонится за своим желанием, как за закусившим удила конем. И в таком же лихорадочном ритме страсти летело время; работать он мог только по принуждению, бодрость, ясность мысли, энергия в нем угасли, сменившись всепожирающей и неутолимой тревогой. Амелия поистине обладала удивительной способностью притягивать его, и он все глубже увязал в том окружении, которое ему не нравилось и казалось ничтожным и недостойным: всюду он видел холодную и неустанную похоть, бесплодные психологические тонкости, женские прихоти. Это был ее мир, в котором она чувствовала себя как рыба в воде. Куда только девались беспомощность и притворство, которые она неизменно проявляла в более серьезных обстоятельствах! Но ему, когда прошла первая влюбленность, такое легкомыслие и ветреность быстро приелись: он вспоминал то время, когда его занимали только математические выкладки, чертежи, проекты, строительные материалы, и невольно сравнивал эту точность, ясность и твердость с нынешней пустой легковесностью. Он думал о том, что, так сказать, оторвался от камня, цемента, мрамора, железа, чтобы коснуться шелков и духов; и он испытывал неприятное ощущение в кончиках пальцев, сохранявших сладостный плотский запах, которым была насквозь пропитана Амелия. Однако это пресыщение и неприязнь внешне никак не проявлялись; и довольно было одного взгляда девушки, чтобы заставить Сильвио забыть все.
Тем временем у него складывались отношения не только с Амелией, но и с Манкузо. Эти отношения приобрели такой характер, что Сильвио не мог больше питать к сопернику вражду и презрение, как вначале. Напротив, враждебные чувства поневоле уступили место сочувствию. Это произошло потому, что Манкузо под предлогом наблюдения за ходом работы стал регулярно бывать у Сильвио, чаще всего по утрам. Обычно он заходил как бы случайно, говорил, что заглянул на минутку, и извинялся за беспокойство. Но потом, бросив странный взгляд на чертежи, он садился в кресло в дальнем углу, закинув ногу на подлокотник и надвинув шляпу на глаза, и заводил разговор с Сильвио, который работал за чертежным столиком, сидя спиной к гостю на высоком табурете. Манкузо, как всегда, высказывался коротко и сентенциозно, но со временем стал доверчивей и проще. Вскоре Сильвио понял, что Манкузо совсем не такой, каким он его себе до сих пор представлял. Он считал его чем-то средним между сердцеедом и альфонсом, человеком ловким, непостоянным, беззастенчивым и легкомысленным. Истинный же Манкузо, который раскрылся перед ним во время этих утренних посещений, имел характер скрытный, подозрительный и в некотором смысле меланхоличный; он смотрел на жизнь с мрачной покорностью, но без легкости и, если принять во внимание вероятную двусмысленность его отношении с матерью и дочерью, был очень щепетилен, особенно в вопросах чести. Словом, это был человек страстный, но страстность его была нудная, въедливая, физиологическая, которая выражается не в яростных словах и чувствах, а самым земным образом – в боли в животе, желчности и неврастении. И Манкузо в самом деле был желчный, раздражительный и все время жаловался Сильвио на несвежую еду и плохое пищеварение. Впрочем, при всей своей скрытой страстности, он, хотя это могло показаться странным, имел душу, чуждую всякой поэзии и весьма практичную, безнадежно прикованную к той жизни, которая не приносила ему ничего, кроме ревности, раскаянья, подозрений и тому подобных неприятных чувств. Было совершенно ясно, что, искренне грозя Амелии убить себя и ее, он никогда не исполнил бы свою угрозу, и не столько из-за трусости, сколько потому, что отвращение к самому себе и к другим было для него, вероятно, единственным и, конечно, главным смыслом существования. Иногда он являлся мрачнее тучи, и Сильвио догадывался, что он поссорился с Амелией. Но облегчения он искал не в общих отчаянных словах, которыми так часто утешаются многие, проклиная свою несчастную судьбу и весь мир, а, напротив, в самых практических жалобах, высказываемых ворчливым и презрительным тоном: скверно накормили в грязной траттории; парикмахер, брея его, порезал щеку; сигареты никуда не годятся; горничная в пансионе у Сильвио обошлась с ним недостаточно почтительно; какой-то автомобиль задел его машину и помял крыло; с утра на языке белый налет, придется очистить желудок. Эти жалобы сопровождались жестами, гримасами, угрюмыми и недовольными взглядами. Создавалось впечатление, что он ведет жизнь нервную и одинокую, чувства его закоснели, его снедает тоска. Нетрудно было догадаться, что он запоем курит, читает юмористические журналы или – еще хуже – варится в котле подозрений, раскаяния, интриг, навязчивых идей. Но об Амелии, о своей любви и о прочих деликатных чувствах Манкузо никогда не говорил: с его губ срывались лишь циничные, тяжелые, язвительные слова, которые как будто исходили не из души, а были вызваны расстроенным и полным желчи желудком. То, что он так несчастен, казалось Сильвио ужасным, потому что тут не было ни выхода, ни надежды.
Но отношения Манкузо с Де Керини по-прежнему вызывали у Сильвио любопытство. О его отношениях с Амелией он знал со слов девушки, а вот об отношениях с матерью оставалось только гадать. Как мог такой человек, как Манкузо, войти в милость у Де Керини? Когда Манкузо приходил, Сильвио не раз пытался как бы невзначай, ловкими вопросами вызвать его на откровенность. Но подозрительный Манкузо либо отвечал уклончиво, либо же бесцеремонно не отвечал вовсе и менял тему разговора. Казалось, в глубине души он восхищался Де Керини и испытывал перед ней почтительный трепет. Ио она-то что нашла в Манкузо? Сильвио решил, что Манкузо, вероятно, обладает исключительными мужскими достоинствами: такое рассказывают о горбунах и вообще о людях невысокого роста, а кроме того, его одиночество и праздная жизнь, целиком посвященная страсти, могли ей нравиться. В самом деле, она, должно быть, находила в отношениях с Манкузо тонкое и неизменное удовлетворение своим властным инстинктам и своей страсти к интригам. Кроме того, возможно, она в ее возрасте считала рискованным менять любовника, а у Манкузо редкий или даже единственный в своем роде характер, как бы созданный специально для нее. С другой стороны, если даже – в пользу чего свидетельствовало многое между Де Керини и Манкузо ничего не было, кроме странной и неравной дружбы, сущность их отношений почти не менялась. Друзья они или любовники, отношения между ними всегда оставались отношениями между сильным и слабым; отношениями, которые, как и любовь, далеки от всякого расчета, полны капризов и ревности, основаны на тайном и никогда не признаваемом открыто сродстве душ. И, наконец, еще одно своеобразное обстоятельство: брак Амелии, которого Де Керини желала и который навязала ей, этот брак, во всяком случае, не принесет счастья ни девушке, ни ее будущему мужу, а нужен только одной матери.
Сильвио словно крутился в водовороте, его жизнь теперь заполнили странные посещения Манкузо, обсуждения технических подробностей с Де Керини, которая своими бесконечными возражениями принудила его переделать чуть ли не весь проект, и исполненные страсти прогулки с Амелией, так что у него не оставалось времени обдумать происходящее и что-либо предпринять. Приближалось самое жаркое время года, жара с каждым днем усиливалась, но она действовала на Сильвио, как на многих молодых и здоровых людей: вместо того чтобы угнетать его, она лишь поднимала радостную бодрость, какой он еще в жизни не испытывал. Он словно горел, не сгорая; город казался ему каменной пустыней под раскаленным небом, площади и улицы были опалены летним зноем; непреоборимое трепетное чувство вливалось в его тело, как только он выходил из прохладной темноты пансиона на яркий солнечный свет. Эту летнюю животную чувственность после долгой унылой зимы удовлетворяло нежное, восхитительное тело Амелии. Словно умудренная огромным любовным опытом, она отвечала на его страсть движениями, улыбками и словами, которые оказывали на него необычайное действие. Такое гармоничное единение их тел поражало его, и он не знал пресыщения. Поэтому ему была неприятна мысль, что им придется расстаться, и он старался по возможности не думать о своей далекой невесте.
День свадьбы тем временем приближался, и Амелия становилась все капризней и недовольней. Ею владела какая-то холодная, рассудительная ярость, благодаря которой она сохраняла внешнее спокойствие и здравомыслие, хотя внутри вся кипела. Так, например, она со смехом или с полной невозмутимостью говорила самые ужасные вещи про свою мать. При этом она неизменно испытывала острую радость и не сводила глаз с Сильвио, словно хотела видеть, какое это на него производит впечатление. И чем сильней Сильвио ужасался, тем больше она радовалась и удваивала свои ласки. Но она была слишком бесчувственна, и во всем ее поведении ощущалась изменчивая холодность, далекая от всякого подлинного страдания. Так что Сильвио в конце концов перестал ужасаться и научился смотреть на нее бесстрастным взглядом.
Теперь, когда ему казалось, что он лучше ее узнал, ему всего неприятней была ее низость. То она заявляла, что во время венчания скажет "нет" священнику и убежит из церкви; то небрежно и как бы шутя подстрекала его убить жениха; то клялась, что скорее умрет, чем будет иметь детей от Манкузо; Сильвио не мог не заметить, что все это она произносит легкомысленным тоном наивного бахвальства. При всех своих отчаянных поступках и мечтах о чистоте Амелия хвасталась так, как это делают только малодушные, которые, лелея в воображении самые ужасные, жестокие и трагические поступки, остаются при этом робкими и безвольными. Другим проявлением малодушия казался Сильвио ее ужас перед самой ничтожной болью, самым легким недомоганием. В девятнадцать лет она так дрожала за свою красоту, как будто ей было все сорок. Достаточно было небольшой мигрени, бессонной ночи, насморка, царапины, чтобы она встревожилась и чтобы в ней замолкли все другие чувства, в том числе ненависть к матери и любовь к Сильвио. Озабоченная, нетерпеливая, готовая пожертвовать всем, даже самым ценным и важным, только бы сохранить здоровье, она подолгу смотрелась в зеркало и предавалась отчаянью без удержу и стыда, с истерической эгоистичной откровенностью, которая нестерпимо раздражала Сильвио. "Оставь меня, – говорила она иногда, долгое время просидев перед зеркалом. – Оставь меня. Не видишь, какая я некрасивая, до чего исхудала?.. Ах, так не может продолжаться, будет лучше, если мы расстанемся..." В этих словах было такое упорное отчаянье, что Сильвио не мог подавить в себе возмущения: "Из-за легкой бледности, которая, как тебе кажется, наносит ущерб твоей красоте, думал он, – ты готова расстаться с человеком, которому клянешься в любви... А еще болтаешь о неповиновении матери, о новой жизни..." В такие минуты она казалась ему безнадежным, неисправимым ничтожеством. Притворялась она и в своих ласках, разыгрывая едва сдерживаемое исступление. В такие минуты ему хотелось ударить ее по лицу или отшлепать, как скверного, злого ребенка.
Он так остро и ясно чувствовал ее низость, что негодование его рано или поздно должно было прорваться наружу. Это произошло в особенно жаркий день, во время одной из обычных их поездок на автомобиле. Они остановились в открытом поле, привлеченные чем-то блестящим на сухой траве, под тенью дуба, который рос невдалеке от развалин. Но, выйдя из машины и приблизившись, они увидели около развалин стены густые заросли ежевики, крапивы и всяких колючих и вонючих растений, а на траве, в благодатной тени дуба, большую кучу дерьма, засохшего и спекшегося от жары. Это привело Сильвио, уже утомленного зноем, в плохое настроение. И когда Амелия начала по обыкновению поносить мать, Манкузо и брак, к которому ее принуждают, он не выдержал и перебил ее.
– Я тебя не понимаю, – сказал он. – Почему вместо того, чтобы все время жаловаться, ты не пойдешь к матери и не скажешь: я не хочу выходить замуж, это я решила твердо, и никакая сила в мире не сможет меня заставить! Мне кажется, это лучший выход из положения. Твоя мать, конечно, станет кричать, возмущаться, но в конце концов вынуждена будет смириться.
Амелия, прерванная посреди своих излияний, посмотрела на него с удивлением. Очевидно, эта простая мысль никогда не приходила ей в голову.
– Ты не знаешь мою мать, – возразила она.
– А что? – сказал Сильвио, пожимая плечами. – Не убьет же она тебя... Конечно, будет настаивать... Но когда поймет, что это бесполезно и что ты решила твердо, успокоится.
Но Амелия, слушая его, все больше робела и смущалась.
– Нет, нет... – сказала она. – Я и сама этого хотела бы... Но это невозможно...
– Почему же невозможно?
– Невозможно, и все тут.
– Если хочешь, я сам с ней поговорю.
В глазах девушки мелькнул ужас.
– Ради бога! – воскликнула она. – Ты с ума сошел... Если ты это сделаешь, я тебя больше знать не хочу.
Она вся дрожала и испуганно мигала глазами; он холодно смотрел на нее, как всегда в те минуты, когда ее низость проявлялась с такой очевидностью, а ее слишком взрослая одежда больше обычного казалась маскарадной и имела вид жалкой приманки, словно она не сама ее выбрала, а была вынуждена надеть.
– Вот что я тебе скажу, – заявил он наконец. – В душе ты рада своему двусмысленному положению... На словах хочешь его изменить... А на деле спишь и видишь, чтобы все осталось по-старому.
– Неправда, – сказала она, бледнея и серьезно глядя на него.
– А ты докажи это!
Он ждал новых возражений. Но она только смотрела на него смущенным взглядом, словно в первый раз задумалась о том, что до сих пор не приходило ей в голову. Все это тоже было наигранное, но по-иному, не так, как обычно. А потом она вдруг, без всякого перехода вышла из себя.
– Едем, – сказала она, быстро завела мотор, вывела машину с проселка на шоссе и понеслась к городу.
Солнце уже садилось; свежий, порывистый ветерок, задувая в машину, овевал им лица и шевелил волосы; телеграфные столбы словно бросались с распростертыми объятиями навстречу машине; Амелия мчалась на предельной скорости, даже не тормозя на поворотах и беспрестанно оглашая окрестность гудками, протяжными, дрожащими и печальными, как звуки охотничьего рога. Глядя на нее, он думал, что все это делается напоказ, нарочито: ом усомнился в ее смелости, и теперь она, рискуя разбиться, мчалась как бешеная, чтобы на другой день упрекнуть его в несправедливости. Но что делать? Сильвио не видел для нее иного выхода, кроме разрыва с Манкузо. И хотя он предпочел бы, чтобы этот важный вопрос решался более спокойно и обдуманно, но, заметив ее судорожное нетерпение, он надеялся, что на этот раз что-то действительно произойдет. "Не гони так, – хотелось ему сказать. – Ты всегда успеешь порвать с Манкузо, и для этого вовсе не обязательно сворачивать себе шею". Но, видя, как она пригнулась к рулю и вся подобралась, полная решимости, он понял, что говорить это бесполезно. Его слова все равно унес бы ветер, поднятый мчащимся автомобилем, как уносил эти протяжные звонкие гудки.
Через несколько минут они были уже на площади. Амелия резко остановила машину, распахнула дверцу и кивнула ему, чтобы он вышел. Сильвио с удивлением смотрел, как она рванула руль, сжимая его тонкими руками, и, развернув машину, умчалась. Смущенный, он вошел в подъезд.
На другое утро, как всегда, пришел Манкузо. Он был еще мрачней обычного. Сдвинув шляпу на затылок и прищурясь, он поглядел через плечо Сильвио на чертежи.
– Этот дом, – сказал он, – я себе очень живо представляю, и в то же время мне кажется, что он никогда не будет построен. Потом, невнятно пробормотав "ага", "угу", "будем надеяться" и "ладно, посмотрим", он стал расхаживать взад-вперед по комнате. Сильвио, который притворялся, будто работает, слышал, как он пыхтел, отдувался и вздыхал, без конца шагая из угла в угол. Наконец он упал в кресло и закурил сигарету: спичка, вспыхнув, обожгла ему палец, он выругался, потом замолчал надолго. Сильвио попробовал заговорить с ним, но он не отвечал. Это тяжелое молчание гостя, жара и тревога, которую вызвало у него странное расставание с Амелией накануне, в конце концов заставили Сильвио бросить работу. Он встал, закурил сигарету и подошел к Манкузо. Тот сердито затягивался и избегал смотреть на Сильвио.
– Мериги, – сказал Манкузо наконец. – Хотите вы, чтобы мы остались друзьями или нет?
– Конечно, – отвечал Сильвио. Но, как это ни было глупо, сердце его забилось быстрей.
– Тогда, – продолжал Манкузо, – сделайте мне одолжение.
– Хоть два, – сказал Сильвио, принужденно улыбаясь.
Манкузо встал и прошел несколько шагов по комнате. Маленький, одетый с изысканной элегантностью, большеносый, с головой, словно ввинченной в высокий белый воротничок, неловкий, он сильно смахивал на слегка пообтесавшегося в городе провинциала.
– Двух мне не надо, – сказал он серьезно. – С меня достаточно одного. Он замолчал и, взяв двумя пальцами окурок, швырнул его в окно. – Вы давно виделись с Амелией? – спросил он.
– Право же... – начал Сильвио, с трудом скрывая свое беспокойство.
Но Манкузо его перебил:
– Вы напрасно стали бы притворяться, будто не помните... Потому что вы виделись вчера. – Наступило короткое молчание. – Я ничего не хочу знать, продолжал Манкузо, – вам незачем передо мной оправдываться, просить извинения... Я не требую от вас ничего... только прошу о дружеском одолжении... Я мог бы просто-напросто послать вас к черту или отобрать у вас эту вот работу под благовидным предлогом... Мне это ничего не стоило бы и, пожалуй, так было бы проще... Но я не хочу... Ведь если есть возможность, всегда лучше договориться, правда? – Манкузо скорчил одну из самых своих противных гримас и помолчал. – Я вас прошу вот о каком одолжении: пока мы с Амелией не поженились, перестаньте с ней видеться... Потом, когда она станет моей женой, можете бывать у нее сколько хотите... Конечно, при соблюдении должных приличий... Но пока мы не женаты, найдите предлог и перестаньте с ней встречаться... Конечно, не подавая вида, что это я вам посоветовал... Тогда мы останемся друзьями и построим дом... А после свадьбы еще поговорим... Вы меня понимаете?
Обеспокоенный и несколько раздраженный угрозой Манкузо, Сильвио притворился удивленным.
– Но в чем дело? Какие причины?..
Однако Манкузо не хотел и слушать.
– Никаких причин, – ответил он сухо. – Согласны вы или нет?
– А если нет?
– Советую согласиться, – сказал Манкузо, устремив на него колючий взгляд.
Сильвио посмотрел на Манкузо, который притворялся, будто что-то ищет в карманах, потом на чертежи. Ему не хотелось уступать такому грубому требованию, но, с другой стороны, работа значила для него больше, чем всякие чувства и, быть может, даже чем Амелия.
– Но не могу же я, – начал он не без колебаний, – вот так, без всякой причины, только потому, что вы этого хотите...
Но он не договорил. Манкузо шагнул вперед и схватил его за руку с такой силой, что Сильвио скривился от боли.
– Мериги, какого... – тут он добавил крепкое ругательство. – Это не шуточки. Не доводите меня до крайности. Останемся друзьями, Мериги...
Они посмотрели друг на друга. Лицо Манкузо, напряженное и перекошенное, с налитыми кровью глазами, лишенными даже искры ума, имело страдальческое выражение, но это было жалкое, не вызывающее сочувствия, какое-то смешное страдание, не человеческое и не звериное, а страдание несчастного маньяка. В нем не было и тени мужского благородства; не было и той трогательности, которую страдание придает животным, а иногда и людям очень простой души. Сильвио испытывал к Манкузо одновременно сочувствие и неприязнь.
– В конце концов, мы с синьориной Амелией разговариваем только об архитектуре, – сказал он.
Манкузо молчал; все это время он сжимал руку Сильвио и нетерпеливо смотрел на него.
– Я хотел сказать, – продолжал Сильвио, – что теперь мне ничего не остается, кроме как...
Живейшее облегчение появилось на лице Манкузо.
– Достаточно, – сказал он и пошел к двери. – Вы обещали... Этого достаточно.
Его радость показалась Сильвио такой же неприятной и отталкивающей, как и страдание. Но уже в дверях, словно охваченный сомнением, Манкузо остановился.
– Вы не обиделись?
– Боже упаси, – сказал Сильвио раздраженно.
– Тем лучше, потому что я, знаете ли, не хотел бы... – Конца этой фразы Сильвио не услышал – дверь закрылась.
Оставшись один, Сильвио попытался возобновить работу. Но тревога сковала его; теперь, когда он пожертвовал своими отношениями с Амелией, эта работа внезапно стала ему противна; охваченный беспокойством и раскаяньем, он с облегчением услышал в коридоре звон колокольчика, призывавший к завтраку. Он надеялся, что еда его подкрепит, но обманулся. В душной тишине столовой, не умолкая, жужжали вентиляторы; в жарком полумраке виднелись бледные, измученные жарой лица сотрапезников; сухая, нагретая солнцем еда оставляла во рту металлический привкус; всюду висели липкие бумажки от мух, желтые или черные; в тающем льду плавали мелкие, кислые вишенки; лицо у горничной было красное и потное – словом, все переменилось, и лето уже не вливало в него радостную бодрость. Оно было душное и обыденное, люди занимались своими служебными делами, исправно ходили на работу, – лето в городе бюрократов и военных, где в тишине с утра до вечера звучат сигналы и играют зорю и где единственные не запертые и не покинутые здания – это министерства и казармы. Сильвио, поглощенный страстью, до сих пор ничего не замечал, а теперь все это разом обрушилось на него вместе с ревностью, нежеланием расставаться с Амелией, отвращением к работе, печалью и сомнениями. Ел он мало и неохотно, потом вернулся в свою комнату и, чувствуя сонливость, бросился на постель. Он сразу впал в тяжелую дрему, но не заснул крепким сном; помимо воли в его воображении появлялись и исчезали нелепые образы, которые медленно двигались, и он со странным удовольствием разукрашивал их всякими подробностями. Это было странное и грустное удовольствие, смешанное с ощущением сонного бессилия. Ему казалось, что он совершает смелые, отчаянные поступки: то, притаившись за углом, сжимая револьвер, убивает Манкузо в упор и убегает; то запускает пальцы в белокурые завитые волосы Де Керини, тащит ее вниз по лестнице ее дома, топчет ногами; то прерывает венчание Амелии, хватает ее за руку в тот самый миг, когда она должна сказать "да", вытаскивает из церкви и увозит в машине – конец фаты высунулся из-под захлопнутой дверцы и развевается по ветру. Чем решительней и отчаянней были эти поступки, тем больше они радовали его воображение, тем больше он любовался ими, приукрашивал их. Этим он как бы утешался в своей безнадежной печали. Но когда он пытался приподняться на постели, ему казалось, что кто-то наступил ему на грудь и не дает встать. Голова у него была тяжелая, а в ногах, наоборот, ощущалась легкость, его будто тянули за волосы вниз, к воде, прямо в бурную реку. Наконец он заснул.
Спал он довольно крепко, а когда проснулся, то некоторое время пролежал неподвижно, с закрытыми глазами. Но пронзительные крики ласточек, которые свили гнездо прямо над его окном, не давали ему покоя. Он быстро сел на постели, протирая глаза: комната была залита мягким закатным светом; он проспал пять часов. Амелия не приехала.
"Видно, случилось что-то серьезное", – подумал он и, словно сон освободил его от всех сомнений и колебаний, вышел из комнаты и спустился вниз. Как и в первый раз, когда он шел к дому Де Керини, улочки и сады казались бесконечными. Розы за прутьями решеток были белы от летней пыли, листья олеандров поникли, знойная дымка окутала этот зеленый хаос и подернула небо. Служанка в стоптанных туфлях и синем фартуке, как обычно, поливала живую изгородь и, узнав его, даже не поздоровалась. Он свернул с усыпанной гравием аллеи и пошел вдоль стены дома по цементной дорожке. Дойдя до окна гостиной, он увидел, что жалюзи приоткрыты, и услышал голоса. Ему показалось, что это разговаривают Де Керини и Манкузо. Он остановился и прислушался.
– На ком я женюсь? – сказал низкий, недовольный голос Манкузо. – На девушке, которая за неделю до свадьбы целыми днями, да, целыми днями пропадает где-то с молодым человеком, с которым едва знакома. На девушке, которая говорит мне в лицо, что, как только выйдет за меня, сразу мне изменит. На девушке, которая не только не любит меня, но даже не уважает; вот на ком я женюсь...
– Раньше надо было думать, – ответила слегка нараспев Де Керини.
Сильвио подошел поближе к окну и заглянул в щель. Сначала он ничего не увидел, кроме позолоты мебели и зеркал, поблескивавших в полумраке, потом глаза привыкли и он стал различать разговаривающих. Манкузо сидел на краю пуфа, по обыкновению изящный и элегантный, нахохлившись, как сыч. Де Керини же сидела прямо напротив окна на легкой кушетке с гнутыми ножками, выставив на обозрение свои пышные формы, выступающие под яркими складками капота. Она откинулась назад, сонная и невозмутимая, положив ногу на ногу. Сильвио видел круглую белую шею с толстой складкой под подбородком, жеманный кукольный рот, раздутые ноздри и под ровными локонами, спадавшими до половины лба, черные бархатистые глаза, сощуренные и улыбающиеся, которые смотрели в потолок насмешливо и самодовольно.
– Раньше надо было думать, – повторила она, посидев несколько секунд неподвижно.
Манкузо скривился, словно сигарета у него во рту вдруг стала горькой.
– Прекрасный совет, – пробормотал он. – Когда это раньше? Если кто виноват, так это ты. Она твоя дочь, ты ее воспитывала, вот и вырастила бы ее честной женщиной, а не развратницей.
Они замолчали.
– Не надо преувеличивать, – сказала наконец Де Керини равнодушным тоном, стараясь скрыть раздражение.
Манкузо вскинулся.
– Как это преувеличивать? Остается неделя до свадьбы, а я ее совсем не вижу. Совсем! Она на целый день удирает от меня с этим архитектором.
Де Керини склонила голову к плечу и посмотрела на Манкузо томным, улыбающимся взглядом.
– Все это переменится, – сказала она слегка насмешливо. – У Амелии такой характер, что супружеская жизнь изменит его до неузнаваемости... Особенно, если у вас будут дети...
– Но она говорит, что не хочет от меня детей, – сказал Манкузо угрюмо. И в его тихом голосе была такая искренняя удрученность, что Сильвио невольно улыбнулся. Де Керини, казалось, тоже позабавил серьезный тон собеседника.
– Это все слова, – сказала она, по-прежнему глядя в потолок, – но, когда родится ребенок, она этого уже не скажет... А я стану бабушкой, какая прелесть! – Она зевнула со скучающим видом. – Ты, Джино, напрасно так беспокоишься, – добавила она, помолчав, – просто ты еще не понял, что Амелия очень слабохарактерная.
– Я этого что-то не замечал, – буркнул Манкузо угрюмо.
Де Керини выпрямилась и, слегка наклонившись к Манкузо, уставилась ему в лицо холодным и злым взглядом.
– Не замечал? – повторила она. – Но я, по-моему, ее лучше знаю. Вот послушай, – и она начала перечислять, загибая пальцы. – Во-первых, Амелия слабая. У нее никогда не хватит смелости взглянуть жизни в лицо. Особенно в трудных обстоятельствах... Во-вторых, она нерешительная, это у нее просто болезнь: прежде чем сделать что-нибудь, она тысячу раз передумает и наконец выберет худшее... Кроме того, она эгоистична, никогда не жди от Амелии жертвы... На это она не способна. И, наконец, она тщеславна; но это такое тщеславие, о каком ты и понятия не имеешь. Так что, если хочешь держать Амелию в руках, умей пользоваться ее слабостями. Вот, к примеру, роскошь. Амелия на платья, шляпки, автомобиль и прочее променяет родную мать, любимого мужа, все на свете. Просто удивительно, – заключила Де Керини небрежно, – до какой степени этой девушке чуждо чувство самопожертвования... Не далее как сегодня утром я имела этому доказательство.