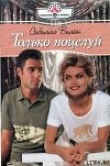Текст книги "Дом, в котором совершено преступление (Рассказы)"
Автор книги: Альберто Моравиа
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
Я. Но что же это такое – Государство?
Гид. Синьор Моравиа, отсылаю вас к девизу, который выгравирован на пряжке нашего героя: "Государство – это не что иное, как Государство".
Я. Значит, существуют либо, так сказать, друзья Государства, либо его враги. Разве нет середины?
Гид. А разве она возможна? Разве есть середина между добром и злом, между жизнью и смертью, между истиной и ложью?
Я. Вы правы, как, впрочем, и всегда. А как поступает Государство со своими врагами?
Гид. Очень просто. По мере возможности – простите мне каламбур – делает их своими друзьями. То есть делает полезными. Из вредных – полезными.
Я. Перевоспитывает?
Гид. Не совсем. Воспитание Государство дает человеку в школе, и нет смысла делать это дважды. Но оно, если можно так выразиться, перевоспитывает самый материал, из которого состоят его враги. Иными словами, живых врагов оно превращает в мертвых.
Я. Не понимаю.
Гид. Их подвергают строго научной обработке по единому методу. Все санитарные нормы неукоснительно соблюдаются. Мужчин, женщин и детей – врагов Государства – обследует специальная комиссия, которая называется "Комиссия по утилизации врагов государства", после чего их отправляют в ликвидационные лагеря. Там их тщательно пересчитывают, осматривают, освидетельствуют и убивают.
Я. Каким же способом?
Гид. Научным, как всегда: в газовых камерах. А потом, как я уже сказал, посредством специальных кислот мясо отделяется от костей. Мясо идет на удобрения. Кости же, пропитанные укрепляющим составом и высушенные, расфасовывают связками, снабжают этикетками и отправляют на пуговичные фабрики. Между заготовительными центрами и фабриками стоит министерство, которое следит, чтобы производство шло в соответствии с установленными нормами и планами. Но вернемся к теме нашего разговора. Государство, превращая в пуговицы кости своих врагов, по существу делает их полезными. Они, так сказать, оправдывают свое существование, которое в противном случае было бы бесполезно, а следовательно, бессмысленно и неоправданно. Как видите, принцип общественной пользы определяет все действия Государства. Государство всегда высоконравственно и не может быть иным.
Я. Однако эти ликвидационные лагеря, как вы их называете...
Гид. Но ведь я же сказал вам, что там применяются строго научные методы...
Я. Позвольте. Но ведь так называемые враги Государства могли бы, наверно, кое-что возразить против этих научных методов. Иначе говоря, они могут не захотеть, чтобы их превращали в пуговицы.
Гид. Ага, я вас наконец понял. На редкость странная мысль! Уверяю вас, что вы ошибаетесь. Государство не может желать ничего, кроме всеобщего блага, в том числе и блага своих врагов, и они первые это чувствуют и признают. Они понимают намерение государства, отдают себе отчет, что это для них единственный способ быть полезными, и с восторгом принимают свою судьбу. Лучшее доказательство этого – то, что они прибывают в ликвидационные лагеря со знаменами, под звуки оркестра, поют гимн и громко прославляют Государство, которое в своей бесконечной милости дает им возможность как-то оправдать свое существование.
Я. Под звуки оркестра, с пением гимна? По всей видимости, это очень радостная церемония!
Гид. Так оно и есть. Да и кто бы не радовался на их месте? Подумайте...
Я. Уже сколько времени я только это и делаю.
Гид. Подумайте... Солдат, отдавший свою жизнь на войне, чиновник, отдавший свою жизнь за служебным столом, крестьянин, отдавший все свои силы на поле, пашущий до последнего вздоха, – разве они не делают то же самое, что и враги Государства? Но одни служат ему своей жизнью, а другие смертью, только и всего.
Я. Да, только и всего.
Гид. Но вы столько раз перебивали меня, что мы потеряли нить. Впрочем, мне понятно ваше любопытство. Вы турист, и порядок, процветание, могущество нашей страны вызывают у вас восхищение и, быть может, зависть. Вы, естественно, стараетесь понять корни этого порядка, процветания, могущества. Вероятно, хотите вернуться на родину и посоветовать своему правительству принять нашу систему. Не так ли?
Я. Вы очень проницательны и буквально читаете мои мысли.
Гид. Это нетрудно, восхищение написано у вас на лице. Но вернемся к нашему несравненному Мюллеру. Однажды, когда он отправил на фабрики партию пуговичного сырья, то есть костей, приехал государственный инспектор, который проверил реестры и обвинил Мюллера в том, что, получив с заготовительных центров шестьдесят девять тысяч связок берцовых костей, он отправил на фабрику только шестьдесят тысяч. Разница в целых девять тысяч связок! Обвинение, как видите, нешуточное. Это саботаж или, что то же самое, воровство – преступление, наказуемое разжалованием и пожизненными каторжными работами.
Я. Разве фабрики не прислали квитанций?
Гид. Именно в квитанциях фабрик и было указано шестьдесят тысяч связок, тогда как в реестре заготовительного центра стояло шестьдесят девять тысяч.
Я. Да, бедняга Мюллер попал в незавидное положение. Как же он поступил?
Гид. Он, конечно, не признал себя виновным. На это ему ответили, что он может сколько угодно оправдываться, но следствие будет начато немедленно. Вы, может быть, знаете, что следствие у нас идет долго. Прежде всего материал направляется в Министерство внутренних дел, в управление надзора, в следственный отдел, подотдел саботажа. Потом министерство назначает следственную комиссию. После этого состав следственной комиссии утверждается комиссией по утверждению состава следственных комиссий, и наконец этот состав должен быть одобрен Главой Государства... (Обнажает голову.)
Я. Простите, я вас перебью. У меня на родине снимают шляпы, когда проходит похоронная процессия.
Гид. Зачем?
Я. Говорят, что проходит смерть.
Гид. В данном случае, наоборот, проходит жизнь. Но вернемся к нашему Мюллеру. Он почувствовал, что не может ждать конца следствия. Его честь, его преданность государственного чиновника были задеты. Этот кристально честный человек, этот великий человек не мог вынести такого удара и покончил с собой. Но, умирая, он оставил письмо, адресованное его непосредственному начальнику, которое, объяснив причины своего поступка, закончил так: "Я не виновен, но прошу сделать из моих костей пуговицы. Конечно, их будет немного по сравнению с тем, что потеряло Государство, но это все, что у меня есть. И прошу еще, чтобы эти пуговицы носили на мундирах мои коллеги из пуговичного подотдела и до полного их износа других не пришивали". Красиво, правда?
Я. Очень. А следствие подтвердило потом невиновность Мюллера?
Гид. Здесь начинается самое тяжкое и трогательное. Конечно, подтвердило. Но слишком поздно, когда Мюллера уже не было в живых. Произошла ошибка.
Я. Ошибка?
Гид. Да, в реестре заготовительного центра нуль ошибочно превратился в девятку.
Я. Без сомнения, начальник лагеря был сурово наказан.
Гид. Хотя вам это может показаться странным, никто наказан не был. Потому что одному из членов следственной комиссии пришло в голову исследовать эту девятку под микроскопом, и обнаружилось, что хвостик у нее подведен не рукой человека.
Я. Как же это?
Гид. Летом в учреждениях засилье мух. К сожалению, несмотря на строго научный план уничтожения этих докучливых насекомых, некоторым из них удается уцелеть. Так вот муха, нагадив на реестр, так сказать, подвела хвостик у первого нуля в цифре шестьдесят тысяч, превратив ее в шестьдесят девять тысяч. Как видите, судьба.
Я. Да, вижу.
Гид. Судьба, повторяю, но не слепая судьба. Потому что, если разобраться, благодаря этой мухе Мюллер покончил с собой, и когда его признали невиновным, память его увековечили памятниками во всех городах. И памятники эти предостерегают, указуют и прославляют...
Я. Государство.
Гид. Вы поймали мою мысль на лету. А теперь прошу вас, посмотрите на это величественное здание, вон там, слева от вас. Взгляните хорошенько...
Из сборника "Новые римские рассказы"
Рекомендация
Безработица измучила меня вконец. На мне осталась лишь куртка, надетая поверх единственной рубахи, а единственный галстук, затвердевший от пота, превратился в замусоленный шнурок. В голове у меня был полнейший сумбур, в желудке пусто до тошноты. И тут я решил обратиться за помощью и советом к одному своему другу, которому я приходился к тому же кумом, так как некогда крестил его сына. Этого моего друга и кума звали Полластрини, и работал он шофером у двух старых дев. Машина у них была еще более старая, чем они сами, и пользовались они ею раза два в неделю: о таком местечке можно только мечтать!.. Я застал его в гараже. Он копался в моторе и, едва увидев меня, понял по моему лицу, что дела мои плохи. Не успел еще я заговорить с ним, как он протянул мне сигарету. Я зажег ее дрожащей рукой и объяснил ему, зачем пришел. Он смущенно почесал в затылке, потом сказал:
– Мы с тобой кумовья, и скажу тебе откровенно: сейчас тяжелое время, работы нет и не предвидится. Говорят, если и дальше так пойдет и эта милая привычка самим водить машины укоренится, личные шоферы вообще должны будут исчезнуть... Все же знаешь, что я сделаю? Я пошлю тебя к адвокату Молье, он в свое время помог мне.
Он прибавил еще, что этот Молье знает пол-Рима и готов помочь каждому, если это в его силах, и что вообще, чтобы добиться удачи, надо действовать. Говоря все это, он направился к телефонной будке и позвонил адвокату. Тот, должно быть, не очень-то помнил, кто такой Полластрини, потому что разговор был долгим и упорным. Все же в конце концов Полластрини, видимо, о чем-то договорился и сказал мне, чтоб я шел к адвокату и что тот меня ждет. Он дал мне еще одну сигарету, я поблагодарил его и ушел.
Было еще рано, но жарища стояла!.. Римлянам она хорошо знакома, они называют ее "калачча": на город дует сирокко, солнце палит нещадно, и небо мутнеет от зноя. Трамвай, окутанный облаком пыли, на залитой солнцем улице показался мне, безработному, похожим на молотилку в поле во время жатвы. Он был битком набит, и на подножках висели люди. Я тоже повис и невольно прикоснулся к металлической стенке вагона – она была раскаленной. Так, вися на подножке, я проехал вдоль всех набережных до самой площади Кавура адвокат жил на улице Пьерлуиджи да Палестрина.
Приезжаю туда, схожу, бегу, поднимаюсь на четвертый этаж богатого дома, звоню, служанка впускает меня в большую великолепную прихожую с двумя зеркалами в золоченых рамах на двух консолях из желтого мрамора. Жду стоя. Неожиданно боковая дверь открывается и из нее появляется маленький мальчик на трехколесном велосипеде. Он объезжает вокруг меня, как будто я полицейский на перекрестке, и исчезает за другой дверью. Сразу вслед за этим выглядывает адвокат и приглашает меня войти.
– Тебе повезло, ты застал меня вовремя, я как раз собирался в суд, говорит он.
Он провел меня в большую комнату, заставленную шкафами, полными книг, прошел к столу, заваленному бумагами, и сел, почти скрывшись за ними. Это был невысокий человек с широким желтым лицом и черными, как уголь, глазами. Перелистывая какую-то пачку бумаг, он сказал:
– Итак, тебя зовут Луиджи Рондинелли.
Я живо возразил:
– Нет, меня зовут Альфредо Чезарано... Вам звонил по моему делу Полластрини... насчет рекомендации...
– Кто такой Полластрини?
У меня потемнело в глазах, и я ответил слабым голосом:
– Джузеппе Полластрини... шофер сестер Кондорелли.
Адвокат рассмеялся, он был настроен добродушно:
– Ах, да, конечно... Извини... Он звонил мне, и я говорил с ним... Это правда... но знаешь, я в это время перебирал бумаги и отвечал ему, думая совсем о другом. А когда повесил трубку, то спросил себя: кто это был? Что ему надо? Что я ему ответил? Теперь ты разрешил эту загадку. Итак, насколько я помню, Чезарано, тебе нужна рекомендация в муниципалитет, чтобы устроиться садовником?
Я снова возразил:
– Нет, господин адвокат, я шофер и ищу место шофера.
Он, словно не слыша меня, продолжал:
– Знаешь, что я говорю тем, кто просит у меня место? Миллион, чек на миллион я еще могу вам выхлопотать, но место – нет. Садовник муниципалитета – это одни только разговоры.
Я повторил:
– Господин адвокат, я шофер... Я ищу место шофера.
На этот раз он меня понял и сказал с некоторым нетерпением:
– Да, да, черт побери, шофер, понимаю.
Потом склонился над столом, быстро написал что-то, взял блокнот, нашел в нем, как мне показалось, какой-то адрес, еще что-то написал и наконец дал мне конверт, сказав при этом:
– Держи. Пойдешь с этим письмом к адвокату Скардамацци, он наверняка сможет что-нибудь для тебя сделать... А пока на вот, это тебе пригодится.
Он вынул из бумажника ассигнацию и протянул ее мне. Я сначала запротестовал и из приличия стал отказываться, но потом взял деньги, поклонился ему и вышел.
Контора адвоката Скардамацци находилась в помещении муниципалитета, на улице дель Маре. Мне это показалось странным, но так было написано на конверте, и я снова поехал на трамвае, вися, как и прежде, на подножке и чувствуя на своей спине палящие лучи солнца, которые следовали за мной, как лучи прожектора, во время всего пути. Я сошел возле Бокка делла Верита и вошел в здание муниципалитета. В вестибюле и на лестницах было полно людей. Они, бедняги, запыхавшись, бегали взад и вперед как угорелые. У каждого в руках были какие-то бумаги. Я стал подниматься по лестнице, все время спрашивая о Скардамацци. В коридорах перед каждой дверью ожидали посетители, они все взмокли от пота, а лица их, казалось, плавились на глазах, как свечи. Наконец один из служителей указал мне контору, которую я искал. По счастливой случайности возле двери никто не ждал, и я сразу вошел. Скардамацци оказался молодым человеком в пенсне с черной оправой, у него были черные усы и стрижка ежиком. Он был без пиджака, и рукава его белой рубашки были стянуты резинками.
Он выслушал меня, покуривая, потом сказал:
– Жаль, однако, что я совершенно не знаком с этим адвокатом Молье... К тому же я не адвокат, а бухгалтер, и меня зовут Джованни, а не Родольфо... Единственное, что я могу для вас сделать, это направить вас к моему коллеге Треска... Может, он что-нибудь знает.
Он взял трубку и стал долго разговаривать по телефону. Сначала он спросил, "приперлась" ли такая-то (он прямо так и сказал "приперлась"), ему, наверно, ответили, что "не приперлась", потому что он остался недоволен ответом и сказал, что ничего не понимает: он видел ее, и она обещала ему зайти, и так далее. Наконец он сухо прибавил, что посылает некоего Альфредо Чезарано, и повесил трубку.
– Иди скорее туда... Его зовут Треска... – сказал он мне.
Я вышел и стал искать этого Треска, но вскоре понял, что найти его нелегко. Швейцары его не знали, а один даже сказал мне, явно не понимая, чего я хочу, что треску я могу найти на рыбном базаре. Переходя с этажа на этаж, из одного коридора в другой, я вспомнил вдруг, что адвокат Молье искал адрес Скардамацци в каком-то блокноте, и понял, что в спешке он, наверное, не заметил, как написал вместо одного адреса другой. И я не ошибся: в телефонной книге возле автомата я обнаружил, что адвокат Скардамацци на самом деле жил на улице Квинтино Селла, в другом конце города. Я отправился туда.
Контора адвоката помещалась на четвертом этаже старого неприглядного дома. На лестнице пахло капустой, в душной и темной прихожей ожидало много озабоченных людей, вплотную друг к другу сидевших на диванах. Я тоже стал ждать и ждал, наверное, с час. Эти тени, сидевшие в прихожей, входили, выходили и исчезали одна за другой. Наконец подошла моя очередь.
Кабинет адвоката был уставлен мебелью из черного дерева, инкрустированного костью. Из угла глядело чучело орла с расправленными крыльями. Адвокат сидел за большим столом, заваленным бумагами и уставленным телефонами. Над ним висела картина с изображением улыбающейся крестьянки из Чочарии, в национальном костюме, с цветами в руках. Адвокат Скардамацци ничем не напоминал бухгалтера Скардамацци. Это был массивный человечище, похожий на грузчика, с полным лицом, раскосыми глазами и крючковатым носом. Он говорил оглушительным голосом, приветливо, но безучастно – обычная приветливость римлян, которая ничего не значит.
Пробежав глазами письмо, он сказал:
– А, так мы без работы... Дорогой, сделаю для тебя все, что смогу... Садись-ка пока и подожди минутку.
Я сел, а он сразу же повис на телефоне и вступил в очень напряженный диалог: кто-то на другом конце провода говорил ему что-то, а он неизменно отвечал:
– Полтора или ничего.
Там настаивали, но Скардамацци упорно повторял:
– Полтора или ничего.
Наконец он резко произнес, подчеркивая каждое слово:
– Скажи этому подлецу, что меня на мякине не проведешь. Понял? Так и скажи ему: Скардамацци на мякине не проведешь.
Положив трубку, он тут же набрал другой номер, но на этот раз он говорил совсем иначе: в первый раз выговор у него был римский, даже трастеверинский, теперь же он почему-то перешел на северный, причем голос его звучал слащаво и любезно:
– Договорились, доктор... Вы сможете застать меня с пяти до восьми... Приходите, когда вам удобнее... Не сомневайтесь... Всего доброго, кланяйтесь вашей супруге.
Он повесил трубку, сердито посмотрел на меня своими раскосыми глазами и спросил:
– Тебе что?
– Письмо... – начал я.
– Ах, да, письмо... Конечно... Черт возьми, куда оно делось?
Он долго искал его, вороша на столе бумаги, потом воскликнул:
– Вот оно!.. У меня ничего не пропадает... Все находится.
Он снова прочел письмо, хмуря лоб, затем взял ручку, быстро набросал несколько слов на листке бумаги, вложил его в конверт и протянул мне:
– Иди по этому адресу... Ты как раз застанешь его... Желаю удачи.
Я встал, взял конверт, положил его в карман и вышел.
Когда я очутился на улице, я достал конверт из кармана, чтоб прочесть адрес, и онемел от изумления, увидев: "Адвокат Мауро Молье, улица Пьерлуиджи да Палестрина, 20". Итак, словно в той настольной игре, где неудачно бросивший кость в наказание должен вернуться своей фишкой назад, я, изъездив пол-Рима, должен был возвратиться к Молье, с которого начал, и вся эта беготня на пустой желудок, давка в трамвае и в автобусе – все было напрасно. Я решил, что адвокат Скардамацци по ошибке прочел другое письмо, одно из тех многочисленных рекомендательных писем, которые он получает, и, совсем забыв о том письме, что прочитал сначала, послал меня к Молье, который в свою очередь посылал меня к нему. Совсем как в игре, только в наказание за что? Я был так измучен, растерян и к тому же голоден, что не нашел ничего лучшего, как снова сесть в автобус и вернуться на улицу Пьерлуиджи да Палестрина.
Мне пришлось немного подождать в прихожей, куда доносился теперь приятный запах из кухни. Мне показалось даже, что я слышал стук тарелок и вилок, но, может, это просто разыгралось мое воображение. Тот же мальчик на трехколесном велосипеде неожиданно выехал из дверей, объехал вокруг меня и исчез за другой дверью. Наконец сам адвокат позвал меня. Кабинет теперь был погружен в полумрак, жалюзи были приспущены, а в углу дивана лежала подушка. Адвокат был в халате, он пообедал и теперь собирался немного отдохнуть. Все же он подошел к столу и стоя прочитал письмо.
– Я знаю адвоката Скардамацци, – сказал он, – это мой хороший друг... Итак, тебя зовут Франчезетти, и ты хочешь получить место швейцара в суде... В общем, обычная рекомендация, да?
На этот раз у меня в самом деле закружилась голова. Впрочем, может, это от голода и усталости.
– Господин адвокат, меня зовут не Франчезетти, и я не хочу место швейцара... – сказал я слабым голосом. – Меня зовут Альфредо Чезарано, и я шофер.
– Но здесь написано Франчезетти и сказано, что ты хочешь получить место швейцара... Что за путаница?
Тогда я, собрав последние силы, простонал:
– Господин адвокат, мое имя Альфредо Чезарано, я шофер... Сегодня утром вам звонил по моей просьбе Полластрини, которого вы знаете, и потом я пришел к вам и вы дали мне рекомендательное письмо к адвокату Скардамацци... Только вы перепутали адрес и послали меня в муниципалитет к бухгалтеру Скардамацци, а он послал меня к Треска, но я не нашел его... Тогда мне пришла мысль поехать к настоящему адвокату Скардамацци... Но он потерял мое письмо и прочел в другом письме, которое лежало у него на столе, будто меня зовут Франчезетти и я хочу место швейцара... и дал мне письмо к вам... И вот я вернулся, изъездив пол-Рима, и едва держусь на ногах от усталости и голода.
Слушая меня, он нахмурил брови и скривил рот: он узнал меня, понял, что невольно сыграл со мной злую шутку, и теперь, я это отлично заметил, он был смущен, и ему было стыдно. Едва окончив свою жалобу, я вдруг почувствовал, что в глазах у меня двоится, а лицо адвоката как-то странно расплывается. Тогда я быстро опустился в кресло возле стола, закрыв глаза рукой. Со мной был чуть ли не обморок, а адвокат между тем пришел в себя и справился с охватившим его стыдом.
– Простите меня, это от слабости, – начал я, но он, не дав мне окончить, быстро проговорил:
– Что ж, мне жаль... Но мы все так завалены делами, а безработных сейчас столько... Мы вот что сделаем: до сих пор машину я сам водил... ну, а теперь, значит, водить ее будешь ты... Разумеется, временно, пока не найдешь работу... Сказать по правде, мне не нужен шофер, ну да ладно, ничего не поделаешь.
Сказав это, он не стал меня больше слушать, а позвал служанку, объявил ей, что я новый шофер, и велел проводить меня на кухню и накормить. На кухне этим болтушкам, что расспрашивали меня с любопытством, кто я такой, откуда и как это адвокат взял меня шофером, я, потеряв наконец терпение, сказал, отрываясь на минутку от миски:
– Он взял меня потому, что в нем заговорила совесть.
– Совесть?
– Да, и не спрашивайте у меня больше ничего. Единственное, что я могу вам еще сказать, это то, что меня зовут Альфредо Чезарано. Но вы можете звать меня просто Альфредо.
Жизнь – это танец
В марте мне исполнилось восемнадцать лет, и я добился разрешения отца бросить учебу. Разрешение он дал, отчаявшись во мне: я отстал на четыре года и теперь один из всего класса носил длинные брюки. Мой отец, человек старинного склада, разрешил мне бросить учебу, но предварительно закатил такую сцену, что и рассказать невозможно. Он вопил, что я доведу его до разрыва сердца и что вообще он не знает, как со мной быть. Кончил он тем, что предложил мне работать в нашем магазине, в большом, старом и хорошо всем известном магазине канцелярских принадлежностей, что близ площади Минервы.
На это предложение я ответил очень коротко:
– Лучше подохну.
Тогда отец схватил меня за руку и выставил за дверь.
Итак, поскольку на меня махнули с отчаяния рукой, я в восемнадцать лет был предоставлен самому себе и мог заниматься чем угодно.
Первым делом я купил роскошный красный свитер, синие штаны американского покроя, крупно простроченные белыми нитками, с шестью карманами, с отворотами до половины голени и с фабричным клеймом на самом заду, желтый шейный платок и полуботинки типа "мокасины" с медными пряжками.
Мать меня очень любит и во всем мне потакает. Она поднесла мне в день рожденья портативный радиоприемник и уговорила отца подарить мне мотороллер.
В тот же день я отправился в парикмахерскую и велел подстричь себя под Марлона Брандо. Пока я стригся, маникюрша, невзрачная с виду девушка, подошла ко мне и спросила, не желаю ли я привести в порядок руки. Я поглядел на нее снизу вверх и, хотя она вовсе не была красавицей, скорей наоборот, про себя решил, что это как раз такая девушка, какую мне надо.
И я не ошибся в Джакомине: пока она делала мне маникюр, мы, как водится, болтали о том, о сем, и я узнал, что она, так же как и я, больше всего на свете любит рок-н-ролл. Я назначил ей свиданье, и она сразу согласилась. Так что, когда я вышел из парикмахерской, у меня было все, что надо: красный свитер, синие штаны, стрижка под Марлона Брандо, портативное радио, мотороллер и Джакомина. И мне было восемнадцать! Наконец-то жизнь начиналась!
Для меня жить – это танцевать рок-н-ролл, не больше, но и никак не меньше. Словно дьявол сидел в моем худом теле, а в те апрельские дни меня вихрем носило по весенним улицам города, полным запаха цветов и пыли, и мне казалось, что даже порывы этого вихря следуют ритму рок-н-ролла.
С карманами, полными монет по пятьдесят лир, с Джакоминой под ручку она к тому времени бросила работу в парикмахерской – я целыми днями бродил по барам, в которых были американские проигрыватели-автоматы. Я входил в бар, опускал монету в автомат, игравший рок-н-ролл, и тут же, между стойкой бара и кассой, начинал наш с Джакоминой номер.
Став в один из углов зала, я разводил немного вытянутые вперед руки и, разинув рот, начинал поводить плечами и вихлять бедрами. В противоположном углу Джакомина делала то же самое; танцуя, мы двигались друг другу навстречу, окруженные посетителями бара и нашими приятелями, которые так и волочились повсюду за нами. Эти приятели, в большинстве ребята моего возраста, слегка издевались надо мной за то, что я выбрал Джакомину среди множества свободных девушек, каждая из которых была лучше ее. И верно, как я уже сказал, Джакомину нельзя было назвать красавицей. У нее была прическа "лошадиный хвост", острая мордочка, бледный, даже синеватый оттенок кожи с разбросанными по ней мелкими прыщиками и бесцветные глаза бродячей собаки. Но была у нее пара таких дьявольских ног, которые в танце не знали устали и двигались совершенно в такт с моими. Понятно, между нами не было и тени того, что называют любовью: только рок-н-ролл! Да и что такое любовь по сравнению со страстью к танцам? Подлизывание, жеманство, разные глупости чушь, самая настоящая чушь! И потом любовь отягощает, оглупляет, тогда как в танце порхаешь по жизни совсем как птица по небу. Нечего любовь крутить, танцевать надо, вот что!
С Джакоминой у нас было полнейшее согласие. Рано утром я заезжал за ней на мотороллере, к рулю которого прикрепил свой портативный радиоприемник, и мы мчались во весь опор куда-нибудь за город, к морю. Приехав наместо, я сразу же включал радио, ловил подходящую музыку, и мы принимались танцевать. Где я только не танцевал: на пляже, посреди дороги, на лугу, на площадях и в переулках. Если мы не ехали за город, Джакомина приходила ко мне, мы свертывали в гостиной ковер и танцевали. А то шли домой к ней, и так как семья у нее бедная и гостиной у них нет, то мы танцевали на лестничной площадке. Днем, как я уже говорил, мы кочевали из одного бара в другой в сопровождении приятелей и всюду танцевали. Вечером шли в какой-нибудь танцзал и вскоре оказывались одни в центре площадки, а все присутствующие становились вокруг нас и отбивали ладонями такт. Иной раз даже среди ночи я вдруг просыпался и чувствовал, что ноги мои сами двигаются под простыней: так им хочется танцевать. Ах, как я был счастлив, никогда в жизни я не был больше так счастлив!
К сожалению, это не могло длиться вечно. Уже во время наших поездок на мотороллере я стал замечать, что Джакомина что-то слишком прижимается ко мне. Когда мы останавливались, она, конечно, танцевала, но похоже было, что не столько ей самой этого хотелось, сколько она стремилась доставить удовольствие мне. А то вдруг начинала вздыхать, брала меня за руку и смотрела томными глазами, пока наконец однажды – сам не знаю, как это случилось, – гуляя по рощице в Кастельфузано, мы не очутились среди кустарника в объятиях друг у друга и не поцеловались долгим любовным поцелуем. Едва оторвавшись от нее, я с раздражением сказал:
– Вот этого как раз и не надо было.
А она спросила:
– Почему же? Если мы любим друг друга?
А я все так же раздраженно:
– При чем тут это? Нам так хорошо было без любви!
Тогда она, к моему удивлению, прильнула ко мне, обняла меня за талию, обвила моей рукой свои плечи и резким голосом принялась выкрикивать:
– Я люблю тебя, люблю, люблю! И хочу, чтобы все знали, как мы любим друг друга! Все должны это знать! Да, да, да, все!
Я оттолкнул ее, говоря:
– Ну ладно. Только ты не очень-то липни.
– А почему, если мы друг друга любим?
– Да, но надо же соблюдать приличия.
– Фу, какой ты противный! Влюбленные всегда обнимаются, правда ведь?
А я отвечал упрямо:
– Нет, неправда. Я хотел с тобой танцевать, а не обниматься.
И тогда она этаким жеманным голоском заявила:
– Альфредуччо, мы будем делать и то и другое.
В общем с того дня она все чаще льнула ко мне и ей все меньше нравилось порхать со мной во влекущем ритме рок-н-ролла. Она, понятно, ходила со мной в дансинги, но уже без того энтузиазма, который является первым условием настоящего танца. И как только ей удавалось, она начинала липнуть ко мне. В ответ я давал ей таких тумаков, что у ней, верно, дух захватывало. Да что толку? Все равно что разговаривать с глухим. Чем больше я ее отпихивал, тем больше она льнула ко мне.
Иной раз я ей говорил:
– Сегодня танцуем и только. Договорились?
А она:
– Альфредуччо, как я могу прожить целый день, ни разу тебя не поцеловав?
– Свой поцелуй побереги до завтра, – отвечал я, – а сегодня танцуем.
Она, казалось, мирилась с этим, но потом внезапно кидалась на меня и принималась целовать. Я боялся задохнуться, знаете, как бывает, когда игривый пес набрасывается на человека и начинает вылизывать ему физиономию. С трудом я отбивался и, вынимая изо рта ее волосы, которые она в порыве чувств чуть не заставляла меня проглотить, говорил:
– Такого уговора не было. До свиданья. Завтра увидимся.
Я уходил домой, ставил пластинку, затем другую, третью, пока не успокаивался, и тогда звонил ей. Она приезжала, на целый вечер у нас воцарялся былой мир, и мы вертелись в танце, как волчки, до поздней ночи. Но эти возвраты к прошлому становились все более редкими. Чего-то в наших отношениях уже не хватало, и, танцуя с ней, я это неизменно чувствовал. Так что однажды даже сказал:
– Ты, милая моя, уже не та, что прежде...
А она упрямо твердила:
– Это потому, что я тебя полюбила.
Что меня особенно раздражало, так это ее манера делать все напоказ. Конечно, рок-н-ролл мы почти всегда танцевали на людях. Но одно дело танцевать, а другое – целоваться. Я говорил Джакомине:
– Те самые люди, которые аплодируют, когда ты со мной танцуешь, освистают тебя, если ты вздумаешь меня поцеловать. Всему свое место и время.
А она:
– Ну и пусть! Но я хочу, чтобы все знали, как мы друг друга любим. Да, да, да, все!
Так мы и не могли столковаться.
В один из тех дней мы поехали автобусом к моему приятелю, у которого иногда собирались и устраивали соревнования по рок-н-роллу. Я был в плохом настроении, так как за обедом отец закатил мне очередную сцену. Желая как-нибудь его успокоить, я обещал, что в тот же день отправлюсь в магазин и начну привыкать к делу. Конечно, про себя я решил, что в магазин ни в коем случае не пойду. Но в то же время чувствовал нечто вроде угрызений совести, а также немного побаивался сцены, которую мне мог устроить отец, узнав, что я его обманул. Расстроенный, я влез с Джакоминой в автобус и остался стоять на задней площадке. Джакомина, как обычно, не отставала ни на секунду и пожирала меня горящими глазами, которые особенно меня раздражали.