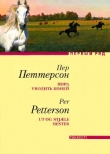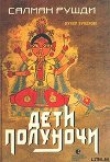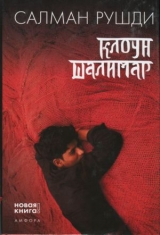
Текст книги "Клоун Шалимар"
Автор книги: Ахмед Салман Рушди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Слова Наставника журчали, словно воды Мускадуна. Бунньи Каул знала, что когда ее отец, человек, любимый и уважаемый всеми, потому что и сам он любил людей, человек с избыточным количеством подбородков, потому что едва ли не еще сильнее любил он обильную пишу, – принимался оплакивать пороки рода человеческого и призывать всех вести аскетическую жизнь, это означало, что он впал в тоску по любимой жене, которая при жизни ни разу не разочаровала его, всегда изумляла изобретательностью в делах любви и которую он желал до сих пор, хотя со дня ее смерти прошло уже четырнадцать лет. В таких случаях Бунньи старалась быть особенно ласковой, чтобы своим вниманием заглушить отцовскую печаль. Нынче, однако, ее мысли были заняты совсем другим, и роль заботливой, любящей дочери была позабыта. Она и ее возлюбленный Шалимар сидели, как всегда, каждый на своем камне, они не сводили друг с друга глаз, изо всех сил стараясь скрыть предательски счастливые улыбки.
То было первое утро после величайшего события их жизни, которое имело место на высокогорной лесной поляне возле Кхелмарга. Опьяненная любовью Бунньи полулежала, томно выгнув спину, в откровенно вызывающей позе. Отец, меланхолически глядя на нее, вскользь подумал, что нынче она более чем когда-либо напоминает свою мать, но по недалекости, свойственной всем отцам, не понял, в чем причина этого. Причина же заключалась в том, что руки желания оглаживали ее познавшее мужчину тело. Но клоуна Шалимара ее вид привел в состояние замешательства: он не только возбуждал, но и тревожил. Шалимар успокаивающими жестами ладоней попытался дать ей знать, что следует держать себя в руках и не проявлять столь явно своих чувств. Однако в этот раз невидимые нити взаимопонимания явно перепутались и сработали в неверном направлении: чем настойчивее он показывал ей на землю, тем сильнее выгибала она спину: его жесты призывали ее успокоиться, а она приходила во все большее возбуждение. Позже, на поляне для тренировок, когда оба они высоко над землей упражнялись на канате, он спросил:
– Почему ты не перестала, когда я попросил тебя успокоиться?
– А ты не просил меня перестать, – отозвалась она со смехом. – Я чувствовала, как ты гладишь меня, как ласкаешь вот тут и тут, как вжимаешься в меня, как входишь в меня все глубже и глубже, и я завелась. Ты ведь этого и добивался – разве не так?
Только теперь Шалимар начал догадываться, что утрата невинности разбудила в Бунньи странную дерзость, неуправляемую, стихийную бесшабашность, граничащую с глупостью, ибо ее желание демонстрировать их любовь перед всеми могло привести к скандалу и разбить жизнь им обоим. Горькая ирония заключалась в том, что Шалимар и полюбил-то Бунньи в первую очередь за ее отвагу, за то, что она почти ничего не боялась, за то, что она всегда добивалась, чего хотела, не считаясь ни с чем. Теперь же именно эта черта ее натуры, столь ярко проявившая себя после ночи любви, грозила поломать им обоим жизнь. У клоуна Шалимара был знаменитый трюк, который он сам придумал: трюк состоял в том, что, стоя на канате, он постепенно наклонялся в сторону, а когда уже казалось, будто падение неминуемо, то, разыгрывая испуг и растерянность, он вдруг, словно смеясь над силой земного притяжения, с поразительным искусством и ловкостью выпрямлялся. Бунньи пыталась овладеть этим трюком, но, размахивая, словно ветряная мельница, руками и хихикая, вынуждена была в конце концов отказаться от дальнейших попыток и признать свое поражение.
– Это невозможно, – заключила она.
– Люди нам и платят за то, чтобы увидеть невозможное, – стоя на натянутой проволоке, процитировал отца мастер клоунады и перевоплощений Шалимар и поклонился, словно ему аплодировала толпа. – Абдулла Номан часто повторял своим актерам: всегда начинайте выступление с какого-нибудь немыслимого трюка – проглотите кинжал, завяжитесь узлом, бросьте вызов закону притяжения – словом, что-нибудь такое, чего не в состоянии сделать никто из зрителей. После этого зритель уже ваш.
«Наверное, есть случаи, когда законы сцены не годятся для реальной жизни», – думал Шалимар с нарастающей тревогой. В настоящий момент Бунньи, стоя на проволоке и размахивая, словно знаменем, своей новой ролью возлюбленной, отклонилась слишком далеко. Она пренебрегала принятыми нормами, а в реальной жизни эти мощные законы могли привести к падению еще быстрее, чем силы гравитации.
– Давай полетим! – крикнула Бунньи, смеясь ему в лицо.
Она утянула его подальше в лес, отдалась ему там снова и на какое-то время заставила его позабыть обо всем на свете.
– Взгляни правде в глаза, – прошептала она. – Женатый или нет, но ты уже вломился в каменные ворота.
Поэты в своих опусах предпочитали называть преданную жену бунньи– прекрасной чинарой, – «кенчен ренье, чхаи шижинджи бунньи», то есть нежно колышущимся, упоительной тенью укрывающим древом, однако в обиходе для девицы брачного возраста существовало другое, двусоставное слово. Одна его часть – бранд– вообще-то означала «вход» или «ворота в помещение», другая – канва– «камень». По довольно забавной причине их объединили в одно, и получились «каменные ворота». Так называли в народе любимую жену.
«Будем надеяться, что эти камни не обрушатся на наши головы», – подумал про себя, услышав ее слова, Шалимар, но не стал говорить этого вслух.

Клоун Шалимар был не единственным, чьи помыслы были сосредоточены на Бунньи. Полковник индийского гарнизона Хамирдев Сурьяван Качхваха с некоторых пор только о ней и думал. Ему исполнился тридцать один, он считал себя духовным наследником древних раджпутов, более того, он полагал, что хоть и не по прямой линии, но связан кровным родством со знаменитыми раджпутскими принцами-воинами из Солнечной династии Сурьяванов и Качхвахов, тех самых, которые в славную эпоху борьбы за независимость, будучи правителями независимых княжеств Мевара и Марвара, попортили немало крови как Моголам, так и британцам. То было время, когда власть в Раджпутане оказалась сосредоточенной в двух неприступных городах-крепостях – Читоре и Мехранге – и легендарные воины-раджпуты, несмотря на малочисленность, одерживали победу за победой: врезавшись в ряды противника, они рубились саблями, крушили черепа булавами и разрывали кольчуги заостренными топориками– чхаунчс хищно изогнутым, как клюв, концом.
Во всяком случае, окончивший военную академию в Англии Качхваха носил пышные раджпутские усы, имел раджпутскую выправку, истинно британский командный голос и являлся начальником расположенного в нескольких милях к северу от Пачхигама военного лагеря, который местные из-за его свойства постоянно увеличиваться именовали не иначе как Эластик-нагар [10]10
Нагар– город, селение ( хинди).
[Закрыть].
Полковник решительно не одобрял подобное название лагеря; будучи солдафоном с головы до пят, он считал, что оно наносит ущерб достоинству вооруженных сил, и, когда год назад принял начальство, пытался заставить всех и каждого употреблять лишь официальное название, но вынужден был отказаться от своей затеи, когда убедился, что все его подчиненные давно позабыли, как он назывался раньше. Себе он тоже придумал имя, переделав свое, Хамир, на английский манер – Хаммер – молот, решив, что оно для него больше подходит. Он даже примерял его на себя, оставаясь один: «Полковник Хаммер Качхваха прибыл в ваше распоряжение, сэр» или: «Бросьте, старина, можете звать меня просто Хаммер». Но и это самонаименование не прижилось, как и в случае с Эластик-нагаром, потому что люди сократили его имя на свой лад и стали называть его Карнайл Каччхва, то есть полковник Черепаха (что соответствовало английскому Тортл или Тортуаз). Это прозвище прилипло к нему намертво, вследствие чего полковнику пришлось отыскать себе для упражнений в словесности более приземленный вариант: «Медленно поспешая, быстрее добежишь, не так ли?» – обращался он к невидимому собеседнику. Или: «Меня зовут Тортл, и характер у меня твердый, как черепаший панцирь». Правда, фразу «Оставим церемонии, дружище, зовите меня просто Тортл» он не отваживался произносить даже наедине с самим собой, так же, как, впрочем, и такую: «Вообще-то меня зовут Тортуаз, но для вас я просто Торто». Склонной к экспериментам судьбе было угодно окончательно испакостить его душевный настрой, и без того сильно пострадавший во время отпуска, когда новоиспеченный полковник прибыл домой в Джодхпур перед новым назначением. Его отец был раджпут той старой закалки, каковым хотелось казаться сыну. Он вручил Хамирдеву в день его тридцатилетия две дюжины золотых браслетов. Качхваха смотрел на них в полном недоумении.
– Женские браслеты? Зачем они мне, сэр? – вопросил он.
– Зачем? – фыркнул, позванивая браслетами, старик. – Если раджпутский воин к тридцати годам все еще остается в живых, мы дарим ему женские браслеты как знак своего разочарования и удивления, – брезгливо ответствовал Нагабхат Сурьяван Качхваха-старший. – Носи, покуда не докажешь, что их не заслужил.
– Доказать надо смертью, что ли? – уточнил сын. – Чтобы заслужить ваше расположение, мне, значит, следует умереть?!
– Само собой, – отозвался отец. Он пожал плечами и ловко цыкнул красной от бетеля слюной в ручную плевательницу, не сочтя нужным пускаться в объяснения, почему он сам не носит подобных браслетов.
В силу этих обстоятельств в округе ни для кого не было тайной, что полковник Качхваха из Эластик-нагара – человек отнюдь не с легким характером. Подчиненные боялись его резких командных разносов, а местные быстро поняли, что с ним лучше не связываться. По мере того как Эластик-нагар разрастался и в Долину прибывали все новые подразделения, а вместе с ними громоздкая военная техника, ружья, снаряжение, легкая и тяжелая артиллерия и бесчисленные грузовики – в таком количестве, что местные прозвали их саранчой, – росла и потребность в дополнительных площадях. Полковник Качхваха своей волей занимал чужие земли, не затрудняя себя ни объяснениями, ни извинениями. Когда же владельцы полей пытались протестовать по поводу мизерной суммы компенсаций, он угрожающе багровел лицом и с возмущением орал:
– Мы же пришли вас защищать, скоты неблагодарные! Мы здесь, чтобы спасти вашу землю, и перестаньте скулить, когда мы, черт возьми, берем то, что нам нужно.
С его аргументацией трудно было спорить, но она почему-то не всегда убеждала жителей. Впрочем, это в конце-то концов было не столь уж и важно. Вне себя от того, что пасть смертью храбрых ему все еще никак не удавалось, полковник пребывал в смятении духа и был раздражителен, словно сыпь. Но вот он увидел Бунньи Каул – и все переменилось, – вернее, могло бы перемениться, если б она не отшила его – решительно, бесповоротно и с презрением.
Полковник сознавал, что Эластик-нагар не пользуется популярностью среди местного населения, однако же непопулярность, по его разумению, вещь противозаконная. Согласно официальной версии, военное присутствие Индии в Кашмире местным населением полностью одобрялось, следовательно, думая иначе, люди нарушали закон, а нарушение закона – это уже преступление. Преступников же полагалось карать, а в таком случае полковнику представлялось вполне справедливым обрушиться на их головы всей мощью законных средств, с применением дубинок– латхии кованых тяжелых сапог. Ключевым словом для понимания подобной позиции являлось слово «неотъемлемый» и все связанные с ним «концепты». Эластик-нагар был неотъемлемой, существенной составной частью усилий Индии, а усилия Индии имели целью «сохранить целостность нации». Целостность следовало уважать, и потому любые выпады против целостности нации следовало считать оскорблением ее чести, а подобное недопустимо. Отсюда следовало, что к Эластик-нагару должно относиться почтительно, испытывать же по отношению к нему какие-либо иные чувства бесчестно и потому противозаконно. Опять же, Кашмир есть неотъемлемая часть Индии как целого, и любые попытки расколоть это целое противозаконны, потому что раскол порождает дальнейший раскол. Непризнание такого подхода есть признак нежелания интегрироваться и, таким образом, эксплицитно или имплицитно ставить под вопрос неоспоримую правоту тех, кто этот подход уже признал. Не признавать значило тайно или явно приветствовать процесс дезинтеграции, то есть распада, а это уже подрывная деятельность. Подобная деятельность, ведущая к дезинтеграции, недопустима и требует немедленных и решительных действий против любого ее проявления – скрытого либо явного. Закрепленная официально, хоть и навязанная силой, популярность Эластик-нагара есть не что иное, как простая и наглядная составляющая интеграционного процесса – даже при том, что, по правде говоря, Эластик-нагар популярен не был. В любом случае, когда правда вступает в противоречие с принципом интеграции, приоритет следует отдавать последней, ибо даже правде непозволительно порочить честь нации. Итак, Эластик-нагар надлежит считать популярным, хотя по сути он таковым не является. Всё очень просто, чего тут непонятного?
Полковник Качхваха полагал себя человеком мыслящим. Он славился удивительной памятью и любил ее демонстрировать. Он мог запомнить двести семнадцать с ходу названных слов в их правильной последовательности, и, когда спрашивали, безошибочно называл слово по его порядковому номеру – скажем, восемьдесят четвертое или сто пятьдесят девятое, – любое из двухсот семнадцати. Он легко выполнял и другие связанные с запоминанием задачки, что среди собратьев-офицеров снискало ему славу человека сверхъестественных способностей. Его знание военной истории и подробностей знаменитых сражений можно было смело назвать энциклопедическим. Он гордился своим информационным багажом и испытывал подлинное удовольствие от своего умения анализировать события четко и последовательно. Проблема зашлаковывания памяти пока что не начала его серьезно беспокоить, хотя держать в голове события каждого прожитого дня, каждый разговор, каждый дурной сон – всё, вплоть до количества тогда-то и тогда-то выкуренных сигарет, – было весьма утомительно. Бывали дни, когда он мечтал забыть обо всем, что знал, столь же пламенно, как осужденный на смерть мечтает о помиловании. Бывали и другие, когда он серьезно задумывался о возможных последствиях подобного рода нагрузки на память, особенно в морально-этическом плане, но он был прежде всего солдат и потому гнал от себя такие мысли и занимался тем, чем положено заниматься солдату.
Полковник также полагал себя человеком с чувствительной душой, и потому неблагодарность жителей Долины сильно давила на его психику. Четырнадцать лет назад по высочайшей просьбе улепетывавшего махараджи, Льва Кашмира, индийские войска оттеснили кабаилийских мародеров, но недалеко от пакистанской границы застопорились, оставив под контролем бандитов на севере несколько высокогорных областей, таких как Гилгит, Ханза и Балистан. Раздел де-факто, произошедший вследствие решения о приостановке наступления, проще всего было бы назвать большой ошибкой, не будь подобная оценка противоправной. Почему армия вдруг остановилась? Она остановилась потому, что так было решено, а само решение было продиктовано реально сложившейся на месте ситуацией, – следовательно, его надлежало считать правильным и единственно приемлемым решением с опорой на принцип интеграции. Экспертам, просиживающим штаны в кабинетах, теперь легко рассуждать и осуждать тот шаг, ведь они не были тогда на линии огня. Решение было правильным, потому что оно было принято. Любые другие возможные решения приняты не были, а следовательно, они были неверные, их и не нужно было принимать, и совершенно правильно, что их не приняли.
Линия раздела существует де-факто, значит, признавать ее необходимо, и вопрос, должна ли она существовать или нет – неуместен. Многие кашмирцы по обеим сторонам демаркационной линии не считали нужным ее замечать и пересекали ее в обоих направлениях, когда взбредет в голову. Их непослушание полковник расценивал как одну из форм проявления неблагодарности, ибо они показывали, что им плевать на тяготы жизни солдат у линии раздела, плевать на лишения, испытываемые солдатами ради сохранения и защиты линии раздела. Между тем люди там яйца себе отмораживали, а бывало, и погибали – кто от холода, кто подставившись под пулю пакистанского снайпера, умирали прежде, чем успевали получить в дар женские браслеты от своих папаш, – умирали, защищая идею свободы.
Если люди мучаются ради вас, если они умирают за вас, то вы обязаны уважать их муки, и пренебрегать наличием демаркационной линии, которую они охраняют, неуважительно. Подобное поведение унижает достоинство армии, не говоря уже о том, что угрожает национальной безопасности, а потому противозаконно.
Возможно, многие кашмирцы – и не только мусульмане, но и мясоеды-пандиты – бунтари от природы; возможно, весь народ этой долины заражен духом неповиновения. В таком случае с этим следует разобраться самым решительным образом. Придя в результате своего последовательного анализа к подобному умозаключению, Качхваха испытал смутное недовольство собою, несмотря на то что вывод принадлежал лично ему, а в выстроенной им безукоризненной логической цепочке ему мерещилась некая трагически-прекрасная неизбежность. Ведь он был человеком глубоких чувств, человеком, ценившим красоту и нежность, боготворившим прекрасное и, соответственно, испытывавшим к красотам Кашмира глубокую любовь, – вернее, желавшим ее испытывать, еще точнее – человеком, который любил бы, если б только ему не препятствовали в этом ежедневно и ежечасно, человеком, способным стать верным и преданном возлюбленным, если б мог рассчитывать на взаимность.
Ему было холодно и одиноко. Посреди всей этой красоты он тонул в безобразной трясине. Не будь это противоправно, он бы так и сказал вслух: «Да, Эластик-нагар – это не что иное, как большая помойка». Однако ж Эластик-нагар не мог считаться помойкой, потому как по определению, согласно закону и прочая и прочая, ему полагалось быть военным лагерем, условно именуемым Эластик-нагар. Он забивался тогда в потаенно-мятежный уголок своего сознания и там шептал в сложенные лодочкой ладони: «Эластик-нагар – грязная свалка».
Эластик-нагар действительно был и оставался грязной свалкой. Эластик-нагар – это скопище колючей проволоки, мешков с песком и отхожих мест, это плевки, железо, брезент и кислая вонь в казармах. Клякса на безукоризненно выполненном свитке. Отбросы на зеркально-чистом озере. И здесь не было женщин. Не было здесь женщин. И мужчины шалели. Они онанировали, они, случалось, нападали на таких же шалав из местных, а когда вырывались в Сринагар, то стены видавших виды борделей ходили ходуном от их ненасытной похоти. А солдат в Эластик-нагаре с каждым днем становилось все больше, и некоторых из них отправляли высоко в горы, туда, где для удовлетворения насущной потребности не то что женщин, даже коз не было, так что ему грех было жаловаться, так что и в потаенном мятежном уголке своего сознания, не существующем по определению, ему следовало гордиться своей судьбой. Он и гордился. Он – важная персона, он человек чести, а вокруг вон сколько этих чертовок, – отчего же они сторонятся его, неженатого, светлокожего и из уважаемой семьи, лично не имеющего никаких предубеждений религиозного толка, человека абсолютно светского? И потом, речь, в конце-то концов, не идет о браке, но почему бы не приветить своего защитника и покровителя, не подарить ему пару поцелуев, не приласкать, черт побери?!
Все это напоминало ему ситуацию в фильме «Великолепная семерка», когда Хорст Буххольц узнаёт, что деревенские жители, нанявшие его и его товарищей для защиты деревни, прячут от них своих женщин. Только здешних женщин никто ни от кого не прятал. Они просто глядели сквозь тебя своими синими, как лед, своими золотистыми, своими изумрудно-зелеными глазами инопланетных существ. Они проплывали мимо тебя на лодках– шикарах, скрывая под своими алыми, фиолетовыми и ярко-голубыми платками черное или рыжее пламя волос. Они сидели на корточках на носах своих узких лодчонок, словно чайки, высматривающие крупную рыбу, и глядели на тебя так, будто ты – планктон. Они тебя в упор не видели. Ты для них не существовал. Как они могли думать о том, чтобы целовать, обнимать и ласкать того, кто не существует? С таким же успехом можно было представить, будто ты обитаешь на планете, которой нет, на планете-тени. Ты – существо иного мира! Твое пребывание в этом мире может быть подтверждено, лишь если оно каким-то образом материализовано. В глазах женщин такой материализацией был Эластик-нагар, и поскольку они находили его безобразным (хотя это мнение и было противозаконным), они полагали, что невидимые люди, населяющие его, тоже безобразны.
Он безобразным не был. Он хрипло лаял, как английский бульдог, но сердце имел хиндустанское. Не женат в тридцать один год – но это еще ни о чем плохом не свидетельствовало. Многие мужчины не умели выжидать, но только не он. Он был полон решимости выдержать. Его подчиненные ломались и шли в публичные дома, только он был сделан из более прочного материала, и он берег свое мужское семя, священное семя продолжателя рода. Оно требовало суровой самодисциплины, его следовало держать в себе и не выпускать за пределы тела, которое должно было служить ему укрепленной и защищенной со всех сторон крепостью – как Бунд в Сринагаре. Когда полковник обходил эту стену со стороны реки Джелам, ему казалось, что он обходит дозором свою собственную душу.
Его буквально разрывало на части от желания, от дьявольской потребности выплеснуться, но он крепился. Он задраил люки и никому не выдал свою великую тайну.
Это была его совсем особенная тайна, ее возникновение он связывал со всем нечистым, что накопилось внутри: у него перепутались все органы чувств. Где-то внутри произошел сбой. Ощущения стали предательски ненадежны, словно зыбучие пески. Оно и понятно: когда бросаешь все силы на укрепление одного из флангов, то остальные ослабевают, и прорыв неизбежен. Он бросил всю силу воли на подавление желаний – и вот результат: ему стали изменять ощущения. Он с трудом мог бы подобрать слова, чтобы описать эти сбои, эти помутнения рассудка. Он слышал цвета; он ощущал на вкус чувства. Ему приходилось следить за своей речью, чтобы не спросить, к примеру: «Что это еще за красный шум?» – или не устроить разнос за то, что грузовик нестройно поет (имея в виду, что он плохо замаскирован). Он был в полном смятении. Его ненавидели, это было противозаконно, но никого не останавливало. Никто не вспоминал о мародерах-кабаилисах, зато о солдатах его гарнизона, об их насилиях и жадности говорили все. Говорили, потому что все это происходило у них на глазах. Они видели перед собой оккупантов, которые ели их пищу, уводили их лошадей, отнимали их землю, били их детей, а иногда и убивали взрослых. Ненависть была горькой на вкус, как цианид в миндале. Говорят, если съесть одиннадцать ядовитых зерен миндаля, можно умереть. Он глотал ненависть день за днем и все еще был жив, но с головой происходило что-то нехорошее. Чувства менялись местами, как играющие дети. Их названия утратили всякий смысл. Что такое слух? А вкус? Он уже не мог разобраться в этом. Для него, командира двадцатитысячного гарнизона, цвет золота отдавался в ушах басистым гудением тромбона.
Ему требовалась поэзия. Поэт сумел бы объяснить ему самого себя. Но он – солдат, а солдату не пристало интересоваться всякими там газелями [11]11
Газель– двустишная строфа восточного стихосложения с постоянной рифмой на конце каждого двустишия.
[Закрыть]. Его подчиненные, узнай они о том, что ему потребовались стихи, сочли бы его слабаком. Только он не слабак, просто хорошо собой владеет.
А внутреннее напряжение все нарастало. Враг – где он? Подайте его сюда, он, полковник Качхваха, готов его встретить. Ему требовалась война…
И тут он встретил Бунньи. Это было как первая встреча Кришны с Радхой, всего лишь с тою разницей, что он ехал на армейском джипе, не был темно-синего цвета и не ощущал себя богом, а она не обратила на него ни малейшего внимания. В остальном все совпадало: жизнь стала иной, мир осветился, стал нереальным и полным тайны. Бунньи звучала как стихи. Его джип обволокло облаком темно-зеленого шума. Она была с подружками – Химал, Гонвати и Зун, – опять же словно Радха, окруженная девушками-молочницами – гопи. Качхваха, усердный служака, знал о них всё. Зун Мисри, девушка с оливковой кожей, хвасталась тем, что в ней течет кровь египетских цариц, хотя на самом деле была всего лишь дочерью деревенского плотника, Большого Мисри, как его прозвали за огромный рост и могучее телосложение, а Химал и Гонвати – бесслухими дочерьми Шившанкара Шарги, обладателя самого красивого голоса в округе. Вчетвером они репетировали танец для одной из традиционных пьес. Было похоже, что они и действительно представляли пляску гопи-молочниц, так что и это соответствовало представившейся ему мифологической сцене. Качхваха ничего не понимал в танцах, танец он ощущал как благоухание, а Бунньи переливалась изумрудом. Полковник направлялся на собрание совета деревенских старейшин – панчаята, чтобы обсудить деликатные вопросы поставок и подрывных настроений, но глас насущной необходимости заставил его остановить джип и выйти.
Танцовщицы тоже остановились и повернулись к нему. Он не знал, что делать. Он взял под козырек. Ошибочный шаг. Его восприняли плохо. Он сказал, что хочет поговорить с ней один на один. Слова прозвучали будто команда, и ее подруги рассыпались, как разбитое вдребезги стекло. Она осталась. Музыка, грохотанье грома – это она. И его голос, вонючий, как собачье дерьмо. Он еще не успел рта раскрыть, а она уже всё поняла, она увидела его голым, и он невольно прикрыл руками стыдное место.
– Ты афсар Качхваха Карнал, – произнесла она.
Он залился краской.
– Да, биби [12]12
Биби– почтительное обращение к женщине ( урду).
[Закрыть], я офицер.
Он… ждал всю жизнь… он всю жизнь закупоривал себя – спасался от… теперь он ужасно жаждет – надеется… горячо надеется…
Качхваха смолк, и тут она взорвалась:
– Хочешь арестовать? Я что – тоже заговорщица? Может, отхлещешь по пяткам или током будешь пытать? Может, снасильничаешь? Я представляю угрозу для общества? Значит ли это, что ты предлагаешь мне свою защиту?
У ее презрения был запах весеннего ливня. Ее голос звенел серебром.
– Нет, биби, всё совсем не так.
Но она поняла всё так, догадалась, что его прямо распирает от постыдного желания.
– Отвали, – бросила она, и метнулась в лес, и побежала прочь, перепрыгивая через ручьи, все дальше и дальше от того места возле Пачхигама, где стоял Качхваха посреди руин крепости, возведенной им ради самосохранения.
По возвращении в Эластик-нагар он дал волю ярости и принялся строить планы захвата и подавления Пачхигама. Деревня обязательно ответит за оскорбительное поведение Бунньи Каул, посмевшей влепить словесную пощечину старшему офицеру.
В те дни борьба поднимала голову, и ее решено было подавить в зародыше посредством превентивных мер. Кашмир – для кашмирцев?! Это ж надо додуматься до такого маразма! Крошечная долина с населением не более пяти миллионов человек желает сама решать свою судьбу. Ишь чего захотели! Эдак можно черт-те до чего дойти. Если Кашмир для кашмирцев, то почему бы и не Ассам для ассамцев, а Нагаленд – для нагов? Можно еще и дальше пойти: почему бы не требовать независимости для отдельно взятого города, деревни, улицы или дома? Почему не объявить независимой спальню или нужник? Почему бы не очертить возле ног круг на земле и не объявить себя Самостаном? Пачхигам – не единственная мятежная деревня, в этой коварной сепаратистской долине они все такие. Он, полковник Качхваха, до сих пор с ними миндальничал. Ничего, теперь они у него попляшут. Подозреваемые у него все на примете. Да-да, теперь он возьмется за дело всерьез. Тем более, что в Пачхигаме у него есть свой информатор, опытный и вполне надежный шпион, более того: он почти каждый день завтракает не где-нибудь, а прямо в доме у Бунньи Каул.

В один прекрасный день в дом Каулов заявился пандит Гопинатх Раздан, невероятно тощий господин с глубокой морщиной меж бровей, с красными, выдающими пристрастие к бетелю деснами и вечно недовольным видом. В руке он держал атташе-кейс, набитый учебниками санскрита, и письмо из Министерства образования. Одет он был по-европейски, в дешевенький ворсистый пиджак с поднятым воротом, ибо дул пронизывающий ветер, и в серые шерстяные брюки с кофейным пятном на правой штанине чуть повыше колена. Он был довольно молод, примерно одного возраста с полковником Качхвахой, но приложил немало усилий, чтобы выглядеть посолиднее. Сощурив глаза и выпятив губы, он опирался на сложенный зонт, у которого одна спица явно была сломана. Неодобрительное выражение лица усугублялось тем, что он сильно замерз. Бунньи он не понравился с первого взгляда, и, прежде чем он успел открыть рот, она выпалила:
– Вы наверняка ошиблись домом. Здесь вам делать нечего.
Но ошиблась на этот раз она. Как раз здесь-то у него и было главное дело.
– Всё в полном порядке, уверяю вас, – произнес он и, дернув шеей, выпустил изо рта длинную красную струю жеваного бетеля и слюны.
Несмотря на дикий англо-сринагарский выговор, при котором сглатывались не только окончания, но и согласные в середине слова, говорил он не терпящим возражений тоном:
– Имею чесь преессвься – я здесь по приглшению вашво батюшк.
Тут из кухни появился благоухающий луком и чесноком сам Пьярелал Каул и, опасливо косясь на дочку, суетливо залепетал:
– Ох, дорогой братец, это вы! По правде говоря, я вас ожидал в лучшем случае на следующей неделе! Боюсь, своим появлением вы застали дочь мою врасплох.
– Если бы я точно не знал, что это ваш дом, то мог бы решить, что попал на кухню к муслман, – замогильным голосом произнес Гопинатх, неодобрительно принюхиваясь.
Проглоченные окончания и сжеванные слова вызвали у Бунньи неудержимое желание расхохотаться, но от нахлынувшего возмущения это желание тотчас пропало.
Пьярелал сердечно хлопнул Гопинатха по спине, отчего городского доходягу слегка перекосило, – похоже, от отвращения. Пьярелал меж тем, жизнерадостно хохотнув, пустился в объяснения:
– Понимаешь, у нас в Пачхигаме кулинария общая. С тех самых пор, как меня укусила пчела гастрономии, я потихоньку-полегоньку ввожу элементы нашей традиционной индийской стряпни в меню мусульманского пиршества – вазваана. Понимаю, это довольно радикальный шаг, но для нас он имеет важное, можно сказать символическое, значение. К примеру, мы предлагаем нашим клиентам запеченные без чеснока ребрышки кабарги; в нашем меню теперь даже значатся блюда с душистой асфодеей и квашеным молоком, а для того чтобы все восприняли мои новшества, я решил, что будет только честно, если я и сам начну сдабривать свою пищу чесноком и луком, как это делают наши братья-мусульмане.