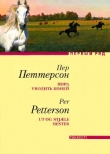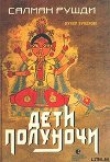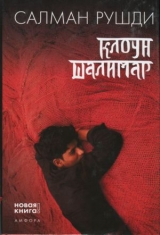
Текст книги "Клоун Шалимар"
Автор книги: Ахмед Салман Рушди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
По иссиня-бледному лицу Гопинатха прошла легкая судорога.
– Вижу, – выдавил он с трудом, – что здесь у вас многие барьеры перестали сущтвать. Тут, увжаемый, мне будет над чем потрдись.
Бунньи слушала их разговор со все возрастающим недоумением, и наконец терпение ее лопнуло:
– «Потрдись»? Послушайте, отец, что это за птица к нам заявилась из города и сразу собирается над нами «потрудиться»?
Тут-то и выяснилось, что Гопинатх – новый учитель. Пьярелал, опасаясь реакции дочери, утаил от нее, что решил отказаться от традиционного занятия наставника – обучения детей – и целиком посвятить себя кулинарному искусству. С годами гастрономия занимала все большее место в его жизни. Именно на кухне, где когда-то безраздельно царствовала Пампуш, он ощущал ее присутствие с особенной силой; в кипящих соусах их души сливались воедино, в мясе и овощах для него вновь оживали исчезнувшие блаженные дни их совместной жизни. Это Бунньи понимала, она знала, что его кулинарная страсть поддерживала иллюзию, будто Пампуш рядом, и когда они ели приготовленную отцом пищу, то вместе с нею вкушали и ее любовь. Но тут было и нечто другое, чего Бунньи не удосужилась заметить, ибо дети воспринимают родителей как людей, исключительно для этой роли предназначенных, и гораздо меньше, чем следовало бы, интересуются личными мечтами и запросами самих родителей. Она не заметила, как для Пьярелала увлечение гастрономией мало-помалу переросло в нечто большее, чем просто терапия. Увлечение стряпней неожиданно разбудило в нем желание творить, и в Пачхигаме, деревне потомственных актеров, сделавших кулинарию своей второй профессией, его растущее гастрономическое мастерство позволило ему претендовать на первые роли. Все чаще и чаще при подготовке к знаменитому пиршеству из тридцати шести блюд ему отводилось место ведущего. Его плов с шафраном слыл чудом гастрономического искусства, мясные шарики гхуш-табаполучались нежными, как щечки ребенка. Устроители свадеб требовали, чтобы дам-алу [13]13
Дам-алу– картофель, томленный с горохом.
[Закрыть]и цыпленка, начиненного миндалем, подавали гостям только в его исполнении. Всем хотелось отведать приготовленные именно им душистый домашний сыр с фенхелем и помидоры, стебли лотоса с подливой, тушеное мясо и напоследок насладиться мороженым– фирнии кардамоновым чаем. Хозяйки осаждали его, стараясь выведать рецепты деликатесных блюд, и он, добрая душа, откровенно принялся было выбалтывать им свои секреты, пока на него не напустились и не заставили умолкнуть коллеги-повара. После их проработки он изобрел стандартную фразу, которой потчевал всех охотниц за секретами его гастрономических изысков. «Все дело в гхи– чистом топленом масле, дорогие женщины, – говорил он, посмеиваясь. – Кладите побольше натурального, настоящего гхи– вот вам и весь секрет».
Естественно, Бунньи знала о растущей популярности отца на новом поприще, но ей и в голову не приходило, что это приведет к столь крутому, кардинальному изменению в его карьере. Теперь, когда с появлением Гопинатха это раскрылось, она от неожиданности пришла в такую ярость, что уже не выбирала слова.
– Ах, так! – выкрикнула Бунньи прямо в лицо растерянному отцу. – Тебе, значит, разонравилось учить? Тогда знай, что мне разонравилось учиться! Если мой отец, ученый философ, предпочел жарить цыплят, то, может, и я найду себе какое-нибудь другое занятие. Кому интересно быть дочерью? Стану-ка я, пожалуй, чьей-нибудь женой!
Она себя не помнила, из нее выплеснулась та неуправляемая бесшабашность, которая с некоторых пор стала так пугать ее клоуна Шалимара. Когда она увидела несчастное лицо отца, когда заметила, как навострил уши Гопинатх, то немедленно пожалела о том, что причинила боль человеку, беззаветно любившему ее со дня появления на свет, да к тому же позволила себе сделать это в присутствии постороннего. Откуда ей было знать, что пандит Гопинатх Раздан, дальний родственник ее отца, был в то же время секретным агентом, засланным в Пачхигам для выявления подозрительных элементов, тем более что скопище актеров всегда служило естественной средой для возникновения мятежных настроений. Гопинатху было приказано докладывать о результатах своей деятельности непосредственно полковнику Качхвахе, чтобы тот, в свою очередь оценив информацию, дал рекомендации о принятии соответствующих мер. Ни одна живая душа в Пачхигаме не догадывалась о том, кто есть Гопинатх на самом деле: личина, которую он носил, и без того была настолько одиозно-непривлекательна, что трудно было себе представить, чтоб за нею могло скрываться нечто еще более отвратительное.
Ученики, с которыми Гопинатх, в отличие от добродушного, восторженного Пьярелала, был суров и неумолим, прозвали его Батта Расашуд. «Батта» в просторечии означало то же, что и пандит, расашудом же называли горькую траву, которую давали детям для избавления от глистов, так что прозвище это в целом следовало понимать как Господин Касторка. Гопинатх узнал о кличке, которой его наградили дети, ибо учителям рано или поздно всегда становятся известны их прозвища, и характер его сделался еще несноснее. Он поселился в помещении над классной комнатой, и по ночам оттуда доносились звуки разбиваемой посуды и громкие проклятия, так что по деревне пронесся слух, будто господин учитель одержим злым духом, который в ночные часы оставляет свою земную оболочку и мечется по комнате, словно попавшая в силки птица.
Пьярелал считал себя в какой-то мере ответственным за родича и по доброте сердечной решил, что капля дружеского участия и семейная обстановка окажут смягчающее воздействие на его нрав. Бунньи же решительно придерживалась противоположного мнения. «Не бывает, чтобы прокисшее молоко опять стало парным», – говорила она. Несмотря на ее протесты, Пьярелал заверил Гопинатха, что тот всегда желанный гость в их доме, так что Бунньи волей-неволей приходилось завтракать, а частенько и ужинать в компании тайного соглядатая. Гопинатху только того и надо было, поскольку очевидный интерес полковника к Бунньи привел к тому, что информация о ней составляла важный компонент его систематических рапортов Качхвахе. Возможность частых встреч с Бунньи в домашней обстановке доставляла Гопинатху несказанное удовольствие, и, как и следовало ожидать, через весьма короткое время сей неприступного вида господин оказался у нее в плену и потерял голову от любви. Его пристрастие к бетелю угрожающе возросло, но и оно не смогло умерить его неодолимую тягу к этой четырнадцатилетней девочке. В маленькой тесной классной комнате одновременно обучались разбитые по группам дети всех возрастов, и Гопинатх сразу приметил, что Бунньи не относится к числу прилежных учениц. Она была сообразительна, но не хотела ничего делать, – отчасти это можно было объяснить естественным для ребенка столь высокоинтеллектуального родителя, как Пьярелал, протестом против навязывания знаний, а отчасти желанием таким путем выразить свое недовольство тем, что отец отказался от своей профессии. Главным же фактором все-таки явилось свойственное девочкам с рано проснувшейся чувственностью и несформировавшимся, еще ребяческим восприятием жизни завышенное представление о себе, о своих возможностях заполучить и подчинить себе любого мужчину. Нетрудно представить, как столь уверенная в своей неотразимости девчушка смогла вскружить голову бедняге полковнику, у которого и без того мозги набекрень, однако Гопинатх считал себя более стойким. Быстрота, с которой он сдался, вызвала в нем чувство отвращения, обычно приберегаемое им по отношению к больным и заразным. Что же касалось ее любви к Номану Шер Номану, называвшему себя клоуном Шалимаром, то это доводило господина учителя до белого каления и оттеснило на второй план его основное задание – проследить за деятельностью клоунского брата, третьего сына Абдуллы и Фирдоус. Главной его целью стал Номан, его Гопинатх решил уничтожить в первую очередь.
Хамид и Махмуд, старшие сыновья-близнецы Абдуллы и Фирдоус, в свои девятнадцать лет оставались ребячески-наивными, жизнерадостными простаками, не помышлявшими ни о чем другом, кроме как половчее насмешить друг друга. Комические интермедии, разыгрываемые труппой Абдуллы, были словно созданы специально для них. Этот воображаемый мир так захватил их, так увлекала их работа над комичными образами болтливых принцев, беспечных богов, трусливых великанов и влюбленных демонов, что реальный мир перестал для них существовать и сделал их, вероятно единственных во всем Кашмире, равнодушными к красотам родного края.
Третий из сыновей, Анис, вырос молчаливым и хмурым, словно не ждал от жизни ничего хорошего. Во время представлений он выполнял все клоунские трюки и подавал нужные реплики, но проделывал все это с таким застывшим и грустным лицом, что зрительские мнения по поводу него разделились: у большинства неподвижная, печальная физиономия вызывала восторг, но были и другие, кому его грусть бередила душу: она проникала в самое сердце, где они прятали горести собственной многострадальной жизни, и вызывала чувства, не предусмотренные комическим сценарием, потому когда Анис покидал сцену, эти зрители вздыхали с облегчением. К семнадцати годам у Аниса неожиданно открылся новый талант. Руки его как бы сами собою стали творить маленькие чудеса: из бумаги он вырезал цепочки силуэтов, из сигаретной фольги создавал фигурки фантастических существ; деревяшки в его руках превращались в решетчатых совушек, вложенных одна в другую.
Именно этот его талант вызвал к нему интерес со стороны главы отряда местных инсургентов, и в одну звездную ночь двое бойцов с замаскированными лицами доставили его на лесистый холм, где все еще стояла опустевшая хижина Назребаддаур. Здесь невидимый человек спросил, не желает ли он научиться делать бомбы. Анис безразлично сказал «да». И добавил, что тогда, по крайней мере, его печальная жизнь не окажется слишком долгой. Он произнес это со столь мрачным выражением лица, что спрятавшегося в густой тени главаря совершенно некстати разобрал смех, – он попытался сдержаться, но преуспел в этом лишь отчасти.
В день своего разоблачения Бунньи вместе с подружками, как обычно, репетировала танец на лужайке возле Мускадуна.
– Смотрите-ка, – сказала дочка плотника Зун, указывая на каменистый выступ неподалеку, – Господин Касторка собственной персоной.
И правда, там, постукивая зонтиком по камню, стоял Гопинатх. Бунньи взглянула на него и вдруг увидела его без маски, увидела его истинное лицо. «Берегись, – сказала она себе, – да он совсем не жалкий тупой ворчун, он очень опасный человек». Но ее открытие запоздало. Гопинатх уже видел все, что хотел. Он выследил Бунньи и Шалимара. Он поднялся вслед за ними к залитой лунным светом поляне в глубине леса. Все было запечатлено на восьмимиллиметровой пленке кинокамеры и уже проявлено, так же, как и обычные фотографии. Они не заподозрили, что за ними наблюдают, не слышали его. Зато Гопинатх… он видел больше чем достаточно. И вот теперь он стоял перед Бунньи уже без маски. Плечи его распрямились, голос окреп, даже лицо разительно переменилось: лоб разгладился, щеки надулись, очки оказались не нужны и потому были сняты. И он, казалось, стал моложе. От него веяло холодным спокойствием и абсолютной уверенностью в своих силах, – словом, перед нею стоял человек, с которым шутки плохи.
– Твой парень – мусор, он тебя недостойн, – громко и отчетливо произнес Гопинатх. – И поганые вещи, которые ты с ним вытворяла, ни одна приличная девушка себе бы не пзволила.
«Недостойн», «пзволила» – по крайней мере, англо-сринагарский выговор оказался у Гопинатха его собственным. Зун, Гонвати и Химал замерли от ужаса и любопытства.
– Сейчас ты будешь злиться на меня, но позже, когда мы поженимся, думаю, тебе будет приятно иметь возле себя человека солидного, а не этого развратного мальчишку.
– Что вы такое наделали? – воскликнула, не веря своим ушам, Бунньи.
– Я положил конец греху, – был ответ.
Бунньи растерянно молчала. Подружки окружили ее плотным кольцом, прильнули к ней, своими телами прикрыв Бунньи от злодея.
Это была катастрофа.
– В настоящий момент панчаят собрался на экстренное заседание, чтобы рассмотреть представленные мной доказательства, – продолжал Гопинатх. – Сарпанч, твой отец и прочие вскоре решат, что с тобой делать. Конечно, ты опозорена, ты очернила себя и свое имя, и виновата в этом ты сама, но я сообщил им, что согласен восстановить твою честь, взяв тебя в жены. У твоего отца нет иного выхода. Где он отыщет другого такого же великодушного человека, который согласится взять в жены падшую женщину? Сейчас покайся, благодарить будешь потом, когда опомнишься. Твой любовник – человек конченый, на нем позорное клеймо соблазнителя и негодяя, и я его вычеркиваю из жизни – вот так, – он щелкнул пальцами, – так же следует поступить и тебе, и ты это непременно сделаешь, когда примешь единственное, что тебе осталось, а именно – начнешь жить вместе со мной.
«Покайся… будешь благодарить, когда опомнишься…» – сформулировав таким необычным образом предложение руки и сердца, преобразившийся Гопинатх не стал дожидаться ответа от предмета любви, а прошел вдоль берега и с невозмутимым видом уселся недалеко от девушек. На самом же деле он прекрасно сознавал, что начальство смешает его с грязью: мало того, что он разоблачил себя, он к тому же ухитрился вызвать всеобщую ненависть сельчан Пачхигама. Он провалил задание, ему придется немедленно уйти с должности учителя и уехать, и его начальникам теперь будет гораздо труднее внедрить его в другую деревню: люди, опасаясь шпионов и предателей, будут настороже. Из-за Бунньи Гопинатх поставил на карту свою карьеру разведчика, он готов был принести в жертву всё ради того, чтобы заполучить в жены женщину, которая никогда не ответит ему взаимностью, более того – будет ненавидеть его за свой позор и разбитую любовь. Гопинатх глядел на быстро бежавшие воды и размышлял о трагической власти желания над человеком.
Над деревней нависло предчувствие беды. Фруктовые сады, шафранные поля и рисовые плантации опустели; все, кто обычно в это время суток трудился на них, побросали заступы, лопаты и собрались возле дома Номанов, где заседал совет старейшин. Меж взрослых сновали туда-сюда босоногие ребятишки, пронзительно выкрикивая всякие небылицы про страшное наказание и самоубийство. Бунньи и ее подружки стояли обнявшись, тесно прижавшись друг к другу, и из их маленькой группы то и дело вырывались громкие стоны и причитания. Даже домашние животные инстинктивно чувствовали, что случилось что-то неладное. Козы и коровы, собаки и гуси вели себя тревожно и беспокойно, как иногда бывает с ними перед землетрясением. Пчелы принялись жалить кого ни попадя, жаркое марево сгустилось над деревней, и гром зарокотал среди ясного неба. Вот появилась Фирдоус Номан. Тяжело дыша, она неуклюжей рысцой направилась к Бунньи, на бегу выкрикивая ругательства в адрес иуды Гопинатха.
– Чирей! – вопила она. – Гад копченый! Задница вонючая! Хрен с ноготок! Баклажан засушенный!
Предмет ее гнева, этот захрбад, этот пидор, этот господин с вонючей задницей и кучхуромс ноготок, этот ван-джан-хачхи, сидел как ни в чем не бывало, ни один мускул не дрогнул на его лице, он даже не обернулся.
– Ватталнат-Гопинатх! [14]14
Народно-этимологизированное, основанное на звукоподобии прозвище, обозначающее человека злого, подлого.
[Закрыть]– выкрикнула напоследок Фирдоус.
Дети, а вслед за ними вскоре и все собравшиеся возле дома сарпанча, вся деревня подхватила ее крик:
– Ватталнат-Гопинатх! Чирей, баклажан засушенный! Ватталнат, пошел в зад! – неслось отовсюду.
– И ты тоже хороша, поганка маленькая! Любови ей, видишь ли, захотелось! – сердито, но уже вполголоса сказала Фирдоус, обращаясь к Бунньи. – Давай, пошевеливайся. Я отведу тебя в дом отца, где ты и будешь сидеть, пока не решат, что с тобой делать.
И Бунньи в сопровождении разгневанной мамаши своего любимого безропотно зашагала к дому.
– Где Номан? – жалобно спросила она.
– Заткнись! – рявкнула Фирдоус. – Это не твое дело! – И затем быстрым шепотом сообщила: – Братья увели его в горы, в Кхелмарг, чтобы он не вздумал отсечь пандиту Гопинатху Раздану его свинячью башку.
Бунньи отреагировала пылкой и, принимая во внимание собственную и без того запятнанную репутацию, весьма непристойной тирадой:
– Они не посмеют заставить меня выйти замуж за этого змея. В первую же ночь, как он заснет, я отрежу ему кучхур и засуну вместе со всем остальным в гадкий присосок, который у него вместо рта.
Фирдоус со всего размаху ударила ее по лицу.
– Ты сделаешь как тебе велят, – сказала она. – А это тебе за непотребные слова, я такого не потерплю.
Ни Бунньи, ни ее подружки не осмелились напомнить разъяренной Фирдоус о том, что первые непотребные слова в тот день были произнесены ею самой.
За закрытыми дверями гнев Фирдоус моментально остыл. Она стала поить девушек солоноватым розовым чаем.
– Мой паренек тебя любит, – сказала она, – и хотя ты вела себя недостойно, любовь для меня вещь не последняя.
Часом позже в двери постучали. Юный посланец сообщил, что панчаят вынес решение и им велено явиться. Химал, Гонвати и Зун сказали, что пойдут вместе с Бунньи, и Фирдоус не стала возражать. Все вместе они направились к дому Абдуллы. На высокой лестнице их ожидали члены совета старейшин. Лица их были торжественно-суровы. Клоун Шалимар в окружении братьев уже стоял перед ними, и сердце Бунньи упало при виде него. Лицо его было искажено злобой, никогда прежде она не видела его таким. Ей стало страшно, но хуже было другое: впервые в жизни это лицо не показалось ей красивым. На маленькой площадке возле лестницы собралась вся деревня, и при появлении Фирдоус с девушками все разговоры разом прекратились. Пандит Пьярелал Каул и Абдулла стояли рядом. Оба отца были мрачнее тучи. «Я пропала, – подумала Бунньи. – Они собираются отдать меня этому гаду. Вон он, сидит себе на берегу, холодный, как рыба, и ждет, когда ему подадут меня на серебряном подносе, – и это меня, Бунньи, которую ему бы и в глаза не видать, кабы не его подлое коварство!»
Она ошиблась. Первым говорил сарпанч, затем Пьярелал, а следом за ними и все остальные члены панчаята: плотник Большой Мисри, певец Шарга и старый, худой учитель танцев Хабиб Джу. Говорили коротко, но их заключение было единодушным. Оно сводилось к следующему. Дети провинились, но это их дети, и им следует помочь. Их поведение заслуживает самого сурового порицания; они поступили неразумно, необдуманно, они нарушили законы приличия и горько разочаровали родителей, но всем известно, что они хорошие, добрые дети. Абдулла тут к месту упомянул о кашмирияте – особом чувстве кровного единства всех кашмирцев, которое помогает преодолевать любые расхождения.
– В большинстве поселений актеров, представляющих комические пьесы – бханд патхер, – живут одни мусульмане, – говорил Абдулла, – меж тем как Пачхигам – деревня смешанного состава: здесь и хиндуистские семьи, такие как Каулы, Мисри, и замечательный певец, известный не по имени, а по местному прозвищу Шарга – за его длинный журавлиный нос, и даже парочка танцоров– яхуди. Так что, – в заключение своей речи сказал Абдулла, – мы призваны блюсти не только кашмирское, но и свое собственное, пачхигамское, единство. Все мы здесь в первую очередь братья, а не индусы и мусульмане. Двое кашмирцев из Пачхигама желают пожениться? Что тут такого? Обе семьи браки по любви одобряют, так пусть себе дети женятся. Во время брачной церемонии соблюдем обычаи обеих сторон, только и всего.
Когда же пришла очередь Пьярелала, он добавил, что, оберегая любовь детей, человек защищает то лучшее, что есть в нем самом.
Толпа приветствовала решение радостными криками, Шалимар засиял, все еще боясь верить нежданному счастью, а Фирдоус, подойдя к Абдулле, прошептала:
– Если бы ты принял иное решение, я бы прогнала тебя из своей постели.
Позже, когда они уже лежали в темноте на той самой постели, Фирдоус, придя в более уравновешенное состояние, раздумчиво сказала:
– Времена меняются, и дети уже не такие, как мы. Наше поколение было более открытым, что ли, мы были все как на ладошке. С нынешними все непросто: на поверхности – одни тени, а что в глубине – не разобрать. Они не всегда такие, какими кажутся, а иногда даже не такие, какими сами себя считают. Может, так оно и должно быть, потому что теперь времена уж больно ненадежные.
Двух членов панчаята – плотника Мисри и певца-баритона Шаргу, – силой не уступавших самому Абдулле, отрядили на берег Мускадуна, с тем чтобы немедленно выставить за пределы деревни Гопинатха Раздана (опасаясь излишнего проявления насилия, Абдулла запретил своим разгневанным сыновьям участвовать в этой операции), однако к тому времени, когда погоня достигла берега, Гопинатха и след простыл. В Пачхигаме он больше не появлялся. Полгода спустя впавший у властей в немилость Гопинатх наконец-то получил новое назначение – его отправили в дальний, высокогорный Пахалгам, однако довольно скоро его обнаружили мертвым однажды поутру на поляне у Байсарана. Его ноги были оторваны взрывом самодельного взрывного устройства, а голова отделена от туловища одним взмахом ножа. Убийство так и осталось нераскрытым, никаких следов его связи с событиями в Пачхигаме обнаружить не удалось, и в конце концов дело было прекращено. У полковника Качхвахи были свои серьезные подозрения на этот счет, и его недовольство всем и вся усилилось. К оскорблению, нанесенному ему Бунньи, прибавилось еще и унижение из-за позорного провала миссии Гопинатха. Последнее обстоятельство лишило его всяких оснований обрушиться на Пачхигам с карательными целями. Сумрачные тени на душе час от часу становились все гуще, и он пообещал себе, что деревня фигляров останется-таки под его неусыпным вниманием. Это его решение, хоть и в весьма отдаленном будущем, имело для жителей Пачхигама зловещие последствия.
Однако ж непосредственно после исчезновения соглядатая в Пачхигаме некоторое время царило праздничное настроение. Пандит Пьярелал согласился возобновить преподавание, решившись, пока достанет сил, нести на своих плечах обе ноши – кулинарных дел мастера и наставника: приготовления к свадьбе Бунньи и Шалимара шли полным ходом. Вскоре, правда, начали возникать небольшие недоразумения. При детальной разработке свадебных торжеств обнаружилось, что индо-мусульманский комплексный план церемонии, предложенный Абдуллой, на практике осуществить довольно сложно. Виной тому стало вмешательство многочисленных съехавшихся родичей с обеих сторон. Они прибывали отовсюду – из Пунча и Барамуллы, из Сонамарга и Тангмарга, из Чхамба, Ару, Ури, Удхампура и Киштвара; из Риаси и Джамму съезжались тетки и дядья, двоюродные и троюродные братья и сестры, бабушки и дедушки, племянники по отцовской и материнской линии со своими чадами; зятья, сваты и сватьи… Их понаехало в Пачхигам такое количество, что все дома были забиты до отказа, и некоторым, самым дальним и незначительным, приходилось ночевать в садах, уповая на то, что судьба убережет их от ливня и от змей. Почти у каждого из приезжих имелась своя собственная концепция по поводу обрядовой стороны бракосочетания, и у многих экуменический план, предложенный Абдуллой, вызвал громкие возражения.
– Как это она не перейдет в ислам? – спрашивали родственники со стороны жениха.
– Неужто на свадебном пиру нас собираются потчевать мясом?! – возмущались невестины родичи-хинду.
Подобные диспуты происходили на всех прилегавших к деревне открытых площадках: в полях и на пастбищах, на полянах и в садах. Лишь в отношении одного обряда мнения обеих сторон полностью совпали. Когда речь зашла о мусульманской церемонии под названием тхап, во время которой молодые, согласно обычаю, при всем народе задают друг другу вопрос, стоит ли им сочетаться браком, то все единодушно решили, что в данном случае это исполнять необязательно. «Они уже „потхапали“ друг друга давным-давно», – заметила какая-то язвительная бабулька, что вызвало взрыв веселого хохота в обоих родственных станах.
Затем препирательства разгорелись вокруг индуистской церемонии ливун, предписывающей перед свадьбой проводить очищение жилища. Родичи со стороны Каулов настаивали на этом. Ответ не заставил себя ждать. «Коли им так охота, пусть Каулы и очищают свой собственный дом, где идолов везде понатыкано, – сурово заявила древняя старуха-мусульманка, – у нас и так всегда чисто». Проблема праздничного меню разрешилась довольно мирно, после того как пандит Пьярелал Каул, несмотря на давнюю приверженность к мясу, согласился изъять мясные блюда из своего домашнего угощения, а Номаны тем временем сложили у себя на заднем дворе новую печь из кирпича и глины, на которой стряпались деликатесы, способные привести в восторг любого гурмана-мясоеда. Что касается основного свадебного банкета, то после трудных переговоров было решено, что две поварские команды приготовят кушанья обоих видов: курятину – для одних, стебли лотоса – для других, жареную козлятину – для мусульман и овечий сыр – для хинду, и так далее. С музыкой тоже всё решили быстро: остановили выбор на сантуре– сарангии на фисгармонии– рабабе– эти инструменты не знали никаких религиозных предпочтений. Профессиональные исполнители свадебных песен бачхотбыли приглашены со стороны и получили указание чередовать индуистские бхаджаныс суфийскими гимнами.
Однако же вопрос свадебных одежд едва не привел к открытому скандалу. Родичи со стороны жениха заявили, что когда свадебная процессия – йенавал– подойдет к дому невесты, то она должна выйти к ним в алой лебенга [15]15
Лебенга– свободное шелковое одеяние, закрывающее невесту с головы до пят.
[Закрыть], а затем, после того как женщины-родственницы омоют ее тело, ей надлежит переодеться в шальвар-камиз [16]16
Шальвар-камиз– повседневная верхняя одежда мусульманских женщин, состоящая из шаровар и длинной, ниже колен, рубахи.
[Закрыть], как подобает замужней.
– Глупость какая, – возражали Каулы. – Она будет, как положено невесте, в накидке с вышивкой у шеи и по краю рукавов. Голову украсит накрахмаленный убор из тончайшей ткани, а талию – широкий пояс– балигандан.
Спор длился три дня и грозил затянуться еще, но тут вмешались Абдулла и Фирдоус. Своим волевым решением они постановили, что невеста и жених будут обряжены каждый как того требует их вера. Номан не станет надевать пхиран, не будет водружать на голову тюрбан с павлиньими перьями. Он предстанет перед невестой в элегантном ширвани [17]17
Ширвани– костюм, состоящий из расшитого камзола и шаровар.
[Закрыть], с маленькой каракулевой шапочкой на голове. Этот вопрос благополучно разрешился, не вызвал проволочек и следующий, поскольку касался общей для обеих свадебных традиций церемонии мехнди. Однако вопрос о самом свадебном обряде поставил мирное сосуществование сторон под угрозу. Для большинства мусульман предложения противной стороны звучали просто чудовищно.
– Дуйте в свои ракушки, обменивайтесь подношениями в виде орешков – это еще куда ни шло, – говорили мусульманские дедушки, бабушки, тетки и прочие. – Но жрец– пурохит, совершающий пуджу [18]18
Пуджа– торжественное приношение даров, сопровождаемое чтением священных текстов.
[Закрыть]перед идолами?! Священный огонь? Священный шнур? Чтобы жениха с невестой почтили, будто они Шива и Парвати?! Невозможно, немыслимо! Хаи! хаи! – какой позор!
Оскорбленные до глубины души Каулы удалились с переговоров. Всякое общение между двумя кланами прекратилось.
– Уж эти мне семьи, – с тяжелым вздохом изрекла Фирдоус, – узколобые, тупые семьи – корень всех неурядиц на этой земле.
В ту ночь над Пачхигамом светила полная луна. Деревня разделилась на два лагеря, гармоничному сосуществованию, похоже, приходил конец. И тут на главной улице показался Шившанкар по прозвищу Шарга. Подчиняясь внезапному порыву, он стал петь густым и звучным голосом одну песню за другой. Он пел о любви – о любви богов к людям и людей к богам, о любви отцов к дочерям и матерей к их сынам; о любви вознагражденной и любви безответной. Тут были всякие песни: нежные и страстные, священные и простонародные. У его ног сидели обе его бесслухие дочери Химал и Гонвати. Они сидели молча, повинуясь приказу отца не раскрывать рот, как бы их ни растрогало пение. Когда он только начал, над Пачхигамом все еще витал дух вражды и то и дело ему кричали: «Замолчи, дай поспать!» или: «Нам не до глупых жалобных песен!», но мало-помалу его волшебный голос совершил чудо. Растворялись двери, в домах зажигались светильники, стали собираться люди, устроившиеся на ночлег в полях и плодовых садах. Абдулла и Пьярелал, встретившись возле певца, крепко обнялись.
– У нас будет два свадебных дня, – громко объявил Абдулла. – В первый день всё сделаем по вашему обычаю, а во второй – по нашему.
– А почему сначала по ихнему? – пронзительно завопила чья-то дотошная тетка, но ее вопль внезапно перешел в кудахтающие невнятные звуки – это супруг прикрыл ее склочный рот своей могучей дланью, после чего поспешно потащил ее досыпать.
Итак, все было решено. Пандит Пьярелал Каул выкопал алюминиевую коробку с драгоценностями жены, которую зарыл у себя на заднем дворе вскоре после смерти Пампуш, и принес их в спальню Бунньи. Она лежала неподвижно.
– Вот все, что от нее осталось, – произнес он. – В этой коробке бриллианты, но самый дорогой сверкает сейчас передо мной на этой постели.
Он положил коробку возле нее, поцеловал в щеку и вышел. Бунньи не шелохнулась, рассерженный взгляд ее был прикован к темному потолку; ей хотелось, чтобы стены исчезли сами собой, чтобы она смогла взмыть в ночное небо и улететь, потому что с той самой минуты, когда в деревне приняли решение спасти ее и Шалимара честь посредством брака, Бунньи показалось, будто ей вынесли пожизненный приговор, и она вдруг почувствовала, что задыхается. Неожиданно ей стало яснее ясного то, что прежде ей мешала понять любовь к Шалимару: такая жизнь, жизнь семейная, жизнь в Пачхигаме, возле отца, восторженно проповедующего на бережку у Мускадуна, жизнь рядом с подружками, танцующими один и тот же танец гопи-молочниц; жизнь среди всё одних и тех же людей, знавших ее с самого рождения, даже отдаленно не похожа на ту, о которой ей мечталось. На сотую, нет, даже на тысячную долю подобное существование не сможет удовлетворить ее мучительного голода, ее страстной жажды чего-то другого. Чего? Она и сама еще не подыскала для этого название. Знала лишь одно: с годами ее неудовлетворенность будет все возрастать и переносить ее станет все труднее.
И Бунньи поняла: она готова на всё, чтобы вырваться из Пачхигама; каждый день, каждый миг она будет ждать, когда ей выпадет такой шанс, а когда это случится, уж она-то его не упустит, она вцепится в него обеими руками; она буде проворнее самой удачи – этого неуловимого блуждающего огонька. Ведь говорят, что если ты выследишь какое-нибудь волшебное существо – фею или духа, надо успеть накрыть его ладошкой и загадать желание, тогда оно сбудется. Вот она и выскажет свое: «Унеси меня отсюда; увези от отца, от этого вялого, медленного умирания и еще более замедленного течения жизни и от этого клоуна, от Шалимара».