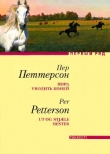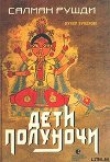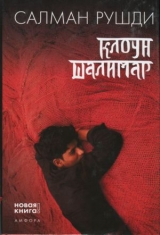
Текст книги "Клоун Шалимар"
Автор книги: Ахмед Салман Рушди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Итак, вопрос об угрозе поставлен, – сказал он, сощурившись и направляя на Макса сломанную палочку. – И теперь я знаю свой ответ.
Аня Офалс посмотрела на мужа с удивлением: не часто бывало, чтобы он говорил «я», а не «мы».
– Это и мой ответ, милый, – мягко поправила она. – Ты, очевидно, так выразился по рассеянности.
Макс-старший нахмурился:
– Ну да, разумеется, это и ее ответ. Я знаю ее ответ так же хорошо, как свой собственный, а что касается рассеянности, то, извините, она мне вовсе не свойственна. Я, простите, в своем уме, и он у меня – ого-го – будто стальной!
Макс-младший решил, что пришло время поднажать на них.
– Ну и каков ответ? – спросил он, стараясь казаться спокойным.
И отец, забыв о раздражении, хохотнул и что было силы ударил ладонью о ладонь.
– И оказывается-таки, что я упрямый негодник! – воскликнул он и закашлялся. – Оказывается, отчаянный я упрямец, да-да! И я не позволю изгонять меня из моего дома и лишать меня моего дела! Я останусь дома, и типография моя будет работать, и я заставлю врагов себя уважать. Что они о себе вообразили? За кого меня принимают? Может, у меня и не так много сил осталось, но в этом городе я кое-что значу.
Аня стала дергать его за рукав.
– Да-да, – добавил он, тяжело откидываясь на спинку стула и промокая лоб салфеткой. – И твоя мать такая же, как я. Упрямая. – Он прокашлялся и стал поправлять шелковый шейный платок, что означало – вопрос закрыт.
– В таком случае я больше не буду затевать этот разговор, – сказал Макс, признавая поражение. – Только при одном условии. Если настанет такой день, когда я приду и скажу, что пора бежать, обещайте, что вы не станете пререкаться, потому что знаете – я не поступлю с вами так, если не буду убежден, что это чистая правда.
Его мать улыбнулась и с нескрываемой гордостью воскликнула:
– Видишь, как он научился торговаться, наш Максимилиан! Он просто не оставил нам никакого выбора.
Профессор Макс Офалс дал знать ректору, что сыновний долг требует его пребывания в Страсбурге.
– Какая жалость, – ответил Данжон. – Если вы передумаете и решите, что лучше быть живым, нежели мертвым, навестите нас. Хотя весьма вероятно, что нас тоже не пощадят. Боюсь, что наступает эллипс Л-0. – В 1920 году Андре Данжон изобрел шкалу люминесценции, теперь известную как «шкала Данжона», для определения освещенности Луны на протяжении ее движения по эллиптической орбите. Л-0 означало по этой шкале абсолютную темноту, то есть полное отсутствие отражения свечения Земли, которое имело цветовые градации от темно-серого до медно-красного, даже оранжевого. – Если я прав в своем предположении, то между вами и мной, вашим и моим выбором все различие будет заключаться в том, что во время полного затмения мы умрем в разных городах.
Со времени разговора Макса с родителями каждый из членов семьи Офалсов хранил в своем гардеробе чемоданчик с самыми необходимыми вещами, в остальном они жили как прежде. Ввиду отсутствия прислуги б о льшую часть комнат в особняке заперли, укрыв чехлами мебель. Все трое ели на кухне, перенесли еще два стола в библиотеку, чтобы там можно было работать всем троим, сами поддерживали чистоту и порядок у себя в спальнях и сохранили в жилом состоянии одну из малых гостиных – чтобы принимать стремительно сужавшийся круг друзей. Что касается фирмы «Искусство и приключение», то два страсбургских печатных станка были остановлены. Третий, малый, находившийся в пригороде Мюлленхайм, был более совершенным и мог воспроизводить как тексты, так и рисунки. Именно это место, где в течение нескольких поколений печатались лучшие в Европе художественные альбомы, стало для Макса последним редутом. Поначалу они приезжали сюда все втроем и работали у машин сами. Но с каждым днем контрактов становилось все меньше и меньше, и настало время, когда родителям волей-неволей пришлось, как они это называли, «отойти от дел». После этого Макс приходил туда один. Каждый звонок из столицы, из одного из известных издательских домов, усугублял презрение Макса по поводу бессилия Парижа. Он вспоминал, как мать кричала в телефонную трубку:
– Говорите, что сейчас не то время, чтобы думать об искусстве? Что, собственно, вы имеете в виду? И когда, если не теперь? – И потом, кинув сердитый взгляд на предательски умолкнувшую телефонную трубку, изумленно говорила, ни к кому не обращаясь: – Он вешает трубку! И после двадцати лет знакомства даже не говорит «до свидания».
Утрата вежливости, похоже, огорчала ее больше, чем потеря любимого дела. Ее супруг, которого теперь постоянно мучил кашель, тут же поспешил ее утешить:
– Взгляни-ка на полки, – сказал он. – Видишь полчища томов? Эта армия устоит перед всеми стальными солдатами, которые бряцают оружием у нас под боком.
Макс-младший вспомнил об этих словах всего через год, когда, прячась за сожженным грузовиком, он видел, как драгоценнейшие первые издания «Искусства и приключений» летят в костер перед пылающей синагогой. Останься у него возможность обсудить это с отцом, тот наверняка пожал бы плечами и процитировал бы ему знаменитые слова из Михаила Булгакова: «Рукописи не горят». «Не знаю, как насчет рукописей, – подумал осиротевший Макс той бесконечной ночью, – но вот что люди сгорают дотла, если взяться за дело с размахом, так это уж точно».
Страсбург превратился в город-призрак, его пустые улицы сердито хмурились. Разумеется, он по-прежнему был прелестен – всё те же средневековые, наполовину из дерева, дома, всё те же крытые мосты, те же живописные виды и парки на берегу реки. Макс прохаживался по обезлюдевшим аллеям района «Маленькой Франции» и говорил себе: «Представь, будто все просто разъехались на август, а теперь вот-вот начнут возвращаться и на бульварах снова забурлит толпа». Но для того чтобы поверить в это, пришлось бы не обращать внимания на выбитые окна, на следы разграбления, на скелетоподобных, с опасно горящими глазами собак на улицах, многие из которых, брошенные хозяевами, обезумели от голода и страха; нужно было не думать о полном крушении своей собственной жизни. На этот случай имелись освященные традицией и временем известные модели поведения, и в тот год, когда его семейство лишилось всего, что имело, Макс Офалс им честно следовал. Он посещал бордели и еще уцелевшие питейные дома. Принимали его с радостью (посетители заглядывали нечасто) и предоставляли все самое лучшее за умеренную цену. Склонность к меланхолии, до сих пор никак не проявлявшая себя в характере Макса, в те дни заявила о себе с особой силой; случались даже дни глубокой депрессии, когда он, подобно Черчиллю, подумывал, не свести ли ему счеты с жизнью; останавливала лишь мысль о том, что это ужасно возмутило бы родителей. В 1940 году, когда все до одной новости были только плохими, у Макса вошло в привычку быстрым шагом ходить по городу. С низко опущенной головой он, засунув руки в карманы двубортного длинного пальто и надвинув на лоб синий берет, час за часом мрачно обходил почти бегом все улицы, парки и площади. Если двигаться молниеносно, думал он, как супергерой американских комиксов, как тот самый еврей-супергерой Флэш, то, возможно, у него возникнет иллюзия, что Страсбург по-прежнему многолюден; если двигаться с фантастической скоростью, то, может, ему удастся спасти мир; возможно, благодаря стремительному движению он попадет в другое измерение, где не будет так вонять. Если двигаться с бешеной скоростью, то, возможно, он убежит от собственного страха и ярости. Если двигаться как можно быстрее, то, может быть, он перестанет ощущать себя бесполезным, беспомощным идиотом.
Эти мысли оставили его одним майским вечером благодаря столкновению. Он, как обычно, шел, глядя себе под ноги, но на сей раз на его пути кто-то оказался – удивительно маленькая, просто крошечная женщина, и сначала он решил, будто сшиб с ног ребенка. Во время падения у нее из рук выпал перевязанный бечевкой сверток в коричневой бумаге. Ее спутник, большой неуклюжий парень, столь же неимоверно высокий, сколь крошечной была его подружка, помог ей подняться на ноги и торопливо подобрал порванный пакет. Он также отряхнул упавшую с головы женщины шляпку с одним торчащим кверху перышком, после чего бережно, даже любовно водрузил ее на блестящую черноволосую головку подруги. Сбитая с ног женщина не вскрикнула, и ее спутник тоже ни словом не упрекнул Макса за его неловкость. Они просто-напросто встали рядом и зашагали дальше. Такое впечатление, что это были два разнокалиберных призрака, весьма изумленных тем, что они, оказывается, обладают физической оболочкой, массой, объемом и что на них можно натолкнуться и сбить с ног, вместо того чтобы пройти насквозь, как ни в чем не бывало, почувствовав на мгновение лишь ледяное дуновение чьего-то присутствия.
Пройдя шагов двенадцать, они остановились и повернули головы в его сторону. Увидели, что он смотрит им вслед, и впали в некое спектральное замешательство. Вероятно, подумал Макс, привидений всегда удивляет, когда они становятся видимыми. Женщина почему-то яростно закивала головой, а ее спутник медленно, словно во сне, двинулся к Максу. «Он все-таки решил меня побить», – сказал себе Макс и подумал, не лучше ли удрать. Меж тем верзила подошел совсем близко и тихо спросил:
– Вы ведь книгопечатник?
Эти три слова вернули Максу смысл жизни.
«Вы ведь книгопечатник?» То, что впоследствии стало движением Сопротивления, дало о себе знать еще до падения линии Мажино. Пара со свертком в коричневой бумаге стала первым звеном, соединившим Макса с этим миром. Он знал только их подпольные клички – они называли себя Билл и Бландин. Позднее их группа стала именовать себя «Седьмая колонна Эльзаса», но пока что она состояла из этих двоих плюс несколько их единомышленников, которые делали все что могли, чтобы подготовиться к грядущим репрессиям. Макс подтвердил, что он действительно книгопечатник, что он еврей и что согласен помогать.
– У нас мало времени, – произнес Билл. – Коридоры для перехода границы уже готовы. Поддельные документы нужны срочно. И в большом количестве – чем больше, тем лучше. Они необходимы многим – в том числе и вашим родителям, да и вам тоже.
Макс взглянул на сверток.
– Эти вроде бы ничего, – сказал Билл, перехватив его взгляд, – но нет гарантии, что сработают. Нужен специалист высокого класса.
Билл держался уважительно и вежливо. У Бландин язычок был острый как бритва.
– Вы действительно умеете делать то, что нам требуется, – спросила она тогда, в самый первый раз, глядя на него немигающим взглядом, – или вы хозяин-белоручка, который эксплуатирует своих рабочих и тратит деньги на шлюх?
Ее спутник смущенно переступил с ноги на ногу.
– Солнышко, этот господин действительно желает нам помочь. Извините, пожалуйста, – сказал он, уже обращаясь к Максу. – Она ярая коммунистка, у нее голова забита классовой борьбой, автономией и прочей чепухой.
С ноября 1918 года, с тех самых пор как французская Четвертая армия под командованием Гуро снова взяла под свой контроль Страсбург, местные коммунисты выступали за полную независимость Эльзаса как от Франции, так и от Германии, в то время как социалисты приветствовали воссоединение с Францией. Какими примитивными казались эти позиции теперь, какими мелкими – страсти, которые они совсем недавно возбуждали…
– Умею. – Он ответил ей, еще не зная, правда ли это, но полный решимости доказать, что ее презрение неоправданно.
– Ладно. Тогда приступай, – сказала она и сплюнула в канаву.
«Если двигаться с бешеной скоростью, то можно перенестись в другой мир». Его желание было услышано. Леви оказался прав. У него обнаружился истинный дар к подделке, подобный таланту прилежного трудоголика-монаха – иллюстратора Священного Писания, и это позволило ему воссоздавать любые документы и оправдать свое хвастливое «умею». В тех случаях, когда материалы, переданные ему Биллом и Бландин, вызывали у него сомнения, касавшиеся толщины бумаги или цвета чернил, он перерывал все запасы и не успокаивался, пока не достигал желаемого результата. Однажды он даже пробрался в покинутую лавку художественных принадлежностей и взял там то, что ему было нужно, поклявшись себе, что заплатит хозяину после освобождения, – и впоследствии написал в мемуарах, что свое обещание сдержал. Он работал по ночам в полном одиночестве, с закрытыми ставнями, при свете небольшого фонаря, и в такие минуты ему начинало казаться, что помимо документов он фабрикует себе и новую личность. Этот другой человек протестовал, боролся с судьбой, с неизбежностью и был готов переделать мир.
Во время этих ночных бдений у него иногда возникало чувство, будто он всего лишь исполнитель высшей воли. Он не считал себя религиозным человеком и пытался найти для этого чувства какое-нибудь рациональное объяснение, но оно не покидало его. Макс служил орудием выполнения цели, гораздо более значимой, чем та задача, которую определил для себя лично он. Когда он передавал Биллу и Бландин изготовленные документы и паспорта, то говорил об их общей работе в высокопарных словах и приподнятым тоном. Эти излияния Билл не поддерживал, ограничиваясь односложными замечаниями. Макс воспринял это как урок и старался себя сдерживать. Бландин же со свойственной ей грубоватой прямотой сказала:
– Заткнись-ка, а? Тебя послушать, так можно подумать, будто мы завтра сокрушим Третий рейх, когда на самом-то деле мы лишь хотим пощекотать задницу этой зверюге и, если повезет, спасти пару-другую несчастных.
Пятнадцатого июня 1940 года в четыре часа утра пал Париж. Французское военное командование полагало, что вражеским танкам не пройти через холмистый Арденнский лес и что немецкое наступление будет остановлено на укрепленной по всем правилам военной техники линии Мажино. На протяжении всей линии была создана сеть защитных рвов, под землей – система тоннелей, железнодорожных коммуникаций, госпиталей, походных кухонь и центров связи. В ожидании атаки солдаты коротали подземные дни, размалевывая стены тоннелей всевозможными живописными композициями. Здесь присутствовали и тропические ландшафты, и комнатки с обоями в цветочек, с распахнутыми настежь окнами с видом на идиллический весенний пейзаж, и героические кресты с надписями «Они не пройдут». К несчастью, тут «они» и не прошли. Бронетанковые дивизии Роммеля и других прорвались через считавшийся непроходимым для тяжелой техники Арденнский лес и двенадцатого мая вышли к деревням Денан и Седан на Маасе. Тринадцатого мая правительство Франции сдало Париж. Несколько недель спустя окруженный со всех сторон, ставший никому не опасным гарнизон линии Мажино капитулировал. Через четыре года история совершит очередной кульбит, и в Нормандии произойдет знаменитая высадка союзных войск, но эти четыре года окажутся длиною в век.
– Мне пора, – заявила Бландин, без единого слова благодарности забирая у Макса очередную партию изготовленных им документов.
Он уже отворил, чтобы выпустить ее, заднюю дверь. Занимался рассвет. Она замерла на пороге.
– Рассвет перед тьмой, – произнесла она дрогнувшим голосом. Потом повернулась и поцеловала его. Не разжимая объятий, они, спотыкаясь, вернулись в мастерскую, где располагались прессы. Здесь, не снимая одежды, у громадной, зеленого цвета печатной машины, он овладел ею. Максу пришлось приподнять ее, и был момент, когда ее ноги в туфельках на высоких каблуках нелепо болтались в воздухе. Затем она быстрым движением обхватила ногами его талию и вжалась в него всем телом. Макс догадался, что на самом деле она очень стыдилась своего маленького роста и изо всех сил стремилась компенсировать этот недостаток тем, чтобы в любой ситуации не терять присутствия духа. Даже во время соития. В течение всего эпизода даже шляпка с лихо торчащим перышком на черноволосой ее головке не сдвинулась ни на йоту.
Через четыре дня над собором взвился нацистский флаг, и на город упала тьма.
Очарование Страсбурга не стало ему защитой. Оно ушло, как вода, ушло под землю: на случай нужды под городом была создана целая сеть очень милых больниц и приличных столовых, и находились такие, кто пребывал в убеждении, что, по сути дела, в их жизни ничего не изменится: в конце концов, немцы заявлялись сюда и в прежние времена, и теперь, как бывало в прошлые разы, город зачарует их и перекроит на свой манер. Макс-старший и Аня Офалс тоже склонны были верить, что очарование города защитит его так же надежно, как линия Мажино, и этим приводили сына в полное отчаяние. Он пытался им объяснить, что гауляйтер Вагнер не из тех, кого можно очаровать. Они слушали его с нарочито серьезными лицами и кивали. Он не успел оглянуться, как оба они превратились в немощных глубоких стариков; это произошло с ними быстро и абсолютно синхронно – так же, как бывало на протяжении большей части их совместной жизни. Они всегда были склонны преуменьшать сложности, но прежде в их легкомыслии незримо присутствовала мудрая ирония. Это качество они потеряли. Легкомыслие переросло в глупую доверчивость, в упрямое и безрассудное желание не принимать ничего всерьез. Они много смеялись и проводили день за днем в своем зачехленном доме за различного рода карточными играми и шахматными партиями; они держали себя так, словно не прервалась связь времен, словно их забавлял и опустевший дом, и массовый исход населения, и переименование улиц на немецкий манер, и то, что французский язык и эльзасский говор попали под запрет.
– Ничего страшного, милый, мы же прекрасно знаем хохдойч [20]20
Хохдойч– верхненемецкий (литературный) язык.
[Закрыть], так что для нас это не проблема, – сказала Аня, когда Макс сообщил ей о декрете. Когда же молодчики Вагнера запретили носить береты, обозвав их оскорблением рейха, старый Макс сказал:
– Берет я и так никогда не одобрял, он тебе не идет. Носи-ка лучше котелок – это практичнее, – и снова занялся своим пасьянсом.
Иногда Максу казалось, что подобным отношением родители надеются вычеркнуть нацистов из жизни, убежденные в том, что если их не замечать, то наци исчезнут сами собой, как дурной сон. Иногда же он отчетливо видел, что родители теряют представление о реальности и уходят потихоньку из этого мира в страну грез, незаметно, изящно и безропотно двигаясь навстречу слабоумию и смерти.
Район университета, как и весь город, обезлюдел, но несколько баров еще продолжали работать. Среди тех, кто остался в городе, крепло желание противостоять оккупации, и один из этих баров, под названием «Прекрасный бузотер», стал местом встреч всех этому сочувствующих. Билл, Бландин, Макс и еще несколько человек встречались там регулярно. Впоследствии старомодно-наивный характер и открытость этих встреч вспоминались им как чистое безумие. Члены группы во всеуслышание именовали себя бузотерами. И все-таки, несмотря на глупое бахвальство, группе действительно удавалось добиваться серьезных успехов. После падения Франции Бландин, например, ухитрилась стать водителем машины «скорой помощи». Таким образом она получила доступ в лагеря для перемещенных лиц, где допрашивали, прежде чем отпустить, французских солдат. На крошечную женщину в форме никто не обращал особого внимания, и, пока она раздавала пишу и медикаменты, ей удавалось собрать множество полезной информации о расположении немецких войск и переброске вооружения. Главная проблема заключалась в том, что она не знала, кому следует передавать эту информацию, и это приводило ее в бешенство. Она сделалась еще более нетерпимой, еще более острой на язык, при этом Максу доставалось от нее больше, чем кому-либо другому.
Торопливый, стыдно-неуклюжий эпизод в типографии продолжения не имел, и Бландин никогда о нем не упоминала. Макс и сам старался его позабыть, и в конце концов это ему удалось. Двадцать лет спустя, подбирая материал для своей книги воспоминаний, он совершенно случайно наткнулся на один документ. Из него Макс узнал, что в период свирепых предсмертных конвульсий Третьего рейха, когда после успешной высадки в Нормандии союзные войска уже победным маршем двигались по Франции, Бландин (настоящее имя – Сюзетта Траутман), пытавшаяся в заброшенном гараже передать по рации сообщение бойцам Армии освобождения, была схвачена нацистами и расстреляна на месте. В ее нагрудном кармане обнаружили фотографию неизвестного. Снимок не уцелел. «А вдруг это была моя фотография? – внезапно подумал Макс. – Вдруг все ее словесные нападки были своеобразной, скрытой формой проявления подлинного чувства, отчаянным призывом сделать за нее то, на что недоставало решимости у нее самой, – разорвать брак и увезти ее куда-нибудь подальше, в какой-нибудь райский уголок военного времени?» Он постарался избавиться от этих бесплодных размышлений, упрекая себя в излишнем тщеславии, но вероятность прошедшей мимо и оставшейся незамеченной любви продолжала мучить его. «Бландин, милая Бландин, – думал он. – Мужчины такие идиоты. Не удивительно, что мы приводим вас, женщин, в ярость». В тот вечер, когда из архивных материалов он узнал о судьбе Сюзетты Траутман, он дал себе слово, что если когда-нибудь женщина пошлет ему сигнал SOS, если он будет означать: «Ради всего святого, забери меня отсюда, прошу тебя, уедем куда-нибудь и будем вместе навсегда, и пусть гореть нам после этого в аду, только, пожалуйста, увези!» – он обязательно услышит ее мольбу и исполнит ее страстное желание.
О том, что случилось с Биллом, он так никогда и не узнал.
К концу сорокового года лагеря в окрестностях Страсбурга уже подготовили для приема «гостей», и тут же, как по сигналу, подчиняясь приказам нацистов, жители стали возвращаться в родной город. Десятки тысяч юношей – так сказать, нежелательный элемент – были срочно отправлены на передовую. Макс понял, что, как это ни парадоксально, именно теперь, когда все на какое-то время вернулись домой, настала пора бежать. Новые места обитания для гомосексуалистов, коммунистов и евреев были устроены в Шримеке, возле Нацвеллер-Стратгора, и это был только первый шаг вниз. (Создание газовой камеры через дорогу от Стратгора пока держалось в секрете.) Ездить в типографию в Мюлленхайм стало с некоторых пор невозможно, и из-за недостатка средств Макс вынужден был отдавать в заклад и продавать семейные драгоценности и серебро. Надолго вырученных денег хватить не могло, а это уменьшало и шансы на спасение – для бегства наверняка потребуется значительная сумма. С серебром особых сложностей не возникало: переплавка делала его анонимным, и никто не мог догадаться о его происхождении. Сложнее было с ювелирными изделиями: тебе могли предъявить обвинение в сбыте краденого, а за это полагалась смертная казнь. В то смутное время, когда черный рынок еще не заработал, даже антикварные драгоценности уходили за гроши, потому что бдительные перекупщики, словно флюгеры, чутко ловили перемену погоды и часто отказывались их брать. Когда же все-таки брали, то вырученных жалких средств едва хватало, чтобы продержаться неделю, в то время как настоящая цена обеспечила бы им безбедное существование не на один десяток лет. Понятие собственности осталось в прошлой жизни, будущее приближалось стремительно, и ни у кого не было ни времени, ни денег, чтобы оглядываться на вчерашний день.
Их семейное предприятие пока не конфисковали и не разгромили, но это был лишь вопрос времени. Макс, как мог, запрятал все материалы, связанные с изготовлением фальшивых документов, частично в тайниках в Мюлленхайме, частично дома, однако при дотошном обыске их в любой момент могли обнаружить, и тогда… О том, что за этим неизбежно последует, Макс предпочитал не думать.
Такого рода тревожное и рискованное положение дел сохранялось до весны 1941 года. И вот настал вечер, когда в «Прекрасном бузотере» Билл сказал Максу о том, что коридор спасения готов и его с семьей решено вывезти в первую очередь. Преподаватели и студенты университета, так называемые отказники, не захотели возвращаться в «Великий рейх» и остались в Клермон-Ферране, несмотря на то что в любой момент их могли обвинить в дезертирстве. Ректору, господину Данжону, каким-то образом удалось убедить правительство Виши придать кампусу в Клермоне статус независимого университета, и до времени немцы решили не идти против Петена и его окружения. Профессор истории Зеллер с помощью студентов и при содействии военного коменданта города в течение лета выстроил вместительный «деревенский коттедж» в Жергови, рядом со знаменитыми галльско-римскими раскопками, о которых Билл не знал ничего, кроме того, что это место известное.
– Отправитесь сегодня ночью, – закончил Билл, передавая Максу клочок бумаги. – Если доберетесь до Жергови, вас там встретят и проинструктируют.
Макс Офалс слушал его с непроницаемым лицом, решив, что Биллу незачем знать о его личных связях с университетом. «Так это Гастон Зеллер, – подумал он. – Что ж, совсем недурно будет снова увидеть старого пирата».
Он покинул кафе, не оглядываясь и не прощаясь. Родители, как всегда, были дома, в большой гостиной. Аня сидела у расчехленного рояля и с безмятежной улыбкой играла по памяти какую-то вещь, не замечая, что инструмент хрипит и абсолютно расстроен. Макс-старший стоял за ее спиной, положив ей на плечи руки, с отсутствующим, отрешенным выражением лица.
– Время настало, – сказал Макс. – Нам пора бежать. Сегодня же.
Старики взглянули на него с изумлением, словно у них под ногами слегка заколебалась земля.
– Об этом не может быть и речи, милый, – сказала мать, снисходительно улыбнувшись. – Ты прекрасно знаешь, что завтра Шарль, сын нашего дорогого друга Дюма, получает свой башо [21]21
Башо (франц. bachot) – аттестат бакалавра.
[Закрыть]. Об отъезде поговорим позднее.
Фраза потрясла Макса своей несообразностью. Шарлю Дюма было уже тридцать – столько же, сколько и Максу, он уже давно жил не в Страсбурге, и получение им степени бакалавра осталось в далеком прошлом.
– Но вы же дали мне слово, – упавшим голосом проговорил Макс.
Его отец кивнул головой и с важностью произнес:
– Верно, мы тебе обещали. И ты совершенно прав, напомнив нам о данном обещании. Два основных принципа – честность и дружба – тут явно вступают в противоречие. Что ж, мы предпочитаем сохранить верность дружбе и присутствовать на этом важном для близкого нам семейства торжестве, несмотря на то, что ты сочтешь наш поступок бесчестным.
– Опомнитесь! – вне себя закричал Макс. – Сейчас не до соблюдения каких-то условностей, вы прекрасно знаете, что с эвакуацией все школы, все коллежи позакрывались, в любом случае в это время года никаких дипломов не вручают!
– Тише, дорогой, перестань кричать, – с укором прервала его Аня и, перед тем как возобновить игру, добавила: – речь идет всего об одном лишнем дне. Послезавтра мы подхватим наши чемоданчики и быстренько отправимся, куда укажешь.
Не оставалось ничего другого, как согласиться. На клочке бумаги, переданном Биллом, было название места, где их должны были встретить: конюшня в деревушке Молсхайм, на самом краю обширного поместья, принадлежавшего Бугатти, а также слово «Финкенбергер». Макс всегда считал это названием вина, а не именем конкретного человека. Он решил, что это, вероятнее всего, кличка проводника, ответственного за благополучную переправку его с родителями за линию фронта. Той же безлунной ночью, которая именно по этой причине и была выбрана для бегства, Макс проделал на велосипеде двадцать миль по так называемой «винной дороге» до Молсхайма, чтобы сообщить месье Финкенбергеру о задержке на сутки. Выбор места встречи представлялся очень рискованным, поскольку автомобильный завод Бугатти перешел в руки нацистов. Правда, в то время гарантированно безопасного места вообще не существовало. Молсхайм с его старинными булыжными мостовыми, с чуть сгорбившимися под бременем столетий домиками был настолько буколически-прелестным, очаровательным, что казалось, у любого окошка может вот-вот появиться фея, а в зарослях вереска мелькнет говорящий сверчок из последнего нашумевшего фильма Уолта Диснея. Той ночью, однако, трагические события в семействе Бугатти будто саваном окутали Молсхайм, сделав и без того безлунную ночь еще темнее, – у Макса было такое чувство, словно у него на глазах черная тряпка. По мере приближения к центру ехать становилось все труднее, и в конце концов Макс слез с велосипеда и ощупью, как слепой, двинулся дальше пешком.
На протяжении одного только года конструктор и дизайнер автомобилей Этторе Бугатти, человек-легенда, которого все называли просто Патрон, потерял сначала своего сын Жана – тот погиб в автомобильной катастрофе, – а вслед за тем и своего отца Карло Бугатти, который, словно не имея желания становиться частью будущего, умер перед самой оккупацией. Этторе постоянно проживал в Париже, и хотя по-прежнему оставался гением инженерного дизайна и автором всех новых проектов, именно Жан в последние годы занимался дизайном сидений, специфически изогнутых крыльев и футуристических кузовов машин. После его смерти Этторе снова поселился в поместье, на территории которого располагался и завод и где все постройки – включая выставочный павильон, кузовной, литейный цеха и проектную мастерскую – могли похвастаться массивными дверями из мореного дуба и бронзовыми ручками. Бугатти жили с феодальным размахом. В поместье был свой музей скульптуры, свой каретный музей, прекрасные беговые дорожки, конюшни для собственных чистокровных скакунов и своя школа верховой езды. Они держали призовых терьеров, племенной скот, почтовых голубей. У них был свой винокуренный завод и роскошный отель под названием «Голубая кровь», где они селили своих клиентов. После потери сына и отца великолепие, которого ему удалось достичь для своего семейства, лишь растравляло душевные раны Этторе, усиливало чувство пустоты, внезапно возникшей в его жизни. Всего через несколько месяцев после своего возвращения он продал поместье немцам – его просто вынудили это сделать – и покинул Молсхайм с ощущением человека, побывавшего в склепе. Он перенес все свои коммерческие дела в Бордо, но ни одного авторского «бугатти» больше на рынке машин не появилось. Этторе теперь производил коленчатые валы и авиационные двигатели. Менее известной стороной его деятельности до времени оставалось участие в Сопротивлении, к которому вслед за покровителем присоединились и многие из его прежних подчиненных. Один из них, старый жилистый тренер по конному спорту, ставший известным Максу как проводник Финкенбергер, сидел теперь на изгороди позади конюшни в тупике тенистого переулка и курил. Макс брел по аллее, то и дело натыкаясь на столбы ограды и всякий раз с трудом удерживаясь, чтобы не вскрикнуть от боли. Огонек сигареты служил ему маяком, и он плыл на его свет в кромешной тьме, как Леандр через Геллеспонт. Когда человек заговорил, Максу показалось, что завеса ночи вдруг разорвалась. Одновременно с голосом Макс смог увидеть, вернее различить, лицо говорившего, и тут он с удивлением понял, что это лицо ему знакомо. Первые произнесенные тренером слова были: