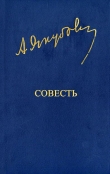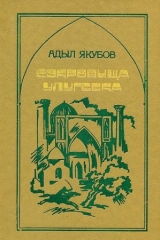
Текст книги "Сокровища Улугбека"
Автор книги: Адыл Якубов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 24 страниц)
Осенний день восемьсот семьдесят второго года хиджры[84]84
Хиджра – начало мусульманского летосчисления, 16 июля 622 г. пророк Мухаммед, спасаясь от преследований врагов, бежал из Мекки в Медину.
[Закрыть].
Большой караван – сто верблюдов – вышел из Самарканда утром, в час первой трапезы, в полдень миновал реку Даргом, и к трапезе обеденной открылась перед ним бескрайняя степь.
Ровная, она уходила до самого горизонта, разнообразили ее лишь плоские пригорки, полуразвалившиеся старинные крепости, небольшие, дворов пять-шесть, кишлаки и редкие, не то что в пригородных кишлаках-садах, купы деревьев.
Во главе каравана ехали четверо всадников. Четверо замыкали караван.
Могучие самцы-верблюды везли главные тяжести; ярко сверкали на солнце и мелодично в такт движению звенели медные колокольчики на шеях величавых животных. Много было в караване лошадей, в том числе благородных кровей, а также ослов и мулов… Люди в караване тоже были очень разные: важные вельможи, гарцевавшие на конях, в то время как жены их восседали в крытых шелком арбах, богатые купцы и купцы победнее – уж, конечно, без них и караван не караван; охрана, необходимая во всяком сколько-нибудь дальнем пути; бедный люд оседлал ишачков; дервиши топали пешком – поднимали пыль, покачивали дырявыми своими колпаками, славили аллаха.
Резко выделялись в караване двое в темных бархатных тюбетейках – знак мударрисов, – на которые были накручены легкие чалмы, в белых халатах – ридо – без рукавов поверх суконных чекменей. Один по возрасту подошел, пожалуй, к семидесяти, но выглядел бодро, снежно-белая борода подстрижена коротко, да и весь вид его прибранный, не по-стариковски подобранный. Второму, видно, лет пятьдесят, но он тоже выглядел моложе своего возраста, может, из-за отсутствия хотя бы единого седого волоса.
Благообразный худощавый старик, сдвинув широкие брови, что столь шли к его смуглому волевому лицу, напряженно всматривался то назад, туда, где остался Самарканд, то в гряду Ургутских гор, что тянулась по правую сторону от каравана; спокойная иноходь коня, на котором ехал старик, давала возможность для такого разглядывания, но во взглядах всадника были и беспокойство и какая-то нерешительность.
Караван пересекал очередное плоскогорье, когда неподалеку показался кишлак Карнаки-тепе, и тогда старик свернул налево и стал отъезжать от большой караванной тропы.
– Мавляна Али Кушчи! Куда вы?
Благообразный старик обернулся, крикнул:
– Не опасайтесь за меня, есаул. Не сбегу!
Есаул чуть смутился, прокашлялся, потом снова крикнул:
– Боюсь, чтобы вы не отстали от каравана, почтенный.
– Не беспокойтесь. Я помолюсь и догоню вас.
Воин проехал вперед, а спутник старика приотстал и присоединился к нему. Али Кушчи, приставив ладонь к бровям – старый, привычный жест, – долго вглядывался в Ургутские горы. Вздохнул, слез с коня. Спутнику своему сказал:
– Мирам Чалаби подъедет сюда. Вы, мавляна Каши, ожидайте его здесь, хорошо? Я же скоро вернусь.
Медленно зашагал он вниз по лощине, к поляне у подножия холма.
«Вот она, та низина, то самое место!» Да, и тогда стояла осень. Только поздняя осень. И тогда был вечерний час, малооблачное небо… Они с Каландаром Карнаки, опасаясь нукеров шах-заде, спустились в эту малозаметную низину, укрылись тут, а потом узнали среди всадников повелителя-устода, и он сам догнал их, не дал выехать вновь на опасную дорогу. Вот здесь, на этой поляне, долго стояли они, обнявшись, и устод опять говорил о своем последнем желании. А на следующий день горестная весть, жестокая весть потрясла Самарканд, и не только Самарканд, весь Мавераннахр.
Да, да, будто это было вчера: звучат наставления устода – вся его надежда на него, на Али Кушчи… Впрочем, в тот последний, роковой час устод Улугбек вспомнил и про любимца своего, мавляну Мухиддина…
Али Кушчи закрыл глаза. Жуткое, навеки запечатленное видение вдруг встало перед его взором…
Во мраке достиг Али Кушчи дома хаджи Салахиддина. Сколько бы Мухиддин ни совершил недостойных поступков, Али Кушчи не мог не навестить его, узнав о расстройстве разума мавляны, о том, что тот закован в цепи.
Странно, двустворчатые, обитые железом ворота в особняке ювелира, обычно накрепко запертые и с тщанием охраняемые, стояли распахнутыми. Под навесом у ворот, где всегда дежурили сторожа, было пусто. Огромный, как дворец, дом ярко освещен; по двору сновали женщины с кумганами и тазами.
«Что тут происходит? Стряслось что-то?» Али Кушчи поспешил к согнутому маленькому старичку, вышедшему во внутренний двор. Этот тщедушный старичок и был тот самый гордый, знаменитый ювелир хаджи Салахиддин! Увидев Али Кушчи, он разрыдался:
– Помогите нам, мавляна… Лекарь… Там лекарь!
Али Кушчи несмело открыл дверь в комнату мавляны Мухиддина.
Возле постели, на которой бесчувственно лежала, рассыпав волосы по подушке, молодая женщина, суетилась старушка и сидел на корточках худощавый человек в островерхом белом колпаке табиба. Он быстро обернулся к вошедшему Али Кушчи, развел руками, сказал что-то старушке.
Это была нянька Хуршиды-бану, а молодая женщина – о, аллах! – сама Хуршида. Что сказал табиб, этого Али Кушчи не слыхал, но тотчас догадался, когда через мгновение весь дом потряс вопль старухи.
На пороге появился Салахиддин-заргар, спотыкаясь, сделал несколько шагов и плашмя рухнул перед постелью внучки.
– О-о-о! Цветок моего сада! Увял, увял!.. Почему я не умер вместо тебя?! О-о моя последняя надежда! Кому теперь я отдам… все это? Этот дом. Все, что есть в этом доме… О, несчастный я!..
Дверь с резким стуком распахнулась, и в комнату вбежал мавляна Мухиддин. Рубашка его из грубой ткани была разорвана и обнажала костлявую грудь. Высоко задрав куцую бороденку и странно подергивая головой, мавляна Мухиддин рассмеялся и сказал:
– Свадьба? Что такое? В нашем доме свадьба, а меня на нее не приглашают?
Он перевел взгляд с застывших в ужасе женщин на постель. Мгновение стоял, всматриваясь. Потом в глазах его мелькнуло что-то осмысленное. И лицо преобразилось трижды: лицо безумца, отталкивающее, дикое, лицо человека, сильно напуганного, наконец, лицо страдальца. Мавляна Мухиддин вновь посмотрел на Али Кушчи, на отца, на женщин, на постель.
– Доченька!!
Мавляна Мухиддин простер к телу Хуршиды руки, опутанные цепью, споткнулся о таз, с грохотом упал на пол и забился в припадке…
Али Кушчи незаметно вышел из комнаты.
А через час его постигло еще одно горе. Али Кушчи узнал о гибели Каландара: его незабвенный друг, его шагирд пал в неравной схватке с воинами Джандара, которыми, как потом говорили, предводительствовал какой-то Шакал. Каландар нашел в горах свою возлюбленную и тут же потерял ее – теперь уже навсегда. И Хуршида не выдержала позора, уготованного ей эмиром Джандаром, не захотела пережить любимого, погибшего, защищая ее от воинов эмира. Старая нянька доставила Хуршиду домой, и здесь, уже дома, она приняла яд.
Али Кушчи устало опустился на землю. Он вновь подумал о том, что часто мучило его в последнее время, что он старался отогнать от себя и что все-таки не уходило из глубин сознания. Он думал о том, что жизнь несправедлива и милосердие создателя не доказывается жизнью, которою живут добрые, честные люди, и что разум, в могущество которого он верил свято, вовсе не всесилен и не может объяснить сколько-нибудь понятно, почему создатель всего сущего обрушивает меч правосудия то на таких кровожадных убийц, как шах-заде Абдул-Латиф, то на невинные жертвы, вроде Хуршиды-бану, на добрых и чистых людей, подобных Каландару. «Если есть правосудие в том, что ты всех наказываешь одинаково, а бедных и чистых к тому же чаще, чем жестоких и алчных, то есть ли в правосудии таком милосердие, человечность и справедливость? А если их нет, то правосудие ли это?»
Да, сколько лет прошло с тех пор! Сколько воды утекло!
Сколько событий пронеслось над миром, сколько людей покинуло его, этот бренный мир! А земля, небо, горы, повитые тончайшей пеленой тумана, все те же. Не двадцать лет, а двадцать дней, да что там, миг какой-то пролетел, а грустное лицо учителя стоит перед тобой живое, видишь его печально-заду мчи вый, отрешенный взгляд, а закрой глаза, и почудится, что слышишь его голос, глуховатый, проникающий в душу.
Прощаясь двадцать лет назад с Али Кушчи, повелитель-устод признавался ему здесь в этой низине у холма, что главная боль его сердца – неуверенность в том, увидит ли он еще раз свою родную землю, вернется ли в родимый край. А сегодня это главная боль сердца самого Али Кушчи. Он решил уехать из Самарканда, и боль эта теперь ни днем, ни ночью не покидает его.
А решил он уехать из Самарканда, любимого, трижды любимого, потому, что…
Двадцать лет он ждал, что рассеются тучи мрака над Мавераннахром. Двадцать лет жил в царстве тьмы, стараясь по мере сил следовать заветам устода. Скрывая труды свои от фанатиков-невежд, написал трактат по астрономии (да, да, тот самый, что начат был до зиндана, продолжен в зиндане), трактат по математике, комментарии к книгам устода. Горение свечи Улугбека, как мог, поддерживал. То Мирза Абу Саид, взошедший на престол после брата, то сам ишан Ахрар, власть которого так и не кончалась, а богатства росли неимоверно, пытались выманить у него тайну клада сокровищ Улугбека – и прямо, и через доверенных своих лиц; его заманивали почестями; ему грозили казнью. Нет, он не поддался ни на посулы, ни на угрозы… Но есть ли польза в этой его преданности памяти учителя? Лучшее, что создал великий астроном Улугбек, все еще неведомо людям, науке. Оно скрыто. Его нельзя показать мудрецам Мавераннахра. И выходило: для того чтобы довести до людей науки великие открытия устода, надо было уехать из отчего края.
Нет, хотелось бы думать, что оставляет он не народ, не землю, которая услышала его первый младенческий крик, а оставляет он властителей этой земли и этого народа, недалеких умом фанатиков. Надо было ехать, потому что и помереть было можно, так и не доведя мысли учителя до тех, кто их понял бы и оценил по достоинству. Благо еще, что достопочтимые Абдурахман Джами и Мир Алишер Навои[85]85
Навои (мелодичный) – тюркский поэт, философ суфийского направления, государственный деятель тимуридского Хорасана. См. истор. роман Айбека – Навои.
[Закрыть] протянули ему из далекого Герата руку помощи, ходатайствовали, чтобы ему разрешено было выехать туда. Славные люди! Но… как невыразимо тяжело уезжать, как тягостна мысль, что он, может быть, не увидит больше отчего края. Не слабый характером, Али Кушчи не удерживал слез, когда думал об этом.
Не сдерживал он слез и сейчас, в этой низине, на поляне, где последний раз видел незабвенного устода.
«Всевышний, я согласен на все невзгоды, что ждут меня в чужих краях, но молю тебя об одном: пусть прах мой будет покоиться здесь, в этой земле!»
Так он воззвал к небесам.
Потом стальным ножом, подаренным некогда Уста Тимуром, вырезал из почвы кусок земли. Он добавил эту горсть к другой, с могилы матери взятой, завязал дорогой мешочек потуже в пояс и пошел к условленному месту.
Там стояли двое: Мансур Каши и сравнительно молодой рыжебородый и голубоглазый мужчина в одежде мударриса.
– Ассалям алейкум, устод!
– Здравствуй, здравствуй, сын мой, Мирам. Вижу, хурджун твой полон. Все ли в порядке в Драконовой пещере?
– Все в порядке, все книги на месте. Я, как вы сказали, открыл лишь один сундук устода Мирзы Улугбека. От каждой рукописи взял из него по одному списку, а из рукописи «Таблиц» – три…
– А из книг достойного рая Кази-заде Руми?
– Здесь со мной одна книга его «Математики», одна книга по геометрии светлейшего Гиясиддина Джамшида, учитель.
– Похвально, сын мой. И все сундуки на месте?
– На месте.
– И вход ты хорошо закрыл?
– Хорошо закрыл, учитель.
– Благодарю тебя… Прошу, перенеси хурджун на моего коня.
И снова все смотрел и смотрел Али Кушчи на Ургутские горы, словно отсюда хотел увидеть Драконову пещеру. Но горы плохо были видны; день уходил, и облака, недавно редкие, густели на глазах.
Шагирды стояли перед Али Кушчи, склонив головы.
– Все, все помню… До сих пор помню. Перед той зловещей ночью г мы стояли вот здесь с устодом, и он поручал мне беречь спрятанные сокровища… Теперь я поручаю это вам. Всегда помните: сокровища, где собраны жемчужины разума мудрецов, необходимы если не этим, то будущим поколениям, потомкам нашим. Придет день, когда царство тьмы рассеется и над родной землей засияет солнце… Я не теряю надежды, что успею вернуться к тому радостному дню. Если же нет, если суждено мне умереть на чужбине, то вы передайте тайну сокровищ Улугбека своим доверенным шагирдам, а они – своим. И так от наших сыновей к сыновьям наших сыновей оно и пойдет, пока не дождется счастливого племени, при котором взойдет солнце над Мавераннахром! Тысячу раз благодарен я судьбе за то, что у меня такие шагирды, как вы. Если я чем-нибудь и когда-нибудь обидел вас, простите меня и благословите в путь…
Мирам Чалаби и Мансур Каши проводили его до большой караванной дороги. Поднимаясь на холм, Али Кушчи оглянулся назад в последний раз. Шагирдов своих он увидел, они долго махали ему вслед. А Самарканда увидеть уже не смог И садов не увидел. Не потому лишь, что все это было слишком далеко, а потому еще, что слезы застлали глаза Али Кушчи. Он решительно смахнул их с лица и направился догонять караван.
1971–1974