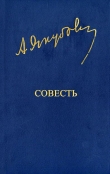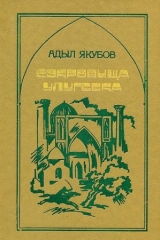
Текст книги "Сокровища Улугбека"
Автор книги: Адыл Якубов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Слух о побеге несравненной красавицы, внучки Салахиддина-заргара, быстро распространился по Самарканду и достиг ушей самого властителя. Эмиру Джандару было приказано отыскать беглянку во что бы то ни стало. Однако неделя прошла, и никаких вестей от Джандара по сему поводу Мирза Абдул-Латиф не получил.
Вот и сегодня шах-заде вынужден был послать гонца к эмиру, хотя сегодня, правду сказать, не такой день, чтобы тревожить себя из-за какой-то красавицы, пусть и несравненной. Сегодня накануне предзакатной молитвы должно было состояться сожжение еретических книг – церемония, угодная всевышнему и поучительная для подданных, ибо ничто не укрепляет прочности власти так хорошо, как зрелища ее видимого всемогущества.
Шейх Низамиддин Хомуш и другие священнослужители давно наставляли Мирзу Абдул-Латифа на свершение сего угодного всевышнему дела. Но шах-заде все не мог решиться, все откладывал и откладывал день сожжения. Несколько раз приезжал он в брошенную всеми обсерваторию, сидел в библиотеке на втором этаже, даже отобрал и взял с собой во дворец несколько книг. И каждый раз при взгляде на высокие, до потолка, полки, уставленные множеством книг, или рассматривая редкие рукописи, завернутые в тонкие шелка, он испытывал какое-то волнующее чувство, сострадание, что ли, в котором не мог признаться не только улемам, но и самому себе. Он способен был понять, что слава отцовского книгохранилища заслуженна. Он хоть и воспитывался в ханжеском Герате, под оком набожного деда Шахруха, но изучал помимо наук духовных науки светские, интересовался изящными предметами, какова, например, поэзия. Его, пусть и не сильно, интересовали и астрономия, и математика. Сколько же здесь было ценных книг, и астрономических, и математических, и поэтических, несмотря на то что Али Кушчи скрыл ценнейшие!
Посещения шах-заде обсерватории, его времяпровождение там, в очаге ереси, не укрылись от внимания шейха Низамиддина Хомуша. И вот не далее как вчера он внезапно явился в Кок-сарай для очередной душеспасительной беседы.
Шейх начал издалека, но насупленный вид его говорил больше слов. В конце концов он прямо сказал, что шах-заде, воспитанник его, положил конец многим последствиям правления нечестивого родителя своего, но все же решительного удара по ученым-вероотступникам не нанес. Винить его шейх не стал, а просто передал шах-заде послание из Шаша, от ишана Убайдуллы Ахрара. Сей благочестивый муж писал резче, нежели шейх Низамиддин говорил. Призывал к тому, чтобы нынешний венценосец не проявлял никаких, даже малейших колебаний в борьбе против богохульников за дело, угодное аллаху. Если бы и саблю следовало обнажить опять против смутьянов и нечестивцев, свивших себе гнездо в Мавераннахре, то он, ишан, и на это благословляет Абдул-Латифа. Кстати, это возрадовало бы светлый дух великого воителя за веру, прадеда шах-заде, эмира Тимура Гурагана.
После такого послания нельзя было откладывать сожжение книг. Назначено было оно на вечер следующего дня. Абдул-Латиф хотел было, правда, пересидеть столь важную церемонию в Кок-сарае, однако шейх, вновь нахмурив брови, разъяснил властителю, сколь необходимо его собственное милостивое присутствие во время оной. И вообще следовало бы, подсказал шейх, чтобы на сожжении нечестивых книг присутствовали все видные сановники, военачальники, вся верхушка улемы, а также небесполезно наличие ученых и поэтов, всех обучавших и обучавшихся в медресе Улугбека. Поучительно своими глазами увидеть, как славно пылают в праведном огне еретические книги, да и в беспощадности властителя, радеющего за веру, правоверным подданным тоже не вредно воочию убедиться!
Желание пира надо было удовлетворить.
После того как шейх Низамиддин Хомуш оставил дворец, Абдул-Латиф вызвал к себе диван-беги и есаул-баши и приказал им назавтра послать в обсерваторию двести всадников и выставить оцепление вдоль всех улиц, что протянулись от обсерватории до Кок-сарая.
Приказ был выполнен, сановники, военачальники и прочие, кому надлежало присутствовать на церемонии, тоже были оповещены в срок. Все было готово.
А тревога не оставляла шах-заде.
Он не мог разобраться в природе этой тревоги. Вспомнил неожиданно о своем желании получить в гарем новую розу, чтобы еще таким образом наказать покойного брата, вспомнил и подумал, что нерасторопность эмира Джандара и есть причина тревоги. А потому и послал гонца к эмиру в неподходящий для любовных утех день.
Но, отдав последнее распоряжение по всем сегодняшним делам, он наедине с самим собой не мог обманываться в природе своей тревоги – не одной сегодняшней, а постоянной.
Боязнь за себя, за свое место на троне – вот в чем было дело.
Сев на трон, он из прежних вельмож и чиновников кого отстранил от ведения дел, кого бросил в зиндан, а кого и просто казнил. Столь же сурово поступил с учеными мужами. И все медресе закрыл!
Навел, кажется, повсюду порядок. А тревожно сердцу, все равно тревожно. И трон словно качается под ним. И эмиры шепчутся подозрительно. Плетут заговоры обиженные и не удовлетворенные им сановники. И где-то скрывается, где-то точит и точит боевой свой клинок против него Бобо Хусейн.
Еще не может он, властитель Мавераннахра, спокойно спать по ночам в своем Кок-сарае. Стоит смежить веки, и видится кто-то входящий в спальню с обнаженной саблей, мститель видится, и властитель просыпается, дрожит, сдерживается, чтобы не кликнуть стражу, не выдать своего страха. Просыпается и уже до самого утра бодрствует.
Может быть, сегодняшнее богоугодное дело, на которое получено благословение – фетва не только самаркандских улемов, но и самого высокочтимого ишана из Шаша, может быть, оно приведет к тому, что всевышний сжалится над ним, смиренным рабом своим, и подарит душе его мир и отраду?
Хорошо бы!
Тихонько приоткрылась дверь. Шах-заде резко повернулся на звук. Косоглазый есаул стоял на пороге – этому есаулу, рекомендованному самим шейхом, он разрешил приходить прямо к себе, не оповещая сарайбона.
– Ну, где же эмир Джандар?
– Милостивый повелитель! Эмир Джандар… занемог. Лежит в постели!
– Своими глазами видел?
– Своими собственными, все милостивейший…
– Что ты ими мог увидеть, косоглазый шайтан? – Шах-заде зло усмехнулся. Поднялся. Подошел к есаулу. – Ну а новости про эту… беглянку развратную есть?
– Никаких, повелитель…
– Опять нет, опять нет! Вы когда-нибудь принесете мне приятные вести?.. Что мавляна Мухиддин?
– Мавляна… – Есаул склонил голову к левому плечу, искоса и робко взглянул на шах-заде. – Мавляна Мухиддин, говорят, потерял разум, повелитель. – И в ответ на недоуменный взгляд властелина, добавил проще – Ну, с ума спятил… Про то я услыхал впервые от нукера, что ходил на обыск, а сегодня и сам видал мавляну на Регистане: голова непокрыта, глаза безумные, в одной рубашке по площади бегал. А потом, говорят, хаджи Салахиддин забрал его домой, кандалы на руки и ноги набил, слуг сторожить приставил к нему.
– Бедняга! – неожиданно вырвалось у шах-заде. Он поморщился, посмотрел на Шакала, добавил: – Но… сам он виноват. Так будет со всяким, кто предаст душу дьяволу… А ты ступай. Скажи, пусть придворные будут наготове: скоро поедем!..
Известие, полученное от косоглазого есаула, еще больше разбередило душу шах-заде. Но, когда Абдул-Латиф вышел из холодных покоев Кок-сарая на свежий воздух, а день был на удивление теплый, от обильного снега, что выпал с неделю назад, и следа не осталось, он вдруг почувствовал облегчение, которого так долго и тщетно ждал. Тепло, светло, солнечно, и даже молодая травка, оказывается, проступила уже на обочинах улиц, на плоских земляных крышах, поверх глиняных дувалов. И ветки тальника, росшего вдоль говорливых арыков, пошли помаленьку краснеть, наливая живительным соком почки. И ветер с гор, ласково-теплый, нес с собой почти не слышный и все-таки уловимый аромат весны; горьковато-волнующие запахи полыни, дикого лука и степного ковыля смешались в его дуновении.
Шах-заде дышал, дышал полной грудью. Перед его просветленным взглядом вставали почему-то картины далеких гератских зеленых холмов. В свите деда своего, Шахруха-счастливца, Абдул-Латиф каждую весну выезжал в холмистую степь под Гератом – на место козлодраний, скачек и прочих лихих игр-состязаний. Озорным он был в юности, ох каким озорным!
Шах-заде, улыбаясь воспоминаниям, ударил камчой вороного, тот нетерпеливо рванулся вперед; за султаном и приближенные отпустили поводья, и мощеные улицы загрохотали под копытами лихой скачки.
Как в молодости!
Только тогда, в молодые годы, никто не охранял его особу. А теперь по обеим сторонам улиц от Кок-сарая до самой обсерватории стояли через каждые пятнадцать – двадцать шагов наряды копьеносцев, а неподалеку от пути следования повелителя в переулках и закоулках теснились конные ратники, одетые в кольчуги.
Мирза Абдул-Латиф, хоть и понукал коня мчаться еще быстрее, успевал сквозь частокол копий с трепещущими на ветру флажками, поверх шлемов стражников видеть глаза, лица покорных ему тысяч людей. Согнанные, они стояли молча, опустив взгляды, у заборов, в переулках, в дверных проемах лавок и мастерских; дети сидели на крышах, и в их глазах он ловил тот же страх, но еще восторженное изумление пышностью его поезда. Сердце шах-заде задрожало в ликовании. Оно было сейчас – сам нашел это поэтическое сравнение, – словно глубокое самаркандское небо. Оно было лазурное, его сердце! Не зря, не зря он сражался за Мавераннахр, за этот великий город Самарканд! Стоило, стоило не один, а сто раз рискнуть жизнью ради того, чтобы промчаться по улицам Самарканда, великого из великих городов, столицы непобедимого предка своего – эмира Тимура, промчаться и увидеть коленопреклоненные толпы, склоненные головы. Сладостна власть и величественна!.. Вот сейчас он может остановиться и приказать всем этим людям: падите в поклоне еще более низком! Целуйте землю, по которой проскакал мой конь! И падут! И будут целовать землю!
Пусть кто-нибудь посмеет не выполнить его повеления…
И перед обсерваторией была тьма народу. Невообразимый шум навис над площадью!
Сотни дервишей, размахивая кадилами с дымящей гармалой, качая в такт песнопению своими островерхими колпаками, тянули заунывно-стройно: «О аллах… о наш создатель…» Обычные нищие и убогие попрошайничали, протягивая к людям, заполонившим площадь, костлявые руки. Все прибывало и прибывало людей со всех четырех сторон, и все звонче и раздраженней звучали окрики конных стражников с обнаженными саблями, что пытались навести хотя бы подобие порядка в толпе. А на минаретах обсерватории били барабаны, сотрясал воздух рев медногорлых карнаев, способный потрясти и землю и небеса!
Двустворчатые ворота обсерватории были распахнуты: дорожку, ведущую от них в глубь двора, оставили свободной, а по обеим сторонам ее выстроились знатные люди Самарканда. Хоть и тепло было, стояли они в суконных тяжелых чекменях, лисьих и собольих шубах, в бобровых шапках. В руках имамов и улемов священные книги.
По правую сторону от входа воздвигнут высокий деревянный помост, застланный коврами и одеялами, – это место для столпов веры, шейх Низамиддин Хомуш уже там. Помост полу-окружен белыми мантиями и чалмами знатнейших из улемов и дорогими одеждами виднейших из государственных мужей. Жемчуга на шапках, золотые рукоятки сабель, серебро поясов – все блестело так, что не сразу разберешь лица. Впрочем, градоначальник Мираншах был виден и в такой толпе.
Прямо перед помостом, если смотреть по линии, ведущей ко входу в здание обсерватории, гора саксауловых веток и поленьев, а на них груды и груды книг. Их будет еще больше, потому что из помещения обсерватории выходят все новые служки и выносят все новые и новые книги, наращивая гору…
Шах-заде пошел от ворот по дорожке прямо, потом повернул направо. Знать и духовенство у помоста расступились перед ним. Низамиддин Хомуш поднялся навстречу, приглашающим жестом указав на кучу одеял, где надлежало восседать шах-заде, потом почтительно прижал руки к груди. Не сводя глаз с взошедшего на помост Мирзы Абдул-Латифа, шейх сказал одному из улемов:
–, Пусть впустят сюда тех ученых и поэтов, кто отступил от истинной веры! Пусть они увидят своими глазами, как будут гореть греховные книги!
Ввели во двор десятка три талибов, бедно одетых, беспокойных, напуганных. Преподаватели медресе, еще в одеяниях мударрисов, стали рядом с учениками, поодаль от помоста.
– Начнем? – повернулся к Абдул-Латифу шейх. В ответ кивок головы.
Шейх поднялся во весь рост. Продолжая перебирать в пальцах тяжелые янтарные четки, поправил белую мантию, скрыв ею обнажившееся черное пятно бархатного халата. Сделав шаг вперед, к краю помоста, он обратился к народу с проповедью. Не торопясь, отбирая каждое слово, шейх заговорил о том, сколь существенным благодеянием будет сожжение еретических книг, что собрал в этом нечестивом гнезде обсерватории человек, отступивший от веры истинной вместе со своими шагирдами. И пламя костра, который изничтожит сии книги, могло бы уничтожающим смерчем пасть на головы всех согрешивших – да, так оно и будет, если рабы аллаха, совращенные искусите-лями-нечестивцами, не станут денно и нощно молить всевышнего об отпущении грехов своих, так оно и будет, ибо уповать можно лишь на милосердного аллаха, на то, что в милости своей он вернет их на путь истинный… Илахи аминь!
И огромная толпа громко, будто одним выдохом, повторила:
– Илахи аминь!
Абдул-Латифу почудилось, что восклицание это потрясло и стены безбожного гнезда – обсерватории, и весь город.
Сиятельный шейх принял из протянутой руки дервиша факел. Передал шах-заде. Второй факел взял для себя. Твердыми шагами спустился шейх с помоста, зная, что шах-заде пойдет за ним.
Абдул-Латиф не думал, что сожжение книг начнет он сам, даже не хотел этого, но проповедь пира, единодушные возгласы одобрения толпы, здесь собранной, торжественная мрачность ритуала – все это словно причастило его к некоему божественному волеизъявлению, взволновало его религиозное чувство, и потому твердыми шагами последовал он за шейхом к горе ветвей и книг. С молитвенной дрожью он первым протянул горящий факел к сухим ветвям в основании горы. Хворост тут же вспыхнул. Шейх добавил огня. И в один миг большущий язык красного пламени устремился вверх, по-змеиному шипя и разбрызгивая вокруг искры. Еще миг – и гора книг скрылась в дыму и огне. Летели, рассыпаясь, искры, трещали, корчились переплеты, пеплом оседали страницы.
– Илахи аминь! – снова дружно грянула толпа.
Пение дервишей, гул людского одобрения, потрескивание сучьев – словно теплая, размягчающая, снимающая напряжение волна окатила душу шах-заде.
Он закрыл глаза. Ему казалось, что мягкая ласкающая волна вздымает его все выше и выше, но нет, не волна, он сам распростер крылья и летит, летит, купается в теплом и голубом поднебесье.
– О аллах! Прости меня, раба своего! Не пожалей милостей своих для меня, дай мне отраду, – шептал шах-заде.
Что-то заставило его вернуться к реальности, открыть глаза, какой-то переполох. Костер горел по-прежнему ровно и сильно, полыхал вовсю, трещал, разбрасывая снопы искр. Но многие смотрели уже не на костер, а на ворота. Там продолжалась непонятная свалка, слышались невнятные крики и проклятья: «Держи его», «Не пускай!», «Стой!»
Но, растолкав всех, прорвав заслон, во двор медресе вбежал босоногий и простоволосый человек с всклокоченной бородой, в рубахе с оторванным рукавом и разодранной до пупа. Юродивый, сумасшедший? Да, но… это был мавляна Мухиддин!
Абдул-Латиф почувствовал вдруг резкое головокружение, непонятный страх замкнул его уста, судорогой прошелся по мышцам лица.
Мавляна Мухиддин, сверкая глазами, кинулся к костру, остановился на полпути, застыл, а потом, вскинув руки, схваченные в запястьях железной цепочкой, начал по-дервишески пританцовывать на месте. Так же внезапно он прекратил танец, отвернулся от костра, закричал:
– Правоверные, эй, правоверные! Этот костер – пламя адское! Кто изгонит из своего сердца всемогущего аллаха, кто ступит на тропу ереси, тому гореть вот в таком огне! Глядите, глядите, рабы аллаха! В таком огне будет гореть нечестивый, впавший в ересь! Глядите, запоминайте, правоверные!
– Схватите безумца! – повелительно выкрикнул, перекрывая общий шум, шейх Низамиддин Хомуш.
Мавляна Мухиддин завертел головой, будто стряхивал с нее горящие уголья, затем безумным взглядом уставился на шейха и вдруг, радуясь чему-то, заверещал тонко, пронзительно:
– Эй, правоверные! Глядите, вот он, нечестивец Али Кушчи! Вот он, отыскался, проклятый всевышним, вот он, бежавший из зиндана, вот он… Держите его, держите!
Стражники накинулись на мавляну Мухиддина, попытались свалить его наземь. С неестественной силой мавляна отбросил их от себя, сделал несколько шагов к помосту, продолжая кричать:
– Али Кушчи! Это ты, кяфир[76]76
Кяфир – неверный, нечестивый, богоотступник.
[Закрыть], вероотступник! Держите его, люди! Держите!
Белая пена выступила на губах мавляны, дикая, безумная сила полыхала в зрачках.
Шах-заде невольно подался назад. Опомнился, рука дернулась к сабле. Сам крикнул:
– Да схватите же этого безумца!
С заломленными назад руками, как-то нелепо вывернув колени, мавляна качался, пытаясь вырваться из рук стражников. Смотрел он при этом на Мирзу Абдул-Латифа, только на него. Так казалось самому Абдул-Латифу.
– Ага-а-а… – вдруг тонким пронзительным голосом закричал мавляна. – Вот ты где, отцеубийца..; Эй, правоверные! Я нашел отцеубийцу… Я нашел того, кто убил своего благословенного родителя Мирзу Улугбека!.. Хватайте его! Держите его! Отцеубийцу в адский огонь! В огонь его, в огонь!
На миг площадь онемела. И простой люд, и вельможи, и почтенные имамы и улемы, и сами стражники. А через минуту перед очами тех, кто сидел на помосте, предстал пробившийся сквозь толпу Салахиддин-заргар. Подбородок его дрожал от сдерживаемых рыданий, в глазах слезы, один конец чалмы развязался и волочился чуть ли не по земле.
– Пир мой, пир мой, простите, простите! – захлебываясь, говорил хаджи, обращаясь к шейху. Подскочил к сыну, которого стражники наконец повалили на землю, но старика грубо оттолкнули. Мавляну Мухиддина поволокли по земле. Он сучил ногами, скованными руками пытался за что-то зацепиться; голову, разбитую о камни, заливала кровь, а из уст безумца все еще летели хриплые зловещие слова:
– В огонь отцеубийцу, правоверные, в огонь его!..
Хаджи Салахиддин, припадая на ногу, бежал за стражниками, пытаясь схватить за рукав то одного, то другого; он рыдал, умолял о чем-то, напрасно рыдал, тщетно умолял…
Площадь, народ, стражники с ювелиром и его сумасшедшим сыном – все вдруг закружилось перед Абдул-Латифом. В глазах почернело. Боясь, что вот-вот упадет, он схватился за плечо шейха, придвинулся к нему, как бы прося защиты.
– Держитесь прямо, сын мой. Очи всех людей устремлены сейчас на вас, – прошипел шейх. Подняв высоко голову, он оглядел сверху вниз толпу, воскликнул торжественно и властно: – Правоверные, истинные мусульмане! Вы все свидетели, вы сами все видели: кто предался ереси, кто поддался гордыне, тот заслужил кару всевышнего и получил ее! Сие отмщение небесное!
Шейх говорил еще долго, властно, вдохновенно, и не слышал его, пожалуй, лишь один человек – шах-заде. Он слышал другие слова: «Эй, правоверные!.. В огонь отцеубийцу… в огонь!..»
19Каландар Карнаки все сидел и сидел, преклонив колени, у свежего могильного холмика, маленького, будто похоронили в нем ребенка. Закрыв глаза, он читал молитву.
– Вставайте, шайр, времени мало у нас, а мертвую не воскресить и молитвой.
Каландар знал, кто произнес эти слова: шагах в четырехпяти под тенью вяза примостился, поджав под себя ноги, Мирам Чалаби.
Еще раз прочел молитву Каландар, поднес ладони к лицу, поднялся.
Рассвет был уже близок, сквозь редкие облака мерцали, быстро слабея, звезды; над кладбищем тихо плыл голос чтеца Корана. «Как похож этот голос на голос Али Кушчи», – подумалось Каландару… Да, наставнику и следовало бы читать Коран над могилой матери, наставнику, а не его ученику. Но, увы, наставник в заточении и потему долг ученика…
Бедная старушка! Вихрь беды налетел и сбил ее с ног. Тиллябиби так и не оправилась от болезни. Она угасала, словно догорающая свеча, и все глядела, глядела на двери и, стоило им скрипнуть, вскакивала с места со словами: «Мой верблюжонок, это ты, ты!» И вот жизнь ее, мучения ее прервались.
Каландар не сразу узнал о смерти матери Али Кушчи. Все последнее время он лихорадочно искал возможности спасти учителя. Каких только планов не придумывали они с Уста Тимуром! И ничего иного не смогли придумать, кроме того, что пришло в голову старому мастеру сразу же: с помощью Шакала склонить на свою сторону одного из стражников. Склонить-то склонили, но для того, чтобы кое-что он пронес к Али Кушчи в узилище, и только!
Каландар мучился от бессилия, а тут еще, как сель в горах, как град на голову без шапки, весть об исчезновении Хуршиды!
О причинах, что толкнули молодую женщину на столь отчаянный поступок, Каландар узнал все от того же Шакала. А затем новая весть: о сумасшествии мавляны Мухиддина, о том, как вырвался он из дому на сожжение книг, и про крик его, что разнесся по всему Самарканду: «Отцеубийца!.. В огонь отцеубийцу!»
Исчезновение Хуршиды-бану ударило Каландара тяжелым молотом. Сидеть в пещере Тимура Самарканди было теперь совсем уж невмоготу. Каландар ушел к подножию горы Кухак, целыми днями лежал в зарослях камыша на берегу Зеравшана. Глядел в небо, думал о судьбе своей, о том, как несчастно складывалась вся его жизнь.
Он даже на свадьбу Калканбека не поехал.
Калканбек, помолвленный с дочерью своих дальних родственников, очень звал его поехать в горы Ургута – брата, Уста Тимура и его звал. И Уста говорил, что надо поехать, проветриться, освободить сердце и голову от безнадежных мыслей. Но Каландар отказался наотрез. Не до свадьбы ему сейчас, не до радостей – даже радостей друга!
С наступлением темноты Каландар покидал заросли камыша, устало поднимался по склону Кухака на заранее обговоренное с Шакалом место встречи. Шакал брал то, что приготовлено было для мавляны Али Кушчи, много чего обещал, требовал еще больше денег – и все оставалось до следующей встречи без изменений.
Правда, вчера Шакал пришел очень взволнованный, нетерпеливый, сказал, что будто уговорил наконец эмира Джандара действовать, повлиять на бека, ведающего зинданом. Весьма возможно, они в скором времени выведут мавляну потайным ходом из заключения. Но для этого нужно золото, много золота. Пусть Каландар готовится к скорой встрече с мавляной.
Каландар тут же вернулся к Уста Тимуру и вот там узнал, что скончалась Тиллябиби. И что, кроме Мирама, никого не было на похоронах старушки: сын в тюрьме, сам он отсиживался в камышах, Уста Тимур и братья не вернулись со свадьбы. Мирам Чалаби и какие-то очень дальние родственники предали земле тело Тиллябиби…
…Словно с могилой собственной матери, прощался Каландар с могилой Тиллябиби. Несколько раз останавливался, оглядывался, уходя с кладбища.
Вороной аргамак с белой отметиной на лбу (пятьдесят золотых монет отсыпали за него Шакалу!) пасся в карагачевой роще, за кладбищем. Здесь Каландар и Мирам расстались. Отсюда он поехал… Но куда? Куда ему ехать?.. Мысли все еще были заняты образом бедной старушки, потом перенеслись к его родной матери, такой же любящей, тихой, ласковой… Ее-то могила осталась совсем без присмотра, пожалуй, вся травой заросла… Только позавчера, вспомнил он, только позавчера он получил первый ответ от наставника… Всего четыре слова: «Бумага. Карандаш. Мать, Тиллябиби»… Все мы грешные, только создатель безгрешен. Но если и грешен в чем-то мавляна, то уж мать его, чем она виновата?.. Просто тем, что любила сына? И вот сгорела, словно свеча от ветра, от беды, выпавшей на долю сына.
На берегу по-весеннему бурной реки Каландар придержал коня. Надо было опять скрываться в камыши. Не хотелось! И он повернул коня к горе Кухак. Выбрал на дороге холмик посуше, поднялся на самый верх, здесь слез с коня, стреножил его, прилег на траву.
Солнце еще не поднялось, но робкая, нежно-розовая кисея, уже застлала вершины гор, высветлила их, приблизила к глазу; все ярче и гуще становилась она, воспламенялась, краснела, и вскоре весь горизонт был объят огромным костром; ликующерадостное, поднималось над землей весеннее солнце!
Трава намокла в густой росе. Или ночью дождик прошел, а он и не заметил? Утренний ветер колыхал траву, то зеленым шелковым покрывалом пригибая к земле, то взъерошивая гривой необъезженного скакуна. Нежно-зеленые холмы, снежная розовость горных вершин вдалеке, серебряная лента реки внизу – как это все похоже было на его родные края! Ну, разве не так же зеленеют сейчас невысокие холмы вокруг кишлака Карнак? И не так же готовятся к таинству раскрытия лепестков и листьев урюк и персик в густых карнакских садах? Вот если б вызволить мавляну Али Кушчи из зиндана, получить его благословение, да и махнуть на родину, благо весна, благо теплые дни впереди!
Махнуть? Без Хуршиды? Даже не узнав, где она, что с нею?
Не раз Каландар видел во сне возвращение свое в родные края, но в снах этих всегда вместе с ним была и Хуршида. Лежа в полутемной пещере Уста Тимура бессонными ночами, он часто воображал себе, как они едут вдвоем, седло к седлу, по бескрайнему степному раздолью к желанному отчему порогу… Хуршида в чабанской шапке, мужском чекмене – молодой пастух, да и только, а иначе не обезопасить ее от недобрых глаз! Лицо озарено радостью, слышался тихий, но счастливый смех… Да, счастливый, несмотря ни на что, счастливый… Он может вызвать на ее лице радостную улыбку и счастливый смех. Две последние встречи под старой орешиной в саду хаджи Салахиддина подсказали ему, что оскорбленная душа Хуршиды-бану, истерзанная и, казалось, надломленная, умершая, не умерла, не сломалась, что она может воскреснуть, что она… вновь потянулась к нему, Каландару… Счастье… Их счастье было возможно, если бы не новый и уже, видно, непоправимый удар!
Подлый отцеубийца! Сгореть бы тебе со всем своим гаремом! Десятки, сотни невольниц – из Герата, из Балха, из Самарканда! Нет, он позарился на его единственную любовь…
Бедный народ! За что тебе достался этот дьявол в облике шах-заде?
Да, его беда не единственная.
Третьего дня ночью, когда Каландар был у Уста Тимура, чтоб прихватить кое-что из одежды и оружия, а братья-кузнецы собирались ехать в горы за невестой Калканбека, в кишлаке вдруг раздались шум, грохот, лошадиный топот и крики людей. Братья не выдержали, выскочили из пещеры, Каландара удержал старый мастер. Калканбек тотчас вернулся с криком: «Где наши сабли?.. Воины шах-заде грабят кишлак!» Каландар тоже схватил саблю, выскочил наружу. В кромешной тьме куда-то с криком бежали люди. Женщины плакали… Выяснилось, что воины шах-заде, словно банда разбойников, налетели, ограбили дочиста крайние дома кишлака, прихватили чью-то дочь и умчались.
В ту ночь в пещеру Уста Тимура, не сговариваясь, собрались мужчины со всей махалли. Пришли кузнецы и гончары, каменотесы и резчики по дереву; пришли и кишлачники, робкие, тихие дехкане, среди них отец похищенной девушки, маленький человек, ростом в аршин, с морщинистым лицом в кулачок. До рассвета просидели они в пещере, говорили – и все об одном: плохо в стране, насилие кругом, сколько можно терпеть? Говорили: в городе закрыты торговые лавки, замолкли мастерские ремесленников – что от работы толку, коли нет покупателей. Из пригородных кишлаков дехкане в город не едут – средь белого дня на дорогах грабят, – и самаркандские базары, знаменитые самаркандские базары обезголосели.
Сколько же можно терпеть? Не пора ли подниматься работающему люду?
Странно иль нет, а первым такой вопрос задал морщинистый маленький дехканин. Его поддержали другие – пора, мол, пора. Но Уста Тимур, хранивший до того молчание, охладил их пыл, рассудительно заметив, что рано подниматься, силы слишком неравны пока, не надо зря проливать кровь человеческую. Надо собирать силы.
Каландару, прежде согласному со старым мастером, казалось теперь, что Уста Тимур был неправ в своей рассудительности. В молодости люди дерзки, к старости мудрая осторожность может превратиться в излишнее спокойствие. Правы ремесленники – надо поднимать людей, идти штурмом на Кок-сарай! Каландар был готов повести их, пусть и мало надежды на успех, пусть он и сам погибнет в битве. Но ведь в битве! А не в прозябании, когда ты должен только сидеть и ждать, сидеть и ждать.
Да и к чему теперь ему жизнь, и жизнь ли это, когда оборвались или вот-вот оборвутся последние нити, из-за которых стоило жить, из-за которых жизнь не до конца опостылела ему?
Рывком вскочил Каландар на ноги, с лихорадочной поспешностью взнуздал коня, пустил его вскачь вниз, не разбирая дороги, невзирая на крутизну холма. Заросли камыша впереди словно пылали – так яростно освещало их красным пламенем весеннее солнце…
Когда в сумерках Каландар поехал на очередную встречу с Шакалом, он почти уверился в том, что эмира Джандара удастся подкупить и что эмир, в свою очередь, подкупит тюремщика. Тогда придет решающая ночь. В самом деле, должна же она наступить? Разве мало повидал он на своем веку продажных, падких на золото, на выгоду вельмож, эмиров, чиновников?.. А в глубине сознания теплилась и еще одна мысль – о Хуршиде-бану. Почему-то казалось, хотя для этого не было никаких разумных оснований, что сегодня он услышит от Шакала что-то новое и о ней. «Все может быть, все может быть…» – заклинал себя Каландар.
Он долго ждал Шакала. Сидел, обхватив руками колени, невидящими глазами уставясь в темноту.
Наконец сверху, по склону горы, что-то зашуршало, будто под мягкими сапогами захрустели сухие сучья. Каландар вышел из-под ветвей тутовника; на светло-синей полосе неба, четко окаймлявшей изгиб склона, сгустилась тень человека.
Каландар пошел вверх, навстречу.
– Шакал, ты?
– Я, дервиш…
Они сошлись.
– Чего же ты молчишь?
– Вести нерадостные, дервиш, оттого и молчу.
Собеседник Каландара тяжко дышал, будто после торопливой ходьбы.
«Или от страха?» – подумал Каландар.
– Все равно давай выкладывай.
– Мирза Абу Саид бежал из зиндана. В Кок-сарае тревога, дервиш.
– Кто бежал?
– Абу Саид… Ну, племянник покойного повелителя, Улугбека. Он ведь тоже томился в зиндане.
– А когда сбежал?
– Один аллах ведает. Вчера шах-заде прошел по всем темницам и обнаружил, что Мирзы Абу Саида и след простыл. Надсмотрщик сам попал в зиндан… ну и переполох повсюду…
– А где эмир Джандар?