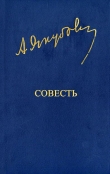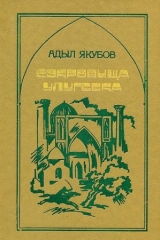
Текст книги "Сокровища Улугбека"
Автор книги: Адыл Якубов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
Хуршида проснулась на рассвете; во дворе слышались громкие голоса, топот людей, словно нарочно бегавших с целью произвести побольше шума. Постель старой кормилицы пуста.
Скорее наружу!
Со двора видны были освещенные окна мехманханы, и тени обнимающихся людей четко рисовались на занавесках. «Отец вернулся!» И Хуршида, забыв, что едва одета и что в комнате для гостей полно мужчин, молнией кинулась туда.
Отец… это был точно – отец. И в то же время человек, непохожий на отца – заросший волосами, глаза ввалились, худой, как щепка.
Старик, да, да, отец стал стариком!.. И всхлипывал, всхлипывал, как малый ребенок, нет, как старик, из тех, о ком говорят, что он от старости уже умом тронулся.
Хуршида, заплакав навзрыд, бросилась к отцу, прижалась лицом к его груди.
Дом Салахиддина-заргара мигом превратился в обитель и слез и радости, тем более ликующей, чем быстрее высыхали слезы. Уже в саду резали и свежевали барана; уже повара, засучив рукава, приготовлялись к своим приятным делам и заботам – нет торжества без хорошего шашлыка и доброго плова! Уже первый сосед, прослышав о возвращении мавляны Мухиддина и о прощении его повелителем, направил стопы свои к богатому дому, прокладывая путь и для других поздравителей, что приходили в течение всего дня, – соседи, знакомые, родственники близкие, родственники дальние, купцы-лавочники и оптовые торговцы, ремесленники и люди духовного звания, даже иные поэты и бывшие талибы. Не было им конца, как и любопытству их!
Отец выбрил голову, подправил бороду и усы, накрутил пышную чалму, белизна которой, правда, особенно подчеркивала бледность его исхудалого лица. В златотканом халате сидел в салям-хане, принимал поздравления, словно больной после выздоровления.
А дед, тот сразу же, как сын вернулся, стан распрямил, и недоуменно-обиженную мину с лица согнал, и походку вновь приобрел прежнюю – степенную, надменную, в чем могли убедиться все приходившие к нему в дом, ибо с каждым он беседовал лично, каждого лично провожал до ворот – ну, разумеется, если гость был хоть сколько-нибудь влиятельным, но ведь только такие и считались здесь гостями. Каждому хаджи Салахиддин сообщал, что сын его не просто прощен, но, очевидно, и приближен. И радостно за деда и почему-то тревожно за отца, за себя становилось Хуршиде-бану, когда доводилось ей видеть и слышать все это. И слова Каландара, безжалостные по отношению к отцу, вспоминались ей. И все чаще думала она, лишь схлынула первая радость, об Али Кушчи: «Вышел ли и он из темницы? Неужели нет?.. Но тогда почему отец на свободе, за что его выпустили?» Нет, нет, отец не такой, как о нем говорил Каландар!.. Если бы прав был тот, кого она по-прежнему любит, если б он был прав, то не лежал бы отец целых три месяца на вонючей подстилке в зиндане, терпя такие страдания, что из-за них не узнать его!
Расспросить бы самого отца, сбросить бы груз с души! Но все новые и новые гости шли к ним в дом. И каждого прими, каждому удели время.
Нынче, правда, народу поубавилось. В доме несколько поутихло. К вечеру, однако, прибыли опять важные гости, похоже, I из придворных.
И вокруг этих трех-четырех вельмож забегали, засуетились хозяева, многочисленная челядь. Наконец гости ушли, все стихло, даже, как показалось Хуршиде, зловеще тихо стало. Сам Салахиддин-заргар надел соболью шубу с суконным верхом и, несмотря на сильный ветер, дождь и мокрый снег, отправился куда-то, велев слугам крепко запереть ворота и ложиться спать, не дожидаясь его.
В комнату Хуршиды-бану пришла няня, заплаканная почему-то, напуганно-молчаливая. Пришла и сразу улеглась в постель.
Хуршида чувствовала: опять что-то случилось, какая-то новая беда пала на голову… Чью? Отца? Или дедушки?… Или она коснулась ее самой, почему бы иначе не сказать о беде и ей, Хуршиде? Почему от нее что-то скрывают?
Она поколебалась и нерешительно направилась к отцу, зная, что тот не спит – окна большой комнаты по-прежнему были освещены.
Отец, нахохлившись под теплым чекменем, накинутом поверх другой одежды, сидел, перелистывая большую книгу в желтом сафьяновом переплете. Углубился, йидно, в чтение, потому что сначала не заметил дочери. Хуршида тихо подошла, садясь на маленькую низкую скамейку перед ним, колыхнула подолом платья пламя свечей в серебряном подсвечнике, и отец испуганно вскинул голову.
– О, это ты? Садись, садись, дочка.
Лицо его было бледным, бело-серым. Большие глаза, хотя и светились лаской, в глубине, где-то на самом дне, таили страх.
Теплый комок слез подступил к горлу Хуршиды-бану.
– Ой, как вы исстрадались, отец, сколько муки натерпелись!
Мавляна Мухиддин поправил бархатную тюбетейку. Как всегда, тихо сказал:
– Поблагодарим справедливого и всемилостивого… Я вернулся к тебе живой и невредимый…
– Да, тысячу благодарений аллаху за то, что вы избавились от тяжкой беды, – прошептала Хуршида и смолкла. Ей было очень жалко отца, но и про слова Каландара она помнила. Желая забыть их, помнила и ничего не могла поделать с собой. Ей хотелось убедиться в том, что слова неверны, несправедливы, но для этого надо было спросить отца кое о чем, а спросить она не решалась… А спросить было надо!
– Отец, – голос Хуршиды задрожал, – отец, вы один находились в страшном подземелье?
Закрыв глаза, мавляна Мухиддин отрицательно покачал головой.
– Нет, доченька, вместе с мавляной Али Кушчи… ты ведь знаешь его…
Хуршида побледнела, изменилась в лице.
– А мавляна Али Кушчи… этот досточтимый ученый, тоже вышел на волю?
– Увы, дитя мое, этого не случилось… он все еще там, в зиндане…
– Отчего же, отец?
Мавляна Мухиддин еще сильнее съежился под чекменем, словно за ворот рубашки ему бросили кусок льда. Почему она спросила его об этом? И так горячо!
Дочь опять уловила мелькнувшее в глазах отца выражение испуга, но не одного испуга – еще и настороженности.
– Видно, так было угодно богу, дитя мое, – произнес мавляна наконец и отвернулся. Увядшее серо-белое лицо его чуть-чуть порозовело.
«Все правда, все правда! – металась мысль Хуршиды. – Каландар сказал мне правду!»
Будто смерч сдвинул и перемешал чувства в ее душе.
– Ему там очень плохо, отец?
По-прежнему не глядя на дочь, мавляна Мухиддин кивнул головой – теперь утвердительно.
– Очень… очень плохо… Очень тяжело, доченька.
– За что же мучают его?.. Почему не выпустят из зиндана?
Лицо мавляны Мухиддина вновь приобрело бело-серый оттенок, и черты его отвердели, заострились, словно сделанные из алебастра.
– Виноват он сам… сам мавляна, дочь моя!.. Он слишком упрям. А в такое-то время… – отец опасливо покосился на темное окно, понизил голос, – в такое время нельзя упрямиться… На престоле Мирза Абдул-Латиф. Нельзя, никак нельзя упрямиться…
– Отец, я слышала недавно… – Хуршида на миг замолчала, заметив, как вдруг холодно и отчужденно стало лицо отца: глаза прищурились, губы плотно сомкнулись.
Хуршида опустила взгляд, но продолжала:
– Слышала недавно… говорят, что мавляна Али Кушчи… спрятал множество редкостных книг из библиотеки нашего благодетеля, покойного повелителя Мирзы Улугбека…
– От кого ты это слышала?!
Дочь продолжала рассматривать узоры ковра на полу. Не от замешательства, нет, а от нежелания ответить отцу.
«Все правда, все… – думала Хуршида. – Мавляна Али Кушчи сидит в зиндане из-за книг и… из-за отца».
– Я спросил, откуда ты услышала про книги?
– Многие говорят…
– Кто они, эти твои «многие»?
– Кто-то из соседей… из подруг, с кем я училась когда-то…
«Для этого я ее учил? Не послушался добрых людей. И вот тебе, выучил! Слишком умна стала. Ученая! Выучил на свою бедную голову!»
– Подруги! С кем училась когда-то? – Мавляна Мухиддин возвысил голос. – Мирза Улугбек, которого ты назвала нашим благодетелем, был гордец, не признавал святого шариата. Он сбил с истинного пути немало женщин, внушил им, что получать знание есть долг… якобы долг и мусульман и мусульманок. А это грех! Тяжкий грех! Понятно?
«Грех? А как же такой мудрый и занимательный, как сказка, трактат повелителя, который я прочла, а потом любовно переписала? То была история Мавераннахра. И поручил переписать эту историю отец! Тогда это был не грех?»
Хуршида вдруг расплакалась.
– Отец! Что с вами стало, отец?!
Она закрыла ладонями лицо, соленые капли просачивались сквозь тонкие пальцы, украшенные перстнями, скатывались с уголков губ, задерживались на округлом подбородке…
«Оплошал! Не гладко вышло… не надо было хулить ни Мирзу Улугбека, ни Али Кушчи… Она ведь помнит, как я отзывался о них раньше… Неужели теперь не только Али, но и любимое дитя мое станет презирать меня?»
Мавляна подумал с горечью: кто же теперь искренне пожалеет его, извинит ему слабость?
Мысль о собственном одиночестве так растрогала мавляну, что он и сам прослезился.
– Полно, доченька, полно, не напоминай мне про страшные мои дни! Да не пошлет аллах никому из смертных такие муки, что я изведал… Что ж делать, доченька? Судьба моего друга мавляны Али Кушчи не в моих руках. Твой отец слабый и больной человек…
Но чуткий с детских лет мавляна Мухиддин знал сейчас, что ни слова, ни слезы его не трогают сердца дочери. Ему было и стыдно, и горько, и боязно – все вместе. Он хотел поговорить с дочерью потверже и не смел поднять голову: он-то знал то, чего еще не знала Хуршида! Сегодня поздние вечерние гости сообщили ему о желании шах-заде иметь в своем гареме новую розу и о том, что эта честь выпала на долю его дочери. Ее надлежало приготовить к этой вести, но он не мог сразу приступить к такому щепетильному делу. Уж если отец, Салахиддин-заргар, не смог, ушел куда-то на ночь глядя за советом, то ему и подавно не просто будет сказать Хуршиде о «чести», выпавшей на ее долю.
Опять Кок-сарай, опять гарем… сначала Абдул-Азиза, теперь Мирзы Абдул-Латифа, «милостивого повелителя»!
Мавляна Мухиддин не смел ослушаться, стал сам себя убеждать, что ему истинно оказывают честь.
Потому и испугался мавляна, когда пришла к нему дочь, – не был, не был готов передать ей новость. А уж теперь и совсем непонятно, как подойти к нужному разговору, чем залить пламя негодования, которое, он предвидел, охватит Хуршиду-бану.
– Не о том мы говорим сегодня, доченька… не о том… Прости меня, но сам повелитель пожелал… Тебе об этом скажет кормилица, иди к ней, иди… И прости меня…
Смерч вдруг улегся в душе Хуршиды-бану. Осталась опустошенная, голая земля. Она еще не знала, какая беда пала на нее, но при виде отца, так круто повернувшего разговор, беспомощно плакавшего в платок, подносимый к глазам и носу, поняла, что беда огромна.
Шатаясь, она вышла под остервенелый ветер, под дождь и снег. Скрипели, безнадежно стенали старые деревья в саду. Двор был пуст. Лишь от ворот невнятно долетали голоса сторожей.
Она пошла на эти голоса, не зная зачем, не чувствуя холодной влаги, струившейся по одежде и телу, и вдруг страшная догадка пронзила ее всю, и, чтоб не упасть тут же, она схватилась за подпорку для виноградных лоз.
«Прости меня, но сам повелитель пожелал… Я слабый и больной человек…» – закружились слова отца… И эти важные гости из Кок-сарая. И беготня слуг в доме… Суетливость деда, ушедшего куда-то в такую непогоду…
В памяти ее всплыло лицо Абдул-Азиза, бледное, бескровное, с трясущимся от слабости и вожделения подбородком!
«Бежать! Сейчас же!.. Кинуться в Зеравшан! Повеситься!.. Только не гарем! Только не сидеть, не ждать… Этот дом проклят, проклят!»
И под ледяными струями дождя Хуршида-бану побежала к себе.
Скорее, скорее!
17…Али Кушчи поднялся с циновки: надо было походить, немного размять отекшие ноги. Дважды обошел он узкую, будто клетка, темницу; ослабелые, исхудавшие ноги едва держали его, и приходилось останавливаться, сгибаться, чтобы растереть их; но стоило наклонить голову, как начинала она кружиться, и Али Кушчи в изнеможении приваливался спиной или боком к спасительной стене.
Он закрыл глаза, и словно в насмешку тотчас пригрезилась картина: мавляна Мухиддин среди своих домашних, в тепле, закутывается поплотнее в соболью шубу, тянет ступни к огню сандала – от этой картины собственные ноги заныли еще сильнее, нестерпимая, тупо ноющая боль загнала его вновь на циновку. Но сидеть на ней все равно что сидеть на льду. «Сырой и холодный пол погубит мне ноги», – подумалось узнику. Но ведь не простоишь день и ночь напролет стоймя…
Склониться перед шах-заде, пасть ниц, указать дорогу к Драконовой пещере – и тут же тебе избавление от этой мрачной, похожей на могилу темницы, тут же очутился бы и ты в светлой и теплой комнате, и ноги твои, протянутые к очагу, покрытые шелковым одеялом, покоились бы на решетке сандала, нежились бы в тепле, источаемом угольями. Тогда и трактат свой излюбленный, про светила, про их движение… в тепле, в уюте закончил бы… Ведь сказал же Мирза Абдул-Латиф, что сделает тебя историком при дворе.
Появятся новые книги, уже о «великих милостях» Мирзы Абдул-Латифа, книги, тобою написанные, книги, которые принесут тебе то, чего у тебя никогда не было, – богатство. А слава… будет слава, пойдет о тебе слава… только другая!
Али Кушчи мотнул головой, будто гонимый этими мыслями, быстро, отчаянно зашагал по темнице.
– Сундук золота будет стоять у тебя в углу, – саркастически произнес он вслух и подумал: «О аллах, да что это со мной?.. Избавь от наваждения, поддержи меня, продли терпение мое».
Он снова помотал головой. Собрав всю волю, переключился мыслями на трактат… На чем он остановился в прошлый раз? А, на затмениях… Бывают затмения планет. Луны. Солнца… Полные и частичные – «кусуфи кулли, кусуфи джузъи». Затмение происходит из-за взаимосвязи движений земли и луны относительно Солнца. Это ясно как день… Кому ясно? Ему? Ученым мужам? Улемы содрогаются от одного только слова «движение».
Али Кушчи припомнил: споры о движении звезд, о чем он сейчас думал, желая найти своим выводам строгую математическую форму, шли еще при жизни досточтимых учителей Кази-заде Руми и Гиясиддина Джамшида. Тогда еще не было обсерватории устода, и потому о расположении и времени перемещения светил можно было говорить лишь приблизительно. За двадцать лет устод – истинно достойный рая! – создал весьма полную таблицу движения небесных тел, их верхних и нижних стояний. Вот если бы таблицы эти были сейчас здесь, под рукой, он легче обошелся бы тогда без пера и бумаги!
Драконова пещера предстала пред мысленным взором ученого. И заветный сундук, где покоятся до поры до времени (о творец, до какого времени? до какой поры?) сорок шесть таблиц, обозначающих местоположение тысячи двадцати двух звезд в небесном пространстве по временам года. Как любил устод рассматривать эти таблицы, просто рассматривать – не только работать с ними. Нанесенные золотой краской на бумагу звезды казались живыми, будто сошедшими с настоящего темно-синего небесного свода на этот, нарисованный столь искусно.
Али Кушчи попытался вспомнить таблицы, точно воспроизвести их вид в уме – это оказалось свыше сил. Зато припомнилась сразу же стычка шестилетней давности, происшедшая между повелителем-устодом и шейхом Низамиддином Хомушем, может, потому припомнилась, что, странное дело, слова шейха точь-в-точь совпадали с теми, что услышал он недавно из уст шах-заде.
Была тогда пятница – джума, – день самых больших, самых торжественных молений за неделю. Улугбек и его свита, в которой был и Али Кушчи, торопились, завершив охоту, в соборную мечеть. Но, увы, опоздали, как ни торопились. У ворот мечети султана встретил шейх-уль-ислам Бурханиддин, провел их во двор: проповедь уже была прочитана, но для молитвы время еще оставалось. Они быстро совершили омовение, приступили к молитве, но тут во дворе раздался какой-то шум. Властный голос воззвал несколько раз: «Эй, правоверные!»
Али Кушчи был ближе к двери, чем остальные из свиты устода. И как ни старался сосредоточиться на молитвенных словах, то, что происходило рядом, во дворе, все больше отвлекало его от богоугодного дела. А во дворе властный голос, все больше распаляясь, обличал, гремел, призывал кары небесные на… кого?., да на него, в частности, на Али Кушчи, потому, как гремел голос, много, много развелось в столице лжемудрых ученых мужей, предерзостно покусившихся на сокрытые от человека тайны неба – царства творца, и не только себя совративших с пути истинного, но совращающих и других правоверных мусульман.
Все это слышал, конечно, и Улугбек. Закончив молитву, он порывисто встал с колен. Бледное лицо его, гневно и плотно сжатые губы промелькнули мимо Али Кушчи, который поспешил за ним из мечети. Они увидели стоящего на открытом в глубине двора айване шейха Низамиддина Хомуша, а перед ним толпу улемов в белых покрывалах и в белых чалмах; пред ними-то шейх и витийствовал, красивый, статный, в то время более стройный, чем ныне, в одной руке неизменные четки, в другой все та же, что и ныне, любимая трость. Увидев повелителя, шейх не дрогнул, напротив, гневного красноречия его будто прибавилось, он красиво взмахивал тростью, красиво играл глазами, а когда Улугбек приблизился, воскликнул:
– Да будет сам повелитель наш свидетелем истинности моих слов!
Устод взошел на айван, остановился поодаль от говорившего.
– Не понял ваших слов о кощунстве ученых мужей, шейх.
– А разве не великое кощунство, о заблудший раб аллаха, считать, будто земля, сотворенная всевышним ровной и плоской, есть шар?
Устод еще крепче сжал губы. Помолчав, молвил:
– Простите, светлейший, но истину эту задолго до нас… пятьсот лет назад доказал мудрейший Абу Рейхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни.
– Сей Мухаммад, надеюсь, не пророк Мухаммад, и потому его слово…
– Он не посланник бога, но разумом своим славен во всем мире!
– Но он не пророк и не сын пророка, продолжаю утверждать я!.. А кто надоумил ученых мужей, кто, если не дьявол, внушил им сравнения царства всевышнего – неба – с океаном, а свечей аллаха – звезд – с рыбами в том океане?
Улугбек нетерпеливо перебил шейха:
– Нет, не дьявол толкнул моего шагирда Али Кушчи на такое сравнение. Он собственным умом дошел до этого сравнения. А что в нем кажется вам страшного?
– Вот видите, вот видите. – Шейх оставил насмешливый вопрос Улугбека без ответа. – Венценосец мусульман и его шагирды… – воззвал он снова к улемам, стоявшим пред спорящими со склоненными главами и бородами. – Венценосец мусульман и его шагирды освободили сердца свои от слов святого Корана, где сказано: «Ва лакад зайиана ас-самоад-ад-дунё бимасохибия ва жаханноха…» – «Мы украсили небо над миром светильниками, сотворив их из камней, чтобы бросать ими в шайтана…» Вы, видно, забыли сей стих, повелитель?
– Нет, стих этот у меня на памяти, светлейший шейх. Но не забыли ли вы, для чего всевышний дал рабу своему, человеку, разум – не с той ли целью, дабы он добывал им знания, оказался способен к размышлению?
– Истинная правда, для этого! – раздался вдруг возглас шейх-уль-ислама Бурханиддина. Поправив чалму, он хотел было тоже выйти из толпы и присоединиться к спорящим на айване. Но шейх, будто не в силах совладать с гневом, закричал, распахнув руки, как бы не подпуская к себе святотатца:
– Прочь, не смей подниматься сюда, шейх-уль-ислам! Пристало ли шейху-уль-исламу топтать каноны нашей веры?!
– Ну, хватит лицедейства! – Улугбек тоже повысил голос. – Ваше дело, шейх, сидеть в ханаке и заниматься тари-катом! Духовное самоочищение не только подобает вам, но и весьма необходимо. От вас все смуты, низкие наветы, заговоры. А заговорщиков… за ними я посылаю воинов, их хватают и бросают в зиндан. Знайте это, шейх!
И повелитель-устод, как помнит Али Кушчи, сошел с айвана, а растерянный шейх замкнул уста, ибо взгляд его, обращенный за поддержкой к улемам, стоявшим внизу, наткнулся на ряд белых тюрбанов, склоненных в поклоне перед всесильным в те времена Мирзой Улугбеком. Ни звука не проронили улемы!
Учитель, придя вечером того же дня в обсерваторию, все никак не мог успокоиться – вглядывался ли он в таблицы и в небо, медленно прохаживался ли по библиотеке, с губ его то и дело срывались вздохи и одно лишь слово: невежды, невежды, невежды…
Да, это он, Али Кушчи, некогда действительно сравнивал небо с океаном, а звезды с рыбами, чтобы не говорить прямо о подвижной сфере небесной, и образ этот, помнится, вызвал улыбку понимания и похвалу учителя…
Ну хорошо, он и теперь не склонится перед Абдул-Латифом, перед невеждами. Устоит! Но ведь сил его хватит ненадолго, он погибнет здесь, в этой темнице-скорлупе. Тогда-то что будет с сокровищами Драконовой пещеры? Кроме него, тайну знает Мирам Чалаби. Но он всего лишь юноша, талиб, не вышедший еще из несовершеннолетия. Что сможет Мирам Чалаби без него, Али Кушчи?
Узник откинулся к стене, расслабил мышцы: тяжелая усталость отзывалась в каждой клеточке тела, пригибала к полу.
Али Кушчи снова хотел лечь на циновку, но тут скрипнуло смотровое окно в двери. Он подошел к двери, зная, что сейчас окошко отворится и в снопике лучей, пробивающихся через отверстие, что не больше ладони взрослого мужчины, он увидит протянутую лепешку. Так случилось и на сей раз. Только… только лепешка была непохожа на ту, что обычно ему давали. Та была из ячменя, размером с пиалу, а эта – тукач, из кукурузной муки, толстая, круглая. Окошко не закрылось тут же, как обычно, и Али Кушчи выглянул в коридор. Стражник – было чему удивиться! – не прогнал его, а, молча сделав какой-то непонятный знак, просунул в отверстие небольшой чугунный кумган.
С кумганом и лепешкой в руках Али Кушчи отошел в угол, где расстелена была холодная циновка. Поставил кумган на пол и, не присаживаясь, разломил лепешку: не потому, что очень хотел есть, в последние дни голод породил уже безразличие к еде, а скорее, чтобы убить время. Разломил тукач, и – впрямь будто услышал всевышний его моления!.. – увидел в изломе двух половин хлебца свернутую в тугую трубочку бумажку («Записка?!»), малюсенький кинжальчик и карандашик.
Гулко и быстро застучало сердце. Превозмогая боль в ногах, мавляна подбежал к двери – странное дело, глазок еще не был закрыт с обратной стороны. Узник прижался спиной к двери, так, чтобы его не было видно, если посмотреть из коридора внутрь темницы, развернул бумажку («Точно, записка!») и в слабом снопике света прочел: «Дорогой устод! Мы и днем и ночью молим аллаха, чтобы даровал он вам здоровье. Это первое. Второе: хотим знать, что нужно нам сделать, чтобы облегчить страдания, павшие на вашу долю. Напишите об этом на обратной стороне этой записки. Выпив воду из кумгана, засуньте листок в его носик – кумган вынесут верные люди и передадут нам. Мы вам верны, как отцу. Мы пробьемся к вам. Пробьем проход к вашему сердцу, вызволим вас из тьмы… Надейтесь, и да исполнит аллах желаемое нами! Ваши шагирды».
Али Кушчи почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Растроганно усмехнулся. «Ну вот, только слез не хватало, мавляна Али!»
Кто же эти верные «ваши шагирды»? Мирам Чалаби? Слишком молод Мирам. Мансур Каши? Вряд ли, уж больно тих и смирен мударрис, а это написала отчаянная голова. Каландар, ей-ей, Каландар, бесстрашный удалой степняк Каландар! А кинжальчик, видно, от Уста Тимура Самарканди…
Только что же он будет с этим кинжальчиком делать? Карандаш затачивать?.. «Мы пробьемся к вам. Пробьем проход к вашему сердцу, вызволим вас из тьмы…» В чем смысл этих слов? В том ли, что смельчаки попытаются сделать подкоп?
У Али Кушчи внезапно закружилась голова. Теперь уж ему совсем не усидеть на месте! Держась за бугристо-шершавую поверхность стен, он опять обошел всю клетку.
«Нет, невозможно пробить эти камни, сделать проход в гранитной породе! Мечта пустая!.. „Надейтесь“? Но кто, кроме простаков, никогда не видевших вблизи темниц Кок-сарая, может надеяться проломить этот гранит? Его перетаскали, его сложили здесь тысячи и тысячи рабов самого Тимура Сахибки-рана!.. Шагирды мои, вы не знаете, что такое кок-сарайский зиндан!.. И тебе, мавляна Али, взрослому и, как я слышал, разумному человеку, не надо надеяться на подкоп. Надо одно: длить и длить терпение свое, мудрейший из мудрых!»
Оконце еще посылало ему снопик света. И Али Кушчи на обратной стороне записки написал всего лишь два слова: «Бумага. Карандаш». Подумав, добавил: «Мать, Тиллябиби». Потом одним духом осушил кумган, спрятал бумажку так, как его научили, подошел к двери, слегка постучал и, когда оконце в двери приоткрылось пошире, протянул кумган сторожившему воину.