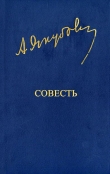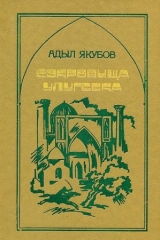
Текст книги "Сокровища Улугбека"
Автор книги: Адыл Якубов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
Адыл Якубов
Сокровища Улугбека

День вчерашний – день нынешний (Вступительная статья)
Он был Тимуридом. Внуком Железного Хромца, «Потрясателя Вселенной». Но душа его тянулась не к мечу, не к захвату и грабежу чужих земель, не к завоевательным походам, а к знанию.
Его слава – это поражавшая современников эрудиция: «В геометрии он был подобен Евклиду, а в астрономии – Птолемею».
Его слава – это блестящая плеяда талантов, работавших рядом с ним, под его покровительством: Кази-заде Руми, Али Кушчи, Мухаммед Хорезми, Гиясуддин Джамшид.
Его слава – это точнейшие астрономические таблицы, составлению которых он отдал десятилетия жизни.
Его слава – это изысканная архитектура медресе, возведенных им тогда в Бухаре и Самарканде; это его обсерватория – лучшая в тогдашнем мире, подлинное чудо инженерного и астрономического расчета.
Они и сейчас величественны, развалины некогда грандиозного сооружения. Глубокая траншея, прорезавшая холм, проложенные по ее дну дуги гигантского секстанта. Вырывающаяся из-под земли, набирающая разгон траектория каменных лент словно бы символизирует дерзость разума, его порыв в небо. Но траектория насильственно оборвана. И это тоже символ. Зловещее напоминание о ярости невежд, о слепом фанатизме, о ненависти к Улугбеку, повелевшему начертать на дверях бухарского медресе гордые слова: «Стремление к знанию является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки».
И нетрудно понять мотивы, которые побудили Адыла Якубова обратиться в романе «Сокровища Улугбека» к этой трагической судьбе и к этой трагической эпохе.
Исторический жанр в узбекской советской прозе сравнительно молод. Но, несмотря на молодость, достижения его значительны. Всесоюзную известность обрел опубликованный еще в 1944 году роман Айбека «Навои». Тогда, в годы войны, писатель обратился к прошлому, чтобы укрепить священное чувство патриотической гордости за свою землю, за свой народ и его культуру. Чувство, ставшее мощным оружием в борьбе с фашистским варварством.
Новая приливная волна исторической романистики относится к шестидесятым – семидесятым годам. Причем поднялась она не только в Узбекистане, но и во всех соседних республиках. Достаточно сослаться на книги А. Алимжанова, И. Есенберлина, Р. Касымбекова, А. Кекильбаева, С. Санбаева, С. Улугзоды, Р. Хади-заде и других. И вот что хотелось бы сразу подчеркнуть – тематическое богатство, необычайную стилевую многоцветность прозы. Тут и разработка легендарных, притчевых сюжетов, и пространные хроники, и биографические повествования. Причины этого жанрового расцвета разнообразны: стремление понять истоки трудовой, народной этики, стереть «белые пятна» с карты истории, осмыслить вклад своей нации в мировую культуру. «Я знаю, – писал в одной из статей О. Сулейменов, – что отношения моего народа с другими складывались не только в плане грубых действий, но и в культурном, гуманистическом плане. Эти знания крайне нужны нам, сегодняшним, когда мы не мыслим своей жизни без такого плодотворного сотрудничества, взаимодействия со всеми людьми, населяющими эту землю».
Вот и узбекская историческая проза семидесятых годов активно осваивала этот «культурный, гуманистический план» минувшего, те духовные ценности, в которых воплотился творческий гений народа. Таковы романы «Бабур» П. Кадырова, «Сокровища Улугбека» А. Якубова, «Зодчий» Мирмухсина. Их герои – поэт и полководец Бабур, ученый и правитель Улугбек, создатель бессмертных шедевров архитектуры.
Поэт и полководец, ученый и правитель… В самом сочетании этих слов скрыта некая двойственность, дисгармоничность. Двойственность, предостерегающая от упрощений, от идеализации, взывающая к точности, объективности анализа. И примером такого исследовательского мастерства было для узбекских романистов искусство Сергея Бородина, выдающегося русского прозаика, связавшего свою судьбу со Средней Азией. Его трилогия «Звезды над Самаркандом» воскресила для читателей кровавые времена Тимура, времена разбойничьих захватов и неисчислимых народных бедствий.
Покоряя чужие земли, Тимур не обременял себя соображениями морали, не беспокоился об оправданиях.
Для внука Тимура Улугбека категории добра и зла, истины и заблуждения уже не были призрачными химерами. В одном из эпизодов романа А. Якубова Улугбек размышляет о сентенциях Абхари: «…что есть истина? – спросили однажды мудреца Абубакира Тахира Абхари, и он ответил: „Наука“. „А что такое наука?“ – снова спросили его. И он ответил: „Истина“. А я бы добавил еще: „И добро…“
Хронологически книга Адыла Якубова как бы продолжает трилогию Бородина. От Тимура к его внукам и правнукам. Но продолжает по-своему: иная манера, иной круг тем, иная действительность.
В „Сокровищах Улугбека“ нет столь характерной для „Звезд над Самаркандом“ глобальности действия, сопряжения судеб стран и народов. Нет и детальной реконструкции биографии главного героя.
Перед нами – последние дни Улугбека. Смутные, скорбные дни назревающего переворота. Событийная фабула произведения динамична. Участившиеся мятежи. Измены вельмож, которые еще вчера клялись в своей преданности. Колебания Улугбека между соблазном выставить городское ополчение Самарканда и недоверием к простолюдинам. Ведь вооружить, „поднять чернь – значит еще больше поколебать верность эмиров“. И наконец, капитуляция перед взбунтовавшимся – сыном, глумление Абдул-Латифа над поверженным отцом, над священным чувством родства.
Тимур остается в трилогии С. Бородина непобежденным. И все же на склоне лет завоевателя обуревает то ли тревога, то ли недоумение. Ибо время подтачивает фундамент империи, ибо нет веры в потомков. А коли так, то что были его дела? Суета сует.
Такой же гнев на непокорное, неукрощенное время испытывает и Великий Повелитель из романа казахского прозаика А. Кекильбаева „Конец легенды“. Утопивший в крови „половину вселенной“, заставивший цепенеть от ужаса народы, он одинок на вершине своего могущества. И в этом одиночестве – признак бренности усилий, предвестие заката.
И Тимур, и Великий Повелитель – разрушители, а не созидатели. Это люди без будущего, люди, обреченные на проклятия потомков.
Улугбек же видит в грядущем своего союзника, восприемника своих мыслей. Умирая, он с благодарностью думает об учениках: „Коль есть такие ученики, жизнь, право, не прожита напрасно и не пропадут, нет, не пропадут ни сорокалетний труд собирания духовных сокровищ, ни собственные творения“.
И все же в противоположность своему венценосному предку, герой книги А. Якубова уходит из жизни не победителем, а побежденным. Четыре десятилетия трудился султан Улугбек для блага Мавераннахра, „тратил наследство деда не для захвата земель… а благоустраивал города и дороги, возводил медресе и ханаки“. Он старался быть милостивым, великодушным даже к своим противникам. Но вместо благодарности – ропот придворных, злоба духовенства, междоусобицы, смуты.
Однако Улугбек в концепции произведения не только обвинитель, но и обвиняемый. Писатель подходит к этой выдающейся личности с позиций историзма, не сглаживая, не затушевывая ее противоречий. Отсюда сложный нравственно-психологический рисунок образа.
И на страницах повествования не смолкает полемика об Улугбеке, перемежаются голоса одобрения и хулы. А. Якубов пробивается к объективной истине через разнобой субъективных оценок. К его персонажу устремлены взоры признательных учеников и разгневанных святош, самаркандских ремесленников и зарящегося на трон будущего отцеубийцы Абдул-Латифа.
Да, Улугбек навлек на себя ярость невежественных улемов. Однако кузнец Тимур Самарканди тоже упрекает его: „Умный человек, ученый, мудрец, наверное, все звезды пересчитал, говорят, будто все их тайны у знал… А зачем в последние годы войны затеял? Что не поделил, с кем? Войны да поборы истерзали дехкан…“
Эта полемика вокруг Улугбека переплетается в романе с его собственной исповедью. Отстраненный от власти, он придирчиво анализирует минувшее, перебирает в памяти четки лет. И суд над собой столь же строг, сколь и мучителен. Увы, далеко не все свои деяния может оправдать опальный султан. Разве не от его имени брошенные на усмирение бунта воины грабили кишлаки вокруг Герата? Разве не по его указу облагались непомерными поборами дехкане? И до сих пор печет стыд за случившееся на строительстве обсерватории. Не кто-нибудь, а он сам на глазах у почтенного Кази-заде Руми избил каменщика, взроптавшего на скверную пищу.
Закатные дни Улугбека становятся в концепции романа днями катарсиса. Возвышения души над суетным, ее самоочищения. И не страхом окрашены прощальные раздумья, а мудростью сострадания.
Конечно, Улугбек был сыном своего времени, воспитанным как на скрижалях Тимура, так и на сокровищах культуры восточного ренессанса. Конечно, его гуманизм был ограничен сословными предрассудками, самими обязанностями самодержца. Писатель постоянно учитывает двойственность натуры героя, расхождение интересов правителя и ученого. И „не перед султаном Улугбеком преклонялся“ самый верный его последователь Али Кушчи, а перед просветителем, обогнавшим свою эпоху, перед дерзостью гения, посягнувшего на непререкаемость догм Корана, не убоявшегося обвинений в ереси и богохульстве. Гения, отважно заявившего, что религия рассеивается, как туман, царства разрушаются, но труды ученых остаются на все времена.
Для деспотов типа Тимура смысл жизни отождествлялся с безграничной властью, с безраздельным господством над подданными.
Для Мирзы Улугбека трон уже не был фетишем. И не утраты привилегий опасалась душа – расставания с обсерваторией. Единственная просьба к захватившему престол сыну – об этом: пусть сохранит секстант, „пусть позволит заниматься отцу наукой, только наукой“.
Побежденный как государь, Улугбек побеждает как мыслитель. Приговоренный к смерти, он восходит к бессмертию.
Собственно говоря, мы видим великого ученого только в первой части романа. Вторая же часть озарена памятью о нем. Той самой памятью, которая, сокрушая запреты и клевету, пробивает дорогу в будущее.
Эпическое повествование А. Якубова охватывает массу событий, персонажей, сюжетных линий. Это и расследование тайн заговора, и перипетии спасения библиотеки, и превратности любви дервиша Каландара Карнаки к Хуршиде-бану. Столь же разнообразны и интерьеры действия: дворцовые покои и мрачные подземелья тюрьмы, чертоги вельмож и темные улочки окраин. Чередование планов поочередно приближает к нам астронома Али Кушчи и отступника Мухиддина, шах-заде Абдул-Латифа и шейха Низамиддина Хомуша, Каландара Карнаки и кузнеца Тимура. Такая композиция создает многоцветную картину Самарканда, мозаику быта, нравов, обычаев, страстей.
Правда, писателю не всегда удается свести разветвленные сюжетные ходы к общему философскому знаменателю, выдержать тональность, заданную присутствием мирзы Улугбека. И тогда возникают досадные подмены: напряжение интеллектуального, нравственного анализа уступает место напряжению занимательной интриги, проникновение во внутренний мир личности – информационному описанию. Явно бесплотна, например, фигура кузнеца Тимура, призванного олицетворять глас народа.
Подлинный же успех сопутствует художнику там, где он верен своей исследовательской миссии, где он бережно чуток к реальности исторической хроники, к специфике тогдашнего противоборства Света и тьмы.
Книга А. Якубова приблизила к нам далекую и грозную эпоху Тимуридов, обозначила нерасторжимые связи между прошлым и настоящим, преемственность гуманистических традиций. В узбекской исторической прозе это социально-аналитическое полотно по праву занимает место рядом с таким выдающимся творением, как роман Айбека „Навои“.
Между тем обращение писателя к „преданьям старины глубокой“ было в общем-то неожиданным. Слишком уж прочно его имя ассоциировалось с проблемами современности. На протяжении двух десятков лет.
Внешне писательская манера не слишком изменилась: то же чередование ракурсов, проблем, характеров. Все та же изобретательность в разработке интриги. И тем не менее трансформация художественного почерка очевидна. Только не внешняя, а внутренняя, глубинная.
Л. Теракопян
Часть первая

Было за полночь, и в обсерватории стояла гулкая тишина.
Али Кушчи, как обычно, еще с вечера занял свое место для наблюдений за перемещениями светил. Но на сей раз он не провел ночь в любимой напряженно-спокойной работе: какое-то недомогание томило его. Мавляна[1]1
Мавляна (ист.) – букв.: господин наш; титул мусульманских богословов и ученых.
[Закрыть] отложил в сторону астрономические приборы, привстал в кресле, и с этим его движением совпал неясный шум на верхнем ярусе обсерватории. Послышались чьи-то шаги.
Они не были похожи на мягкую, размеренно чинную поступь талибов[2]2
Талиб – учащийся духовного училища – медресе.
[Закрыть], студентов медресе, юношей, чающих изучить науки о звездах, а скорее напоминали бесцеремонный шаг воинов – нукеров[3]3
Нукеры – дружинники на службе феодальной знати, правителей.
[Закрыть]. Али Кушчи, подняв голову, остановил взгляд на маленькой, чуть более окна, двери, что пробита была наверху, у спуска к секстанту.
Дверца распахнулась, резкий стук нарушил тишину, и в помещение, залитое чернильной мглой, вступили два нукера с горящими факелами в руках. Хриплый голос повелительно произнес:
– Мавляна Али Кушчи! Великий султан Мирза Улугбек Гураган высочайше соизволил приказать, чтобы вы поспешили к нему в Голубой дворец!
Али Кушчи, приставив ладонь ребром к надбровью, силился разглядеть бородатые лица нукеров, но без успеха: слишком высоко над головами они держали факелы.
– Повремените немного, – попросил Али Кушчи. – Мне нужно сложить приборы.
– Простите, мавляна, но приказ велит поспешать. Кони ждут у ворот.
И нукеры, простучав подковками сапог по мраморным плитам, удалились. Отблеск их факелов на мгновение осветил позолоту стен, тут же исчез, и еще темнее стало в обсерватории. Только крупные белые звезды можно было различить через отверстие в потолке. Свет их проникал сюда, в обсерваторию, и падал на секстант, установленный внизу, на эту открытую для устода[4]4
Устод (устоз) – учитель, наставник.
[Закрыть] Улугбека книгу, читая которую он разгадывал тайны движения далеких небесных светил.
Шагирд[5]5
Шагирд – ученик, последователь.
[Закрыть] Улугбека Али Кушчи привык не торопиться в случаях важных и требующих душевной сосредоточенности; потому и теперь, зажав в руке короткую клиновидную бородку, он постоял минуту-другую, глядя на темный лоскут неба над головой.
Нукеры нетерпеливы, хотя и почтительны. Такими нередко бывают посланцы беды. Но что могло случиться в Кок-сарае – Голубом дворце именно сейчас, глубокой ночью?
Позавчера в предрассветную рань повелитель сам пришел в обсерваторию. Он не вычислял, не писал, не диктовал. Сел в любимое кресло, накрытое тигровой шкурой, и долго молча всматривался в темно-синюю бездну, полную крупных белых звезд. Читал судьбу.
Али Кушчи знал, что в нынешнем году, как и в год рождения Тимура Сахибкирана, надо ждать близкого противостояния владыки неба Юпитера и Венеры. Внук Тимура Улугбек, обеспокоенный треволнениями государственными, связывал с этим противостоянием какие-то свои надежды. Но чего он мог ожидать от судьбы, как видно, не благосклонной к нему?
Два года назад из далекого Герата пришла скорбная весть: умер отец Улугбека, могучий Шахрух, Шахрух-счастливец, как его называли, владыка, обогнавший в удаче и богатстве многих других наследников Тимура, а тем паче мятежников из некогда покоренных Сахибкираном племен и династий, – пришла эта весть в Самарканд, и вот уже два года не рассеиваются черные тучи зла и неурядиц над Мавераннахром и Хорасаном. Немало было тех, кто рвался к Тимурову престолу; не раз Шахруху приходилось помогать сыну утверждаться вновь и вновь над Самаркандом и всем Мавераннахром или отбиваться от бунтовщиков вассалов, от ферганцев и туркмен, от моголистанцев и кочевых узбеков, и вот, когда наконец выяснилось, что сабля устода острей иных и в государстве, можно было думать, установилось спокойствие, столь необходимое и для торговли, и для занятий астрономией и медициной, и для сочинения стихов и музыки, тогда-то и поднял оружие наследник Улугбека, собственный его сын Абдул-Латиф. С годами Улугбек становился все менее склонным к воинским утехам, но в начале месяца раджаб[6]6
Раджаб – название седьмого месяца мусульманского лунного календаря.
[Закрыть] пришлось ему собрать войско и спешно выступить к Джейхуну[7]7
Джейхун (араб.) – бешеная, так арабы прозвали Амударью
[Закрыть]. Однако смута и заговор, вспыхнувшие в столице в его отсутствие, заставили повелителя вернуться в Самарканд. Несколько дней как он здесь, а все ходят по городу подлые, сеющие страх слухи, будто конница мятежника Абдул-Латифа преодолела бешеную реку и подошла уже к Кешу[8]8
Кеш – старинное название города Шахрисабза.
[Закрыть].
Кто знает, может, так оно и есть, хотя досточтимый устод третьего дня в обсерватории не сказал о том ни слова. Устод Улугбек долго сидел тогда, сидел и молчал, углубленный в свои думы, а потом, устало ступая по мраморной лестнице, поднялся на второй ярус в книгохранилище. Медленно и рассеянно, словно в забытьи, обозревал в тот раз Улугбек бесчисленные книги, уложенные на полках от пола до потолка, множество редких и редчайших рукописей, собранных им здесь за долгие десятилетия управления Самаркандом. Устод, видно, вспомнил, стоя в библиотеке, покойного наставника своего Салахиддина Казизаде Руми, перелистал его «Математику», после чего, тяжело опустив голову, все также молча и тихо направился к выходу.
Досточтимый учитель, да смилостивится над ним всевышний, приходил попрощаться с обсерваторией, любимым детищем, созданием своим, – вот что понял тогда Али Кушчи и вот что последние два дня отзывалось в груди щемящей болью, не давая работать. Печальное лицо устода так и стояло с тех пор перед глазами Али Кушчи; несколько раз мавляна порывался пойти в Кок-сарай, но сделать это без приглашения не хватало духу. Теперь же сам устод повелел явиться ему, Али Кушчи, в Голубой дворец…
Али Кушчи намотал поверх темной бархатной тюбетейки чалму мударрисов, преподавателей медресе, надел парчовый жилет, поверху набросил на плечи белый чекмень[9]9
Чекмень – верхняя одежда типа халата из грубого сукна верблюжьей шерсти. Чилим – прибор для курения типа кальяна.
[Закрыть] из верблюжьей шерсти. Мысленно успокаивая себя, стал подниматься по крутым каменным ступеням…
Небо блестело, словно хорошо протертый темно-синий фарфор, перемигивались звезды, но месяц шагбан[10]10
Шагбан – десятый месяц мусульманского лунного календаря.
[Закрыть] уже вступил в свои права. Было холодно, с гор порывисто дул ветер, деревья шумели, будто река на перекатах; старые тутовники и крепкие чинары скрипели, жаловались на приход осени.
Али Кушчи вышел во двор обсерватории.
У ворот стояли, дожидаясь Али Кушчи, воины с лошадьми. Один из них подвел нетерпеливо всхрапывающего коня и взял ученого под руку, чтобы помочь взобраться на скакуна. Но Али Кушчи сам нашел в темноте стремя, удержал норовистого коня, легко вскочил в седло: недаром мавляна носил имя Кушчи, что значит – ловчий-соколятник, и не раз на пышных охотничьих гонах султана мчался он на ретивом за добычей.
Вскоре цокот копыт раздался в ночи; один нукер поехал вперед, другой рядом с Али Кушчи. Так они пересекли речку Сиаб, поднялись на древние холмы Афрасиаба. Слева от них смутно замаячили высокие купола Шахи-Зинда, средоточия усыпальниц владык. Ночь была без луны, но лазурь куполов отражала свет звезд и разливала вокруг себя голубое мерцание. Откуда-то с кладбища, видимо из усыпальницы святого Кусама ибн-Аббаса, догадался мавляна, донеслось до всадников унылораспевное чтение Корана; голос был полон такой печали, что казалось, будто идет он из иного, потустороннего мира.
И в том мире кто-то стенал, и там кто-то жаловался на судьбу.
Все тут чудилось жутковатым, таинственным.
Впрочем, недолго так чудилось… Чем ближе к соборной мечети и к Регистану[11]11
Регистан – дворцовая площадь.
[Закрыть], тем чаще попадались воины у костров – по десятку вокруг каждого костра. Нукер впереди словно расчищал путь перед Али Кушчи. А выехав на Регистан, они увидели, что и вся эта огромная площадь полна воинов. Со стороны медресе Мирзы Улугбека – о, истинное украшение славного Самарканда! – ученому послышалось сквозь приглушенный шум человеческих голосов и звяканье оружия мрачное, самозабвенное пение – то дервиши[12]12
Дервиш – отшельник, аскет, блаженный, не от мира сего.
[Закрыть] из ханаки[13]13
Ханака – странноприимный дом.
[Закрыть], что расположились напротив величественного медресе, начали свое раденье:
О аллах, о всемогущий,
О создатель наш аллах!
Пение это будто не бога прославляло, а угрожало кому-то: может, так казалось потому, что над городом нависла опасность.
Али Кушчи и нукеры миновали Регистан и углубились в узкие улочки, образованные длинными рядами лавчонок под навесами. Выехали к Кок-сараю. Высоченные зубчатые стены высились в ночи, как горы. Окруженный рвом дворец был похож на крепость, но Али Кушчи, глядя на купола за стеной, мрачные и черные, опять вспомнил об огромном кладбище, об усыпальницах владык Тимурова корня.
Во дворце – ни единого огонька. Ни один костер не горел у ворот.
Перед самым дворцом, в темноте, что хоть глаз коли, всадников остановила стража. В каменных фонарях чуть теплился огонь; латы слегка серебрились, и щиты были словно не совсем затененные зеркала; робкий свет порою выхватывал из тьмы наконечники длинных копий.
Прибывшие прошли первый ряд стражи, приблизились к громадным воротам, тут им снова преградили путь охранники с обнаженными кривыми саблями в руках. Нукер показал свернутую трубочкой грамоту, гостей пропустили в дарваза-хану, предвратное помещение для караульных. Звон – тяжелых цепей и трудный скрип двустворчатых железных дверей – и перед ними проход во дворец, а на пороге знакомый привратник с таким же, как у стражников, фонарем.
Али Кушчи соскочил с коня. Нукер принял поводья. Привратник склонился в поклоне, посветил фонарем, пропустил ученого вперед.
Изнутри огромный двор слабо, но освещался. В мерцании огоньков открывались стены с нишами, ползли куда-то вверх высокие башни, в которых таились, как о том знал Али Кушчи, пушки и метательные орудия; налево виднелись приземистые, будто вбитые в землю, строения канцелярии, за ними огорожены были домики гарема, а сам дворец поблескивал золочеными куполами в правой стороне двора. «Угрюмо, как в Шахи-Зинда», – подумалось снова… И тихо было вокруг, лишь откуда-то из-под земли доносился неясный гул: видно, в подземельях работали оружейники.
Привратник миновал мраморный водоем, окруженный кольцом душистых елей, и подошел к высокому с двумя массивными овальными башнями по бокам порталу главного здания. Стражники, что стояли по обеим сторонам входа, расторопно открыли деревянные резные двери, обитые блестящими медными полосами.
Узкий полутемный коридор вел в просторную, ярко освещенную комнату с мраморной лестницей в левом углу, что соединяла нижний и верхний этажи дворца.
Здесь их встретил сарайбон – дворецкий, неразговорчивый, замкнутый человек. Жестом пригласил ученого следовать за собой.
Зала на втором этаже тоже была пуста. Сарайбон, пройдя к двери напротив, скрылся в следующей зале – там обычно повелитель принимал гостей и устраивал советы. Из-за двери, на миг приоткрывшейся, до Али Кушчи донесся глуховатый ‘ голос устода: видно, Улугбек был раздражен и потому необычно резок. Но сарайбон плотно прикрыл дверь за собою, и голос исчез.
Али Кушчи не раз бывал в этой зале.
Тонкие языки пламени множества свечей, подобранных по размеру и толщине одна к одной, ярко вспыхивали и колыхались, отражаясь в золотом ободе люстры. По всем четырем стенам были развешаны ковры ширазской работы, а поверх них охотничьи трофеи и воинские доспехи повелителя… Над аркой небольшого оконца, что напротив входа, чуть выше украшенной каменьями кольчуги, разветвились огромные – не охватишь руками – рога архара. Гордость устода! Он сам повалил этого архара во время осенней охоты в Гиссарских горах, и по его приказу могучие рога украсили изумрудами… А рядом над красным сафьяновым колчаном, полным длинных гибких стрел, распялена по стене тигровая шкура – добыча с берегов Джейхуна, когда повелитель возвращался домой после трудной хорасанской войны.
Тогда Улугбек, устав от тяжелого и совсем не победоносного похода, послал в Самарканд за Али Кушчи особого гонца. Приезд ученика к учителю оказался вдвойне счастливым. Не только беседами насладился устод. Во время охоты случилось так, что выскочил внезапно из густых камышовых зарослей на берегу вот этот тигр и кинулся на Улугбека. Али Кушчи, шедший неподалеку от султана в цепи охотников с луком наготове, первым опомнился и первым успел пустить стрелу. Непостижимое везенье, благосклонность судьбы! Стрела угодила точно в правый глаз зверя, яд подействовал мгновенно, и тигр, подпрыгнув высоко вверх, с ревом пал прямо к ногам устода. Не раз потом при сановниках Улугбек называл Али Кушчи своим спасителем. Кому ведомо зачем – может, для того, чтобы оправдать свою милость к нему, дружбу с ним? Чтобы отвести зависть придворных от неродовитого мавляны?
Али Кушчи грустно усмехнулся. Вспомнилось, как некогда впервые переступил он по милости устода порог Кок-сарая: разволновался тогда столь сильно, что шагу не мог ступить дальше мраморного водоема во дворе. От робости, от священного трепета, как эту робость называют, у него колени дрожали, стоило только подумать, что здесь, в этих раззолоченных палатах, жил, вынашивал свои тайные мирозавоевательные замыслы сам Тимур Гураган, султан Сахибкиран, велевший именовать себя не султаном, а просто военачальником-эмиром. А ныне?.. Нет уже Тимура, потрясателя вселенной. И нет больше страха в душе Али Кушчи… Вот он снова в этом дворце дворцов, в чертогах того, пред кем трепетало полмира, в сердце же мавляны совсем иное чувство – горькая, щемящая боль. Нет, не оттого, что хиреет величественный Голубой дворец, что его не украшают военные трофеи. Вовсе нет. Сердце Али Кушчи тревожится за устода, над головой которого, совсем уже седой, поднялись черные тучи междоусобицы.
Отчего ополчилась судьба на Мирзу Улугбека? За что она мстит ему?.. Знает об этом Али Кушчи, знает, хотя боится сказать вслух… Устод сдернул покров тайны с небесных светил, открыл новые звезды, постигнул мудрое устройство вселенной, удивил мир своими познаниями, но не понял того, что давно уже понял он, смиренный мавляна Али Кушчи. Выше многого-многого в жизни поставил устод разум и не понял, однако, сколь суетна борьба за власть, сколь ничтожен смысл обладания троном, да простятся такие мысли милостивым и всемогущим! Конечно, мысли эти еретические в глазах невежд, в глазах тех, кому не дано вкусить тяжких забот и светлых радостей разума, но мысли эти справедливы и праведны, ибо аллаху угоден вовсе не отказ от дерзости познания, не страх перед неведомым, а, напротив, именно дерзость и преодоление страха. Бесстрашен устод, истинно кладезь познаний, тот, кому, словно пять пальцев собственной руки, ясна история народов, династий, удачливых и неудачливых завоевателей… И при такой-то ясности ума не понять, что власть, подобно ветреной красавице, не остается верной до конца ни одному властелину, сколь бы удачлив, силен или страшен он поначалу ни был?.. Но, может быть, повелитель, да будет милостива к нему судьба, не захотел понять этого? Или, понимая, не нашел в себе сил отринуть соблазны власти, почести и радости трона?.. О, если бы он отдал себя, всего себя, весь свой пытливый ум, все дарования свои Науке, свет которой только и озаряет, только и возвеличивает само имя Человека! Почему так не случилось? Почему?
Двери распахнулись; дребезжащий дискант шейх-уль-ислама[14]14
Шейх-уль-ислам – глава духовенства в государствах Средней Азии.
[Закрыть] Бурханиддина долетел до ушей мавляны, прервав раздумья.
– Нет бога, кроме аллаха, а султаны, правители наши, его тени на земле. Повиновение законному повелителю – первейший долг подданных!
Слова верховного законника перекрыла разноголосица, но тут же и смолкла, знакомый властный голос произнес глухо, но внятно:
– Довольно споров! Слушайте приказ, повинуйтесь ему… Эмир Султаншах Барлас! Вместе с передовыми отрядами отправляйся в путь немедля!.. Эмир Султан Джандар! С основной частью конницы выезжай следом… Если аллах позволит, встретимся между Самаркандом и Кешем на перевале Даван… За участие в совете благодарю. Меджлис[15]15
Меджлис – совет, собрание, съезд.
[Закрыть] окончен!
Из покоев повелителя первым вышел Мираншах, даруга – градоначальник Самарканда. За ним теснились эмиры и вельможи в богатых красных, зеленых, синих халатах, в темных бобровых шапках. Лица у всех придворных хмурые. Мираншах на ходу одернул подпоясанный широким кушаком златотканый халат, чуть задержался, поправил пояс и саблю с золотой рукояткой, глянул исподлобья в угол на Али Кушчи и отвернулся. Еще раз поправил оружие. Полное круглое лицо его скривилось, но, ничего не сказав, Мираншах быстро пересек залу, и слышно стало, как он нарочито загромыхал по мраморной лестнице. Могучий телом, жгуче-черный бородач, любимец и ценитель женщин, эмир Джандар, придерживая кривую саблю, заспешил за Мираншахом.
Подобно этим вельможам ни один из следующих не ответил на вежливый поклон Али Кушчи. Лишь шейх-уль-ислам Бурха-ниддин протянул в сторону мавляны холено-белую, раскрытую, словно развернутый свиток, ладонь, то ли приветствуя таким странным жестом человека в углу, то ли просто распутывая нитку янтарных четок, которой обвита была рука законника.
Шейх-уль-ислам покинул залу последним.
И снова установилась тишина.
И в этой зале, и в соседней. И во всем огромном ночном дворце.
Может, досточтимый устод забыл, что вызвал Али Кушчи? Ведь столько трудных забот пало на его плечи!..
Но тут тихо приоткрылась резная дверь и показался Улугбек.