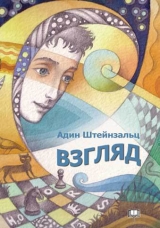
Текст книги "Взгляд"
Автор книги: Адин Штайнзальц
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Пути постижения
Предисловие к книге Дж. Шредера Шесть дней Творения и Большой взрыв. И-м, Даат, 2000.
Проблемы взаимоотношений науки и религии актуальны для иудаизма с момента его возникновения. Вот уже на протяжении нескольких тысячелетий лучшие умы человечества пытаются примирить две столь несхожие области познания, всякий раз наталкиваясь на множество серьезных проблем. Является ли наличие двух различных путей постижения единственным способом получения цельной картины мира, заложенным в самой его природе, или каждый из них самодостаточен и представляет собой альтернативу другому? Противоречат ли друг другу знания, полученные нами в результате Б-жественного Откровения, с одной стороны, и эмпирическим путем либо в результате интеллектуальных усилий, с другой? Насколько принципиальны различия между ними, есть ли смысл говорить лишь о точках пересечения или они все же на некотором уровне дополняют друг друга, образуя единую картину мироздания?
В средние века, да и в более поздние эпохи, некоторые религиозные философы полагали, что по мере увеличения суммарной информации об окружающем нас мире, исходя из накопленного опыта и благодаря интенсивной интеллектуальной деятельности, человечество еще достигнет качественно иного уровня сознания и обретет подлинно религиозное мироощущение. Этот подход рассматривает все противоречия между Откровением и наукой как временные, возникшие в силу недопонимания сути обоих способов познания и из-за ограниченных возможностей разума в каждый конкретный период.
Существовала и обратная точка зрения, согласно которой лишь серьезно занимающийся теологическими проблемами человек может претендовать на истинное познание и именно ему под силу компетентно решать не только вековечные метафизические, но и сугубо практические вопросы, затрагивающие все области бытия. Согласно этому подходу тот, кто глубоко, с подлинным прилежанием и усердием штудирует Тору, может найти в ней ответы на любые вопросы, которые ставит жизнь. При этом не имеет значения, о какой области знаний идет речь, о естественных науках или современных технологиях. Если же в отношении чего-либо мы не находим в Торе никакой информации, виной тому лишь наша лень и невнимательность. Этот подход хорошо иллюстрирует сказанное в Иерусалимском Талмуде: “Ибо это [Учение] не пустая вещь для вас”, а если пустая, то лишь потому, что вы не занимаетесь серьезно.
При всех различиях между ними оба подхода основаны на предпосылке, что и научный, и религиозный способы познания дают адекватное представление об окружающем нас мире, а поскольку это так, они рано или поздно должны слиться в единое целое, причем не только на уровне идей, но и в практическом смысле. Следовательно, их параллельное использование столь же легитимно, как и применение двух систем счисления – позиционной и непозиционной, двоичной и десятеричной: несмотря на то, что запись и расчет в них ведутся различными путями, результат один и тот же.
Стремление свести воедино религиозные и научные представления было очень распространено в средние века, однако оно свойственно и ряду современных исследователей. Тем не менее, многие ученые полностью или частично отвергают такой подход, обосновывая свое неприятие утверждением, что он был актуален лишь в эпоху всеобщей веры, когда религиозные воззрения представлялись неоспоримыми и не подлежащими критике. На самом деле сопротивление, оказываемое ими, вызвано вполне религиозным отношением к самому понятию наука. Средневековая научная мысль (и не в меньшей степени научная мысль девятнадцатого столетия, иная по содержанию, но подобная ей по категоричности) утверждала догмат о научной истине, абсолютной и неизменной. Так же, как среди религиозных людей есть искренне верующие, не оставляющие в сердце места сомнению в правоте своих представлений, и в мире науки существуют те, кто не обременяет себя вопросами адекватности современных научных представлений окружающей нас реальности.
На самом же деле ученые, исходя из сегодняшнего представления о естествознании с точки зрения современной физики и других точных наук, уже отказались от принципов детерминизма и объективизма, непременно оговаривая любое утверждение ссылкой на систему координат, используемую в этом случае. Таким же образом дело обстоит в любой области, которой занимается наука на нынешнем этапе. Казалось бы, еще в средневековье научная истина была чем-то однозначным, определенным и всеобъемлющим, но уже аристотелевское определение реальности предполагало относительность человеческого знания, что и позволяет нам не только критиковать воззрения Аристотеля с позиций сегодняшнего дня, но рассматривать их как закономерный и необходимый этап в процессе накопления и систематизации научного багажа. Нечто подобное происходит и сегодня: расширяя горизонты познания, формулируя законы, вводя новую терминологию, мы вместе с тем ясно осознаем, что довольствуемся лишь синицей в руках, в то время как журавль абсолютной истины недосягаемо витает в поднебесье. Мы пытаемся найти объяснения явлениям, выявить закономерности и их причины с неизменной поправкой на то, что истинность ответа зависит от выбранной нами системы координат, которая, в свою очередь, обусловлена количеством накопленной информации и основана на парадигмах, нами же самими созданных. И поскольку вся наша наука существует и функционирует только в этих условиях, ни на один вопрос мы в принципе не можем получить окончательный и полный ответ. Основные положения теории относительности изменили наше представление о процессах, происходящих в пространственно-временном континууме.
Более пристальный взгляд на историю как религиозной, так и научной мысли позволит нам подойти к этой проблеме иначе и рассмотреть ее под другим углом (и не с высокомерием грамотея, ощущающего превосходство над полным невеждой): как перманентно длящийся опыт. Взрослый человек не должен смеяться над чувствами пятнадцатилетнего влюбленного юноши; он может поставить себя на его место и даже в чем-то позавидовать молодости. Но ведь и в жизненном опыте есть определенные преимущества: он позволяет понять, что обстоятельства изменчивы, чувства, даже те, субъективная истинность которых несомненна, преходящи, поверить в то, что наверняка придет еще и другая любовь. Подобно этому, и у нас не должно быть чувства превосходства и высокомерия, когда мы вспоминаем ученых тех времен, свято веривших в научную истину, создававших сложные и запутанные теории, считавшиеся в свое время истиной в последней инстанции, а по прошествии двух-трех столетийбезвозвратно канувшие в Лету. Мы должны рассматривать их как необходимый этап, звено в цепочке преемственности научной мысли. Необходимо научитьсяценить процесс познания, вечный и подверженный постоянным изменениям, и осознать, что уверенность в незыблемости и абсолютности научной истины – заблуждение.
Если задуматься над единственным имеющимся у нас преимуществом перед поколениями ученых, так или иначе занимавшихся проблемой наука и религия, – преимуществом опыта, – легко понять, что мы не имеем права на пренебрежительное отношение к сложнейшему процессу постижения ими реальности, при всей спорности вопроса о том, насколько ценны результаты их трудов, и очевидной ныне нелепости устаревших представлений.
Поисками компромисса между наукой древнего Вавилона и верой занимался, наверное, еще наш праотец Авраам; отец Моше-рабейну, Амрам, возможно, пытался привести в соответствие с религией науку древнего Египта; Филон Александрийский пытался примирить иудаизм с философией Платона. Противоречия между иудаизмом и наукой пытались устранить на разных этапах истории еще многие и многие десятки тысяч наших выдающихся предшественников. Результаты всех их усилий позволяют утверждать, что они слишком доверяли современной им науке, сильно переоценивая ее достижения и возможности и полагая, что в ней хранится заветный ключ к мирному разрешению мировоззренческих конфликтов, необходимость чего представлялась им тогда вопросом жизни и смерти.
Несмотря на то, что все попытки такого рода были и остаются бесплодными, мы не вправе их прекращать. Говорили наши мудрецы: Судят лишь по тому, что видят. В любом поколении каждый человек оперирует лишь тем, что он узнал и понял в окружающей его реальности. На каждом лежит обязанность приложить все усилия, вновь и вновь пытаясь привести в соответствие различные источники знаний, постараться представить их в цельности и полноте, помня, тем не менее, что абсолютная истина находится отнюдь не в наших руках.
Вопросы, которые мы задаем
(лекция, прочитанная в академгородке Новосибирского отделения АН России)
В рамках этой лекции у меня нет возможности говорить обо всех особенностях Талмуда. Я коснусь лишь одного аспекта вопроса, но постараюсь рассмотреть его детально.
В арабском языке существуют около двухсот синонимов слова верблюд, а в языке эскимосов столько же названий для снега. Почему в русском или иврите нет такого количества синонимов для этих слов? Ответ прост: обитатель пустыни, где единственное живое существо, кого он встречает, это верблюд, поневоле присматривается к нему со всех сторон. Он различает маленького верблюда и большого, красивого и уродливого, самца и самку, быстроногого и медлительного и каждому дает имя. Подобно этому в царстве вечного льда и снега человек учится различать малейшие оттенки, такие, каких никогда не заметит житель Израиля, видящий снег в лучшем случае раз в год.
Одна из проблем, с которыми я столкнулся, начав переводить Талмуд, состояла именно в этом. В Талмуде насчитывается свыше тридцати синонимов для слова вопрос. Ничего подобного нет в других языках. Одно слово означает легкий вопрос, другое – сложный вопрос, есть особое слово для вопроса, порожденного противоречием двух понятий, и свое – для вопроса, вызванного несоответствием текста законам логики. Этот список можно продолжить.
Из лексики арабского языка легко заключить, что арабы живут в месте, где много верблюдов, а из языка эскимосов – что они обитают среди снегов. В каком мире жили те, кто создавал Талмуд? В мире, где вопросов гораздо больше, чем ответов, где вопросы являются основой существования. Это странно, ибо мы привыкли считать, что религия отвечает на все вопросы – и заданные, и не заданные. Религия знает, а не сомневается, вещает, а не вопрошает. Но вот перед нами священная книга иудаизма, Талмуд, и в ней куда больше вопросов, чем ответов.
Один из древнейших сборников религиозных текстов в иудаизме – пасхальная Агада; основному их корпусу в ней несколько тысяч лет. Начинается она с серии детских вопросов, которые обязаны задавать на любом седере. Неожиданностью для многих становится то, что иудаизм не боится вопросов.
В любой области ответы важны, полезны и существенны, однако каждый ученый знает: зачастую они скучны и вопросы звучат гораздо интересней. Философы науки говорят, что время от времени она нуждается в пересмотре исходных позиций, что означает: для того, чтобы открыть новое поле исследований, необходимо задаться новыми вопросами. Очевидно, что каждый этап в развитии науки начинается с пересмотра человеком своего отношения к реалиям окружающего его мира. При этом он совсем не обязательно находит ответы на все вопросы, поднятые действительностью, – он главным образом вглядывается в нее под новым углом зрения либо начинает вдруг задавать вопросы, ответы на которые, вроде бы, и так все знали.
Поиск ответов на одни и те же вопросы заводит в тупик, это не раз случалось в истории науки. На таком пути выясняются все новые и новые подробности, но они только запутывают исследователя, ничего подлинно нового узнать не удается. Для того, чтобы добыть крупицы новых знаний, приходится предпринимать все более дорогостоящие исследования, как это происходит, например, в ядерной физике. Правда, и за эти крупицы можно удостоиться научных премий. Но на самом деле необходимо создание новой теории, способной объяснить происходящее в мире. Без нее каждая новая деталь, хотя и приносит премию (число их в научном мире бесконечно), ничего не изменяет в картине мироздания. Более того – изобилие подробностей лишь усложняет и запутывает ее. В конце концов создается положение, при котором чем больше нам известно, тем меньше мы знаем. Кто-то так подытожил современные тенденции в развитии науки: Мы знаем все больше и больше о все меньшем и меньшем, так что в конце концов обретем полное знание ни о чем.
То, в чем мы действительно нуждаемся, – не новые крупицы знаний, а новый тип вопросов, которые должны пролить новый свет на окружающий нас мир и побудить нас к поиску содержательных ответов. В определенном смысле можно сказать, что теория относительности Эйнштейна родилась потому, что природа наделила ее автора хорошей головой, но не дала ему острого ума. Будь Эйнштейн умнее, он не стал бы задавать те наивные вопросы, которые задал. Эйнштейн обладал способностью задавать детские вопросы, ответы на которые известны каждому и которые никто из взрослых уже давно не задает.
Все это я говорю не только для того, чтобы подчеркнуть важность и пользу вопросов. Я хочу показать механизм их возникновения, выявить человеческую позицию, занимаемую спрашивающим по отношению к этому миру и его проблемам. Поясню примером: в талмудической литературе существует идиома ипха мистабра. Ее значение приблизительно таково: всматриваясь в предмет исследования, я прихожу к выводу, что его, в сущности, следует перевернуть с головы на ноги, ибо вопрос на самом деле является ответом, а ответ – вопросом.
Однако в современном научном мире дело обстоит совсем не так. По большому счету, проблема состоит в следующем: люди, чей профессиональный долг – задавать вопросы, стремятся максимально ограничить их круг, что в определенной мере вызвано информационным взрывом. Лавина сведений грозит затопить, это приводит к сужению научной специализации, и, как следствие, вопросы становятся все более узко специализированными, а круг рассмотрения сужается.
Я не осуждаю сапожников, которые тачают лишь дамские туфельки на шпильках. Это, безусловно, хорошее и полезное дело, но мир не исчерпывается высокими каблучками. Я понимаю, что отваживаюсь на дерзость, произнося подобные речи перед научной аудиторией. Позволю себе зайти еще дальше. Осмелюсь утверждать, что ученые – тоже люди. В силу ограниченности человеческих возможностей они могут оказаться куда более узкими специалистами, чем упомянутые сапожники. Однако это ни в коем случае не избавляет ученого от обязанности оставаться человеком – то есть иметь дело с вопросами, стоящими перед всем человечеством, даже если они выходят за пределы его профессиональной специализации.
В лекции перед сотрудниками Центра космических исследований при Британской академии наук я попытался дать определение научным вопросам и их отличию от ненаучных. В принципе, научные вопросы отличаются тем, что предполагают научные ответы: конкретные, а еще лучше – выраженные в точных числах. В наиболее общем виде научные вопросы могут быть сформулированы так: Как возникло то или иное явление? Какие факторы привели к этому? Однако в мире существуют важные вопросы, не укладывающиеся в подобные рамки. Например: Хороша ли собой эта особа? Не только профессор физики не в состоянии дать объективный ответ на этот вопрос, но и профессор биологии. Но вы не станете спорить со мной, если я скажу, что в мире немало ученых, в том числе великих, которых вопрос этот волнует не меньше, чем проблема массы мезона.
Круг вопросов, которые мы задаем, гораздо шире любого профессионального круга проблем. Можно сказать, что качественный переход в Творении от животных к человеку выразился в создании существа, лишенного специализации. Мы не способны мчаться с быстротой оленей, парить в вышине наподобие орлов, скакать как блохи. А в последнее время выяснилось, что даже в скорости мыслительных операций мы побеждены компьютером. Но наше громадное преимущество заключается в том, что мы способны мыслить обо всем, о чем только пожелаем. О пище, которую едим, о том, что видим, и иногда даже сначала думаем, а потом говорим. Именно способность осмысливать все, что мы хотим, дает нам колоссальное преимущество и в сугубо биологическом аспекте и делает хозяевами этого мира (не всегда, впрочем, рачительными).
Существуют универсальные вопросы, которыми каждый человек задается в силу своей природы. Мы не всегда последовательны в этом и не всегда интеллектуально честны, а порой даже не отдаем себе отчет в том, что задаем их, но это мало что меняет. Один из таких вопросов, который человек задает самому себе, я бы сформулировал так, как он задан в одной из фундаментальных в иудаизме книг, посвященной вопросам морали и этики, – Пиркей-авот: Откуда ты пришел и куда ты идешь? Когда я учился в университете, эти вопросы не задавали на экзаменах по органической химии или физике. Ибо они адресованы всем людям – постольку, поскольку каждый из нас человек.
Один из вышеприведенных вопросов, которые я называю религиозными, касается цели и смысла бытия. В наше время он выведен за рамки научной проблематики – и справедливо. Но этот вопрос доныне остается важнейшим из всех. Решение его для нас существенней решения многих других проблем, даже тех из них, которые заставляют нас не жалеть времени на поиск ответов.
Известная арабская притча повествует о царе, который потребовал, чтобы ему составили краткое резюме человеческой истории. Однако даже на это ученым мудрецам понадобилось столько времени, что царь успел состариться. И вот на смертном ложе, одной ногой в могиле, он позвал главного мудреца – тот тоже давно вошел в преклонные года – и попросил в двух словах познакомить его с содержанием человеческой истории. Все люди родились, все страдали, все умерли, – подытожил мудрец.
Достаточно точное резюме. Но возникает закономерный вопрос: если так, куда и зачем мы спешим? Нет никакой возможности ответить на него в двух словах. Я лишь хотел заново задать его как один из тех вопросов, к которым полезно возвращаться, хотя порой они лишают нас сна. Конечно, вопрос для чего все это? не таков, чтобы человек мог задаваться им каждую минуту, однако он сопровождает нас всю жизнь. Он актуален для пятилетнего ребенка так же, как и для умудренного старца. Иногда этот маленький вопрос способен совершенно изменить течение человеческой жизни.
Каким бы ни был ответ на него, он будет носить религиозный характер, ибо сам факт появления этого вопроса квалифицирует того, кто его задал, как религиозного человека. Даже ответы, предложенные марксизмом, носили тот же характер, поскольку предполагали, что бытие имеет смысл. Коммунистическая церковь была, быть может, малопривлекательной, но она, тем не менее, являлась церковью во всех отношениях. Как и множество других религий, коммунизм не удовлетворялся ответом на вопрос как? но стремился дать людям оправдание их жизни, на свой лад объяснял, для чего они живут и умирают.
Каждый задающий подобный вопрос вступает в некую область бытия, из которой он, правда, может попытаться выбраться, но которую не в состоянии игнорировать. Этот и несколько других схожих вопросов относятся к числу известных всем, но лишающих покоя любого из тех, кто их обдумывает. Ими предпочитают не задаваться, поскольку ответы на них могут привести к весьма далеко идущим последствиям: кардинальным изменениям нашего мировоззрения.
С этой точки зрения ученый, занятый подсчетом фасеток в глазу мухи, обладает несомненным преимуществом. Сколько бы их ни оказалось, это не потребует от него изменить образ жизни. Задачи подобного рода занимают интеллект, но не тревожат душу. Вопросы типа для чего я живу? или для чего все существует? куда труднее разрешить, к тому же ни один из возможных ответов не будет исчерпывающим.
Вопрос такого рода относится к категории универсальных. Его задает каждый человек, достигший определенного уровня самосознания, независимо от того, к какой расе и народу он принадлежит. Иначе сформулированный, это первый вопрос, появляющийся в Танахе. Творец спрашивает Адама: Где ты? И теперь, в конце двадцатого века, Он обращается с таким вопросом к каждому, однако до сих пор, похоже, не получил на него удовлетворительный ответ. Прозвучав однажды, вопрос этот актуален во все времена, заставляя человека спрашивать себя: Где я, в сущности, нахожусь?
Кстати, этот вопрос тоже не найти в университетских учебниках. Однако я полагаю, что многие из присутствующих сталкивались с ним, и порой это было весьма болезненно.
Я хотел бы коснуться еще одного из тех вопросов, которые мучают нас в предрассветные часы. Многие из присутствующих в этом зале – евреи по происхождению. Я не собираюсь устанавливать, кто хороший еврей, а кто плохой, но хочу задать вопрос: что это означает – быть евреем?
Для сравнения воспользуюсь примером из области биологии. Если мы подвергнем животных, скажем собак или коров, целенаправленному отбору по ряду признаков на протяжении трех тысяч лет, мы увидим, что уже через короткое время начнет образовываться нечто своеобразное. Лучше или хуже остальных – другой вопрос, но иное, отличное от них – это несомненно. Результат может радовать, огорчать или вызывать смешанные чувства, однако ответ на вопрос, что значит быть евреем, хотя бы первоначальный, так или иначе должен быть дан.
Великим открытием в психологии явилось понятие комплекс. Что это такое? Состояние, порожденное проблемой, которую человек не способен сформулировать и поставить. Она мучает его, оставаясь в области подсознательного и не находя решения. И в России, и во многих западных странах еврейство стало чем-то вроде психической патологии у его носителей. Еврейский комплекс развивается там, где евреи стыдятся поставить вопрос о своем еврействе, не решаются честно посмотреть правде в глаза и спросить себя: кто мы и что мы?
Одно из фундаментальных положений греческой философии гласит: Познай самого себя. Я не даю ответы, а ставлю вопросы. Всюду, куда я приезжаю, я пытаюсь устроить что-то вроде сеанса группового психоанализа для людей, которые десятилетиями не решаются коснуться этой болезненной проблемы, появившейся в третьем тысячелетии до новой эры.
Каждый из подобных вопросов всегда влечет за собой несколько других. Это не научные вопросы, а экзистенциальные, вопросы человеческого существования. Они зачастую мучительны, но все же имеет смысл задавать их себе, ибо таково требование нашей жизни, действительности, в которую мы погружены. И если уж мы страдаем, естественно спросить себя: Ради чего?








