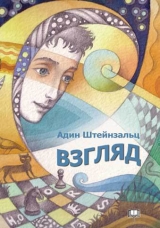
Текст книги "Взгляд"
Автор книги: Адин Штайнзальц
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Вера, провидение и упование
Особое внимание в учении хасидизма уделено понятию ашгаха пратит – персональный надзор, личное провидение. Идея личного провидения в хасидизме распространяется на судьбы всего сущего, от человека до песчинки. Такая концепция порождает множество проблем, так как ясно, что к этому вопросу можно подойти не только путем абстрактных теологических рассуждений, но и с противоположной стороны: просто-напросто испытать его практикой. Но тогда в полный рост встает проблема наличия зла в мире. В самом деле: раз Всевышний, благословен Он, надзирает над всем происходящим, входя в каждую деталь, – как в мир могло вторгнуться зло? Особенное недоумение вызывает зло, причины которого мы не в состоянии понять. Это то зло, которое, как нам представляется, постигает человека незаслуженно, и мы недоумеваем: цадик – ве-ра ло? – праведник – и плохо ему?
Проблема зла сама по себе чрезвычайно сложна. Ее невозможно рассмотреть лишь в контексте личного провидения. Ибо вопрос о том, каким образом возникает зло, что именно дает ему право на существование и каков его источник, уводит нас в закрытые для постижения сферы, хранящие основные тайны бытия: какова цель сотворения мира, в чем состоял акт Творения и как именно он происходил, что представлял собой хаос, сопутствовавший его началу. Несмотря на это, вопрос о существовании зла в мире вполне легитимен, когда задается в связи с тем, что мы называем ашгаха пратит. Ибо это уже не чисто богословский вопрос, а экзистенциальная проблема, от которой зависит самоощущение человека и его жизненный путь – как в обыденной жизни, так и в служении Всевышнему и постижении Его.
В связи с кажущимся противоречием между личным провидением и существованием зла сразу же вспоминается известное изречение мудрецов: Зло не опускают сверху. Но как же тогда, с точки зрения разных людей, объяснить физические и душевные страдания – главное зло нашего мира? Откуда же исходит зло, как не от Творца? Эту теологическую проблему пытались решить следующим образом: ашгаха пратит действительно не предусматривает зла, но природа греха в том, что он служит преградой на пути Б-жественного присмотра, – и вот тогда грешника постигает бедствие, ибо он становится игрушкой стихийных сил, способных причинить зло. Однако это объяснение не уживается с концепцией хасидизма, согласно которой Всевышний никогда не отводит взора от сотворенного Им, ни от грешника, ни от праведника. И потому не теряет актуальность этот вопрос: каким образом Создатель, Источник абсолютного и полного добра, изливает в наш мир нечто, несущее зло человеку? Те, кто верит в персональный надзор Всевышнего, вынуждены признать, что ответить на него непросто. В поисках истины необходимо углубиться в проблему.
Хасидизм дает несколько объяснений тому, что кажется нам злом, ниспосланным свыше. Они могут показаться противоречивыми, однако в действительности дополняют друг друга, располагаясь на разных уровнях постижения мира. Существование различных объяснений – способ достичь максимально полного раскрытия проблемы.
Одно из них было предложено Бештом – раби Исраэлем Бааль-Шем-Товом. Он видел во зле подножие добра. Иными словами, хотя в мире действительно существует зло, в конечном счете функционально оно служит добру. Это объяснение можно воспринимать в контексте зла, на фоне которого проявляется добро: зло контрастирует с добром, пока не станет очевидно, что оно лишь позволяет сделать добро явным. Его можно воспринимать и в противоположном по смыслу контексте, когда оно не оттеняет добро, но служит его орудием. Причем последнее верно как в отношении каждого отдельного человека, так и вообще в отношении добра и зла в мире. Ибо существуют сферы, закрытые для добра во всей его полноте и святости, и, чтобы достичь их, оно предстает злом. С такой точки зрения любое падение, которое на первый взгляд кажется поражением добра, в действительности служит его конечной победе. И потому всякое падение суть йерида ле-цорех алия – спуск во имя подъема. В рамках этой концепции существуют несколько более детальных объяснений существования зла, например такое: зло постигает грешников в виде частичного воздаяния за преступления, а праведников – для того, чтобы удостоить их ничем не омраченным блаженством в мире грядущем. Поэтому с праведных взыскивают за их немногочисленные проступки уже в этом, а не в будущем мире. Все эти объяснения вписываются в общую картину мироздания, в котором зло служит орудием в руках добра. Конечно, духовная ступень боли, страданий, скорби очень низка. Однако она ведет к более высокой ступени. И это соответствует высказыванию Бешта о том, что зло служит подножием добра.
Наряду с этим существует и другое, более глубокое объяснение природы зла. Согласно ему, то, что представляется нам злом, на самом деле не является таковым. Зло не только в итоге приводит к добру, добро – его изначальная сущность. Несмотря на то, что на первый взгляд нечто кажется нам злом, виною тому не сама сущность мнимого зла, а неполнота нашего понимания происходящего. Таким образом, различие между добром и злом в человеческой жизни – не более чем различие между добром явным и скрытым. Как положительное мы воспринимаем добро, доступное нашему пониманию, а как отрицательное – превышающее понимание. Это напоминает ситуацию, когда к человеку обращаются с добрыми пожеланиями на непонятном языке. Даже если ему будут сулить все блага мира, он не испытает от этого ни малейшей радости и лишь пожалеет о потерянном времени. Поскольку Создатель несоизмеримо выше Своих творений, они не в состоянии осознать и оценить исходящее от Него добро. Более того: это добро порой представляется им злом. И лишь праведники, достигшие духовных высот, обретают ясность зрения, которая позволяет им различить в деяниях Всевышнего подлинное добро. Об этом рассказывается в истории о Нахуме Иш Гамзу, который, что бы с ним ни случилось, неизменно повторял: Гам зу ле-това – И это – к добру, – причем не потому, что с радостью принимал наказание, а по той причине, что видел истинный смысл событий. В том, что казалось другим людям падением, Иш Гамзу усматривал возвышающий смысл. Из сказанного следует, что различие между добром и злом исходит не из самой сущности вещей, а обусловлено духовным уровнем человека, который обязан видением зла лишь собственной ограниченности. В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с подтверждением этого. Например, маленькие дети подчас воспринимают то, что направлено к их добру, как абсолютное зло. По мере того как созревает их разум, они убеждаются: то, что их так возмущало, в действительности – благо.
Однако и это объяснение не исчерпывающе. Есть еще более глубокое понимание природы зла: то, что прежде представлялось нам добром в оболочке зла, на самом деле есть благо в его чистом, наиболее возвышенном виде. Из этого, в частности, следует, что тот обыденный, житейский уровень, на котором мы различаем добро, отнюдь не самый высокий и наше признание его таковым свидетельствует лишь о его очевидности и доступности, а не о возвышенности и чистоте. То, что мы назвали добром в оболочке зла, предстает в такой форме по причине своего более высокого духовного уровня, который не позволяет нам распознать во зле добро в чистом виде. Безусловным злом кажется нам добро, которое столь велико и возвышенно, что недоступно нашему сознанию в этом качестве. Это добро – проявление Б-жественного руководства миром. И потому, хотя пути Провидения в глазах человека часто выглядят злом, в действительности они исполнены самого возвышенного блага. Просто рядовой человек не в состоянии подняться на достаточно высокую духовную ступень, откуда это добро откроется его взору. Так надо понимать слова мудрецов, высказанные в связи с проблемой существования зла в мире.
Когда мы различаем руку Провидения в постигающих нас испытаниях, это лучше всего выражают слова:…это – час бедствия для Яакова, и в нем же – его избавление (Ирмеяѓу, 30:7), – т. е. именно путем испытаний и бед придет к Израилю Избавление. Если наше восприятие мира достаточно широко, то становятся понятными слова наших мудрецов: Что хорошо? Доброе начало. А что очень хорошо? Злое начало. Просто хорошо – ангел жизни. Очень хорошо – ангел смерти (Брейшит раба, 9:7). Даже такое абсолютное зло, как смерть, оказывается благом, причем куда большим, чем жизнь, – то есть явным добром. Ибо тайна, окутывающая пути Провидения, служит престолом Всевышнего. Тайник Его силы скрыт от человеческого разума. И потому то, что представляется нам явным добром, открытым нашему восприятию, есть благо, раскрывающееся на низшей духовной ступени. Оно не может сравниться с совершенным, возвышенным благом, скрытым от наших глаз в тайном мире, где пребывают Б-жественная воля и милость; мы о них знаем, но не можем их понять. Об этом сказано: Кого Б-г любит, того наказывает, – ибо то, что кажется нам наказанием, на самом деле является более глубоким проявлением Его любви и благоволения к нам.
Для хасидов метафизическое постижение не остается голой абстракцией. Оно непосредственно сказывается на человеческой жизни, изменяет поступки, чувства и взаимоотношения людей, и наше понимание природы зла влияет на восприятие нами действительности.
Когда человек постигает связь вещей на высоком духовном уровне – причем не только разумом, но всем своим существом, – он признает справедливость Небесного суда над собой. Ведь если человек знает, что зло – не более чем инструмент для достижения грядущего блага, он не возмущается своей участью, не протестует перед лицом испытаний, посылаемых ему жизнью. Он сознает, что, хотя постигающее его в жизни кажется злом, в конечном счете все направлено к его пользе и благу. И хотя зло возмущает человека, хотя он удручен и испытывает страдания, которые может воспринимать как незаслуженные, – он принимает свою участь спокойно. Так мы поднимаемся на первую ступень духовного величия, соответствующую содержащемуся в Мишне законодательному установлению, обязывающему человека благословлять за зло, как за добро – то есть благодарить Б-га за все, что бы ни случилось с ним в жизни. Неважно, видит ли он положительный смысл выпавших на его долю испытаний, как говорит Писание: Чашу спасения подниму, – или судьба представляется ему безрадостной, как сказано: Бедствие и скорбь обрету, – и в том и в другом случае человек заявляет: К Имени Г-спода воззову – с полной верой в то, что и радости, и испытания посланы ему Судьей справедливым и истинным и ведут к благой цели, а мнимое зло служит подножием грядущего блага.
На следующей, более высокой духовной ступени, когда человек приходит к пониманию того, что явное зло есть скрытое добро, он уже не просто выражает готовность принять свою судьбу из рук Всевышнего, какой бы та ни была, но делает это с радостью. Ибо знание того, что мнимое зло в действительности является добром, облаченным в другие одежды, изгоняет из сердца печаль. Подобно тому, как явное, зримое благо наполняет человека ликованием, так все, исходящее от Творца, отныне только радует его. Таким образом, будет ли человек, которого постигает зло, испытывать радость или скорбь, в первую очередь зависит от его собственного духовного уровня. Тем, кто, как Нахум Иш Гамзу, способен распознать добро в обличье зла, постигающие их испытания покажутся легче и приемлемей. Ибо благодаря своей способности углубляться в суть вещей такие люди не пугаются видимого зла, находя скрытое в нем добро и вглядываясь в него. И, конечно, зло не в силах причинить им тех страданий, которые терпят люди, не достигшие этого уровня. Но и тот, кто не способен видеть в страданиях благо, может подняться на духовный уровень, который позволит ему принимать все происходящее с ним с радостью. Ведь то, к чему мудрец приходит путем размышления и постижения, простой человек обретает с помощью веры. Если он действительно понимает, что зло не опускают сверху, то любое посланное ему испытание примет по доброй воле, с радостью, веря полной и искренней верой, что в конечном счете оно направлено к его благу.
Но еще выше находится духовная ступень, с которой зло предстает в своем подлинном облике: как благо столь великое, что оно превышает обычную человеческую способность восприятия и потому причиняет боль. Для того, чтобы душа приняла подобное добро, человек должен всецело предаться главному, не давая своим впечатлениям и эмоциям распоряжаться собой. Более того: ценя близость Всевышнего превыше всех благ этого мира, он доверяет Ему больше, чем своим чувствам. Человек понимает, что это мнимое зло представляет собой более возвышенное откровение
Б-га, Его раскрытие в непостижимости Своей тайны, и принимает зло с большей радостью, чем добро. И об этом сказано в Талмуде: Оскорбляемы и не оскорблены, выслушивают поношение и безмолвствуют, с любовью и радостью претерпевают муки, о них свидетельствует Писание: “Любящие Его – как солнце, восходящее в могуществе” (Шабат, 88б). Лишь тот, кто действительно любит Б-га, способен с радостью принимать страдания, посланные Им. Эта радость превыше любой другой, поскольку сопровождается осознанием того, что кого Б-г любит, того наказывает. Человека, который всем сердцем любит Б-га, подобное свидетельство взаимности не может не радовать. Такой человек предпочтет страдания, в которых раскрывается Творец, благополучной жизни в мире повседневной постигаемой реальности, которая лишена ощущения близости Б-жественной тайны – той тайны, в тени которой таится великое Откровение.
Именно в этом смысле следует понимать слова цадик – ве-тов ло – праведник – и хорошо ему. Речь идет о совершенном, абсолютном праведнике, чья жизнь действительно исполнена лишь добра, и зла в ней нет ни на йоту. Ведь совершенный праведник отличается от других людей тем, что испытания и беды, выпадающие на его долю, принимает с любовью и искренней радостью как свидетельства наибольшей близости Всевышнего – а именно к этой близости он больше всего стремится и лишь ее по-настоящему желает. Потому-то зло этого мира не находит пути к совершенному праведнику и не омрачает его жизнь. В том, что выпадает на его долю, он находит великую радость, видя во всем лишь абсолютное добро.
Понятие времени
Понятие время занимает в еврейской традиции более важное место, чем у других народов. События прошлого, запечатленные в народной памяти, отношение к прошедшему и будущему – все это играет в еврейском национальном сознании первостепенную роль. На протяжении многих столетий оставалось справедливым высказывание, что родина Израиля – это его история. Родина, которую обретают во времени, а не в пространстве.
Несмотря на то, что постоянное обращение к исторической памяти, к событиям прошлого – требование еврейской традиции, неизменно осуществляющееся в практике иудаизма, теоретическому, философскому осмыслению времени не уделено достаточного внимания. И поэтому, наверно, прийти к нему можно только на основе глубокого анализа законов, определяющих повседневное существование народа.
В реке времени
Человек наделен способностью ориентироваться во времени. Но если пользоваться терминами физики, то окажется, что в пространственно-временном континууме, в котором мы существуем, параметр времени имеет очень любопытные свойства. Если пространство допускает перемещение тел в любом направлении, то в том, что касается времени, это не так. По отношению к нему мы статичны; время как бы обтекает нас, двигаясь в одном и том же направлении, и мы не властны над этим.
Это ощущение погруженности в омывающий поток времени не является достоянием какой-либо одной культуры. Оно общее для всех. Понятийно-логические и культурные различия выступают на первый план позже, когда начинается рефлексия первоначального ощущения: что собой представляет река времени, откуда и куда она течет, как мы с ним соотносимся?
Куда мы обращены во времени? Ответ на этот вопрос кажется очевидным: куда же, кроме будущего? Ведь оно ожидает нас, а прошлое уже миновало, осталось позади. Для иудаизма же картина не столь очевидна. Мы вглядываемся в минувшее. Именно оно раскрыто перед нами, а будущее – неведомо. Язык Торы запечатлел такое отношение к потоку времени: ле-фанай – передо мной – одновременно означает в моем прошлом. А о будущем сказал пророк: Подайте знаки о предстоящем, и мы будем знать… (Йешаяѓу, 41:23). Ле-ахор – о предстоящем – дословно о находящемся сзади, у нас за спиной.
Подобный, ничем, на первый взгляд, не обоснованный подход в действительности лучше отражает реальность. Ведь в прошлое мы в состоянии заглядывать настолько далеко, насколько позволяет нам историческая память, тогда как будущее, даже самое ближайшее, скрыто. Будущее, являясь из небытия, в краткий миг настоящего становится доступным и пластичным. А затем, становясь прошлым, все полнее открывается пониманию. Эта схема точно отражает еврейскую ментальность. Поскольку мы обращены лицом к минувшему, прошлое не только приобретает все большую ясность и четкость – оно входит в нашу жизнь как ее интегральная часть. Именно в него мы вглядываемся постоянно, тогда как о будущем остается только гадать, к нему обращены наши надежды и мечты. И для всех, кроме пророков, способных воспринимать сокрытое, будущее – область фантазий и снов.
Другой, более важный вопрос: куда течет река времени? Мы можем вообразить ее русло прямым или, по крайней мере, ведущим в определенном направлении. Можем сказать, что эта река вообще никуда не впадает, а история не имеет конца. Но даже те, кто полагает, что река времени куда-то стремится, представляют ее устье по-разному.
Одни убеждены, что течение истории, как и любой реки, направлено под уклон, и потому неизбежный конец ее – в бездне. Наука подтверждает это, говоря о неуклонно накапливающейся энтропии – процесс, который в перспективе должен привести к разрушению всех и всяческих связей, к распаду всего сущего на исходные элементы, пребывающие в абсолютной неподвижности и лишенные какого бы то ни было взаимодействия. В нордической мифологии подобный трагический финал именуется сумерками богов.
Есть и другое представление об истории: как о бесконечном поступательном движении, которое именуют прогрессом. Река времени течет вверх! С такой оптимистической ноты начинается ода прогрессу. В мировоззрении многих наших современников убежденность в благотворности прогресса до сих пор сочетается с верой в его естественность: чем дальше уводит река времени, тем увереннее продвигаемся мы по пути прогресса, ибо таков объективный закон.
В основе того и другого видения лежит представление о прямолинейности исторического процесса (или судьбы человечества, или потока времени – как мы это ни назовем) и его устремленности в определенном направлении. И в том и в другом случае процесс этот имеет начало, как река – исток. Подобно ей, его течение непрерывно и устремлено к цели. На пути встают препятствия, отклоняющие и искривляющие русло, однако им не под силу остановить течение реки.
Наряду с представлением о линейности времени с незапамятных времен существует представление о его цикличности. Согласно ему, река истории образует кольцо. Она вливается сама в себя, и в ее водах мы не заметим ни необратимых изменений, ни новизны. Древний, поэтический и удручающий образ вечного возвращения дает книга Коѓелет: То, что было, то и будет; и что совершалось – то и совершится; и нет ничего нового под солнцем (1:9). Всякое изменение в мире – движение по кругу, образующее замкнутый цикл: Кружит, кружит, ходит ветер, и на круги свои возвращается ветер (там же, 1:6). У этой концепции есть и современные адепты. Известен взгляд на историю как на череду генетически связанных цивилизаций, чья судьба подчиняется циклической закономерности: они сменяют друг друга подобно траве, которая увядает осенью и вновь расцветает весной. Под это представление и подпадает пользующаяся в наши дни популярностью космологическая теория пульсации вселенной. Цикл начинается со сверхгигантского взрыва, затем происходит медленное угасание, и снова следует взрыв. И пусть периодичность циклов растянута на непредставимо долгие сроки, это не меняет существа дела.
Цикличность и линейность времени
Ни одна из упомянутых схем не исчерпывает еврейское представление о времени. С одной стороны, традиционный образ жизни постоянно возвращает еврея к датам, обладающим непреходящим значением. Чередование дней, месяцев, лет имеет сакральный смысл. Разумеется, важно не само календарное круговращение времени, а выделенные из него дни: субботы, праздники, новомесячья и т. д. Каждые семь лет наступает год шмита (субботний), а каждые пятьдесят – йовель (юбилейный). Некоторые из циклов совпадают с астрономическими – например месячный и годичный. Другие никак с ними не связаны – например неделя, шмита и йовель. Иными словами, циклическая концепция времени обусловлена не только сменой фаз луны или времен года. Она соответствует философской идее вечного возвращения на круги свои. Стихи Танаха, а еще больше тексты сидура (молитвенника), посвященные каждому из выделенных дней и периодов, доказывают это: вот неделя, восходящая к вершине-Субботе, вечному напоминанию о сотворении мира; праздники, не дающие забыть об исходе из Египта и о событиях, сопровождавших его; Рош ѓа-шана как символическое напоминание о начале творения и так далее. Философский смысл круговращения времени, проступающий сквозь ритуал, хорошо осознавался еще в древности. Это можно увидеть в толкованиях мудрецов разных эпох. Выдающийся ученый раби Авраѓам ибн Эзра интерпретирует подобным образом субботний и юбилейный циклы. Более того, в той же связи он упоминает циклы Великого субботнего и Великого юбилейного годов, чья протяженность, соответственно, семь тысяч и пятьдесят тысяч лет. В праздники – в ночь пасхального седера, при строительстве суки – особенно ощущается элегический мотив книги Коѓелет: что было, то и будет. Ведь и то и другое является актом символического переживания когда-то происшедших событий, которые повторяются вновь и вновь. Но в философской, а еще больше в мистической еврейской литературе, многократно подчеркивается, что смысл праздников не исчерпывается символическим напоминанием о событиях далекого прошлого. По сути, праздник обладает достоверностью подлинного возвращения. Более того: историософская концепция иудаизма усматривает в определенных событиях нечто гораздо большее, чем исторический прецедент. Эти события рассматриваются даже не в качестве архетипов, а как своего рода матрицы всей последующей истории. Например, исход из Египта – ключевое событие еврейской истории, систематически повторяющееся в ней в виде цикла Изгнание – Избавление. Значение Исхода выходит за сугубо исторические рамки, ибо он реализуется в духовной биографии каждого человека. Еврей в каждом поколении не просто должен считать, что он сам вышел из Египта, – история Исхода становится и историей его собственного духовного развития. Рабство и избавление от него, переход через море, война с Амалеком и получение Торы – вот этапы развития человеческой личности.
Однако это еще не вся картина традиционного восприятия времени. Под солнцем, под которым нет ничего нового, течет, тем не менее, и иное, не цикличное время, и оно целенаправленно. Концепция цикличности уживается в иудаизме с телеологическим взглядом на историю. Река времени берет начало в сотворении мира и устремляется к концу дней, навстречу грядущему Машиаху (Мессии) и жизни вечной. Правда, русло ее весьма извилисто и изобилует излучинами. И хотя, с одной стороны, сказано у пророка: Как в дни исхода твоего из Египта, явлю ему чудеса (Миха, 7:15), – очевидно, что конечное Избавление будет совсем иным, еще более величественным и грозным, чем Исход. Ибо содрогнется и изменится весь мир, неотвратимо приближающийся к небывалой, невиданной по своему драматизму развязке.
Вера в приход Машиаха представляет собой нечто гораздо большее, чем ожидание космического хэппи энда, поскольку речь идет о событии, скрытом от нас в будущем, но диктующем нам определенный образ жизни, влияющем на наше поведение сегодня. Эта вера отражает не только еврейский оптимизм, для которого имелось так мало оснований на протяжении последних двух тысячелетий, но и способ мышления и даже образ действий в материальной и духовной сферах. Наш мир – не только преддверие иного мира, качественно нового этапа существования, некий коридор, ведущий к тронному залу, – ему отведена гораздо более важная роль, хотя и эта его функция весьма значима. Причем не только для индивидуума, но и для всего общества, ибо социальный modus vivendi, сам жизненный путь множества людей в духовной и практической сфере ведет к этому событию. Успех или неудача на этом пути приобретают решающее значение для жизни каждого из нас. Подобная мысль особенно часто встречается в сочинениях Аризаля и его учеников. Приход Машиаха и конечное Избавление – не столько предопределенное судьбой событие, сколько результат конкретных действий личности и общества, результат постоянных усилий, направленных на исправление мира. Уверенность в этом не может не влиять самым радикальным образом на частную и общественную жизнь, предопределяя облик целых общин. А ее отголоски до сих пор оказывают влияние на множество людей, никогда не сталкивавшихся с этой идеей в ее первозданном виде.
Представление о времени в иудаизме, таким образом, возникает перед нами как соединение двух концепций. С идеей цикличного времени сосуществует идея времени линейного, движущегося к заданной цели. Будущее предстает качественно отличным от прошлого, являясь не столько его продолжением, сколько результатом. В действительности между обеими концепциями нет кардинального противоречия, они рассматривают различные аспекты единого диалектического процесса. Совмещение линейного и циклического движения образует движение по спирали, отличающееся от первых двух трехмерностью, подтверждая как сентенцию из книги Коѓелет – то, что было, то и будет, так и слова раби Нахмана из Брацлава об очень старом, которое также совершенно новое.
Хотя спираль – сложная геометрическая фигура, ее подобия широко распространены в живой природе: от молекул ДНК до виноградной лозы. В свое время некоторые исследователи полагали, что все живое стремится развиваться по спирали.
Такие биологические ассоциации не должны вызывать удивление – ведь это далеко не единственный пример глубинной связи иудаизма с миром природы, его формами и образами. Связь спиральной временной структуры с биологической системой не исчерпывается формальным внешним сходством, она более глубока и сущностна. Не только отдельный человек уподоблен дереву (…человек – дерево полевое…; Дварим, 20:19). История народа также подобна ему, ибо…как дни дерева, такими будут дни народа Моего… (Йешаяѓу, 65:22). Конечно, подобные высказывания можно счесть поэтическими метафорами. Но они перекликаются с еврейской концепцией времени, говоря о связи прошлого с настоящим.
Испытание временем
В упрощенном, механистическом представлении прошлое связано с настоящим цепью причинно-следственных связей. События вызывают последствия, которые сказываются в будущем, и их воздействие тем ощутимей и продолжительней, чем сильней был толчок. Такую связь можно уподобить кругам на воде, расходящимся от брошенного камня: чем тяжелей камень, тем дольше не успокаивается гладь, тем выше волны и шире круги. Исторические события часто уподобляют таким камням, брошенным в реку времени. Сначала ее поверхность приходит в волнение, но постепенно успокаивается, и забвение сглаживает морщины на ее лице. Камень спокойно лежит на дне, словно он никогда и не нарушал плавное течение вод. Единственное преимущество такого примитивного представления о связи прошлого с настоящим – его кажущаяся очевидность. В действительности же связь между исторической причиной и следствием не столь тривиальна. Не всякое нашумевшее событие оставляет в жизни мира или человека глубокий след, в то время как иногда, напротив, – малозаметное происшествие, которое почти не привлекло внимания современников, с годами приобретает все большее значение и влияние его не уменьшается, а растет. Все это заставляет усомниться в истинности механистической модели и искать аналогии в живой природе.
Именно такой представляется мне концепция времени в иудаизме. Можно сказать, что пространственно-временной континуум, одним из параметров которого является время, представляет собой единую живую реальность. Объективно время, подобно пространству, обладает протяженностью во всех направлениях. Неважно, находимся ли мы в определенной точке в данную минуту или нет – ее существование в трехмерной системе координат не зависит от нашего присутствия. Введя четвертую, временную ось, мы получим пространственно-временной континуум, в котором время продолжает существовать в каждом хронологическом отрезке, даже если мы уже покинули его. События не тонут в реке времени, подобно камням, просто течение относит нас от них. Прошлое и будущее становятся севером и югом на темпоральном компасе. Отсчет времени отныне подобен измерению высот и глубин, а уход прошлого означает всего лишь потерю нашей власти над ним. Мы не в силах изменить прошлое, но это единственное, что отличает его от настоящего. Настоящее пластично, оно доступно трансформации – наряду с предполагаемым будущим, на которое мы также отчасти в состоянии влиять. А прошлое ускользнуло, оно более нам не подвластно. Унесенное потоком времени, минувшее приобрело четкие очертания, став неизменным.
Теперь, если вспомнить слова пророка: Как дни дерева, такими будут дни народа Моего, – они уже не покажутся простой метафорой. Ведь дерево – это и молодые свежие ростки, которые тянутся ввысь, и старые, утратившие гибкость ветви, и омертвелые участки коры, и даже высохшие сучья. Могучий ствол, крепкие корни придают дереву устойчивость, укореняют его в почве. В них – его прошлое. А юные податливые ростки, нежные, еще не сформировавшиеся побеги – это настоящее дерева, его сегодняшний рост. И есть еще почки, едва наметившаяся завязь – будущее дерева, его надежда.
Прошлое не только запечатлено в событиях, некогда отметивших дерево своими знаками. Оно продолжает жить и в настоящем. Холодная зима или благодатное лето не проходят бесследно. Они воплощаются в размере кроны, мощи ствола, обилии плодов. Прошлое формирует облик настоящего и остается в нем. И чем моложе дерево, тем ярче оно запечатлевает свое прошлое. Глубокая зарубка на стволе, след от удара молнии куда заметнее на молодом дубке, чем на старом, гораздо сильней изменяют его облик. Каждый организм переживает период становления, когда на него легко оказать влияние, приводящее к серьезным изменениям. Возмужав, он приобретает устойчивость, и тогда лишь воздействиям исключительной силы удается изменить его.








