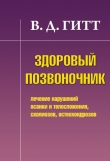Текст книги "Советская психиатрия
(Заблуждения и умысел)"
Автор книги: Ада Коротенко
Соавторы: Наталья Аликина
Жанры:
Медицина
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Где-то года через три пребывания в Сычевской академии получаю письмо от старой знакомой, узнавшей каким-то образом о моем несчастье. Эмма Войцехович. Будто крылья выросли, голова кругом от надежды. Приехала на свидание. Поговорили. Больше часа не дают. Вот так и ездит на часовое свидание аж из-под Львова. Сама когда-то выстрадала семь лет лагерей Джезказгана. Это школа на выдержку, на достоинство человеческое, гражданский долг и все человеческие добродетели.
Итак, благодаря Эмме, выхожу на относительную свободу весной 1980 года переводом в Бережницкую больницу общего типа. Возле больницы роща. Имею разрешение на свободный выход. Заплакать бы от счастья, а слез нет. Все эти годы ни слезинки, перегорело все в душе.
Именно тут, летом того же года, в присутствии двух свидетелей, отец Василий Куцак соединил наши руки. О как хочется домашнего уюта! Не судьба. Два с половиной года пролежали документы на получение паспорта в Стрыйской милиции глухо.
Фесенко, главный врач, говорит:
– Вас здесь не пропишут.
А почему?
В январе восемьдесят третьего приезжают за мной оперативники из госбезопасности. Вижу сам, что приехали. Не хочется верить. Зашли в административный корпус. Ребята из персонала предупреждают:
– За вами…
Ясно. Выхода нет. Молниеносное решение: не медлить. Семь месяцев свободы подарила мне судьба. Свобода! Прежде всего спасать то, что каким-то образом сохранилось из литературного архива.
Но это не так просто. Ищу ниточку, за которую бы ухватиться. Кажется, все на мази. Провал. Чудовищно!
Опять стража. Опять решетка. Сопровождают шесть человек. Шепот:
– Это особо опасный государственный преступник.
Вот так-то. Ни более ни менее.
При первой же возможности передаю письмо в Комиссию ООН по правам человека. До сих пор меня коробит при воспоминании об этом слезном письме. Не привык становиться на колени. Не в моей это натуре. Но мысль о том, что мой архив попал в недра КГБ, последнее, что я имел и чем жил, толкает меня на этот шаг Хотя бы не сожгли. Хотя бы выиграть время. А жизнь выводит свое. Опять Днепропетровский спец…
Знаете, давайте-ка я лучше поставлю многоточие, чем пересказывать на манер
Наша песня хороша,
Начинай сначала.
Прошел год, и слышу:
– Из Москвы телеграмма: немедленно освободить Рафальского.
Может быть, скверная шутка? Прислушиваюсь. Нет, разговор вполне серьезный.
Еще три месяца ожидания этого «немедленно».
Воля. Относительная, конечно.
Но о том, что было дальше, а там тоже есть о чем говорить, расскажет лучше когда-нибудь моя жена Эмма.
Я же хочу сказать вот что.
В какой цивилизованной стране возможно подобное?
И достойно ли это самой сущности цивилизованного государства?
Отнята жизнь. Оплевано, загажено душу. Двадцать лет погублено, считая со дня последнего ареста – год 1967. Двадцать лет. Вдумайтесь только в это.
Не знаю, ей-богу, не знаю, как я все это перенес.
Мне говорят:
– Под актом стоит подпись академика.
И разводят руками.
А я ведь этого академика в глаза не видел. Как не видел меня и сам академик Морозов, заочно подписывая акт.
Такая вот штуковина.
Несколько лет тому назад, в связи с шумом за границей, за подписями именитых светил советской медицины, в прессе появилась такая себе публикация: мол, с 1911 года не было случая, чтобы у нас да кого-либо без основания объявили сумасшедшим.
Не знаю, как себя чувствуют эти именитости сейчас, в период так называемой гласности, когда раз от разу в прессе толчется о тех-иных случаях юридических ляпсусов в психиатрии, выразимся так. Несть ничего тайного, что бы не стало явным – действительно, шила в мешке не утаишь. И Морозов, директор пресловутого института судебной психиатрии Сербского, бормочет:
– Да, у нас были ошибочные диагнозы, но все эти люди уехали за границу.
Поразительная логика! И какой диагноз в этом случае поставить самому Морозову? Разве что – преступная подлость, ибо на невменяемого уважаемый академик не смахивает.
И последнее.
Прошу считать эти мои заметки обвинительным свидетельством в деле о преступной деятельности института судебной психиатрии имени Сербского, преступной деятельности органов госбезопасности СССР, преступной деятельности прочих органов власти, – в деле, если таковое будет наконец юридически возбуждено.
Сентябрь 1988 года.
И тут поневоле приходит на ум – так ли уж безболезненно все это, те страшные годы, не оставив и шрама, отошли в прошлое?
Ой, нет! Я позволю себе добавить еще несколько слов к тому, о чем сказано выше.
Последствия
В августе 1992 года Эмма, моя жена, вспоминая прошлое, рассказала, как она, будучи больной, поехала в Москву, чтобы добиться свидания со мной в тюрьме «Матросская тишина». Я сделал большие глаза. «Матросская тишина», тюрьма КГБ? Я и там был? Для меня, извините, это было откровение.
В 1991 году я опубликовал в журнале «Україна» «Репортаж нізвідкіля». Перебирая все, что касалось прошлого, я и словом не обмолвился об упомянутой тюрьме. Сейчас я пишу воспоминания. Роюсь в памяти, чтобы изложить на бумаге все, что могло бы заинтересовать читателя. Нет там «Матросской тишины». Нет. И вот…
Согласитесь, можно забыть имена людей, с которыми встречался, забыть то или иное, но забыть тюрьму, в которой сидел! Нет, нет, тут что-то не так!
И мы заговорили о Сычевке.
После разговора с Ревякиным начальник этого «медицинского заведения» МВД Ермаков точно взбесился.
– Усиленное лечение!..
Меня посадили на галоперидол и еще какую-то чертовщину – должно быть, паршивее галоперидола. До сих пор не могу вспомнить, чем же еще кроме галоперидола меня пичкали, какой нейролептик?
Эмма рассказывала, что на свидании со мной она ужасалась моего вида. В какой-то мере она меня тогда спасла – я не стал идиотом. Где-то вычитала, что гипертоникам нейролептики противопоказаны, и сунула ту статейку Ермакову. Тому деться было некуда – вынужден был отменить эти медицинские исследования надо мной. Но последствия все же имели место. «Матросская тишина» – поставила все на свое место.
Что же еще, кроме этой тюрьмы, у меня выбили из головы? Теперь я понял, почему у меня масса авторской литературы. Зачем? Значит, я изучал английский, знал его. Забыл. Погружаясь в прошлое, я вспомнил, что в 1936 году усиленно изучал испанский, в заключении (год 1938) читал даже свои свободные поэтические переводы Т. Осьмачки – «Каталонские мелодии». Изучал испанский, ибо, как и многие ребята, страстно желал ехать в Испанию сражаться с Франко. Именно для этого и изучал испанский язык, пользуясь, кстати, стенографическим отчетом судебного процесса над правотроцкистским блоком – миланским и русским параллельно.
Странно все же, что на экспертной комиссии в институте судебной психиатрии имени Сербского не обратили внимание на сие. Какая возможность впереть диагноз явного синдрома явной паранойи! Странно.
Итак, ни испанского, ни английского. Все из головы вон. А еще что вон? Шарапов, Анохин… Ну, это только имена, такое можно было бы и забыть. Вспомнил этих диссидентов внезапно, во сне.
Именно это «открытие» в августе 1992 года и побудило меня написать пятый вариант «Репортажа». Подобное не обойдешь.
Михаил Буянов преподнес такой автограф на подаренной мне своей книге: «… от психиатра, которому стыдно, что он психиатр».
Полагаю, что это исключение. Ни одному советскому психиатру, вероятнее всего, совсем не стыдно за содеянное. Совсем.
В. Рафальский
Карательная медицина
Днепропетровская психтюрьма
Меня повели в 11-е отделение и завели в камеру. В камере, кроме меня, было еще два человека, один из которых уже второй раз поступил в психтюрьму, и я начал расспрашивать у него о заведенных порядках в психтюрьме.
Врача в отделении уже не было, был вечер, я лежал и думал, о чем буду с ними разговаривать. Я считал себя здоровым и надеялся, что врачи быстро это заметят и помогут мне. На следующий день все мои надежды развеялись. Врач сказал, что я «больной на голову» и что мне надо лечиться. Он предупредил, чтобы я даже не пытался жаловаться, так как мои жалобы он все равно не пропустит, а если родственники будут жаловаться на плохое обращение со мной, то он напишет, что я на свидании был в бредовом состоянии и наговорил того, чего в действительности не было. Врач предупредил меня, что родственники все равно ничего не добьются, а мне он назначит активное лечение. Еще этот врач сказал мне, что диагноз мне никогда не снимут и если я после выписки буду пытаться снять диагноз, то меня уже за это привезут снова в психтюрьму. Он запугивал меня. Мне были назначены таблетки, и санитар отвел меня в камеру. Больные находились в камерах, двери камер закрывались и запирались на замок, всю ночь в камере было включено освещение. В дверях были окошки, через которые посматривали на больных. Больные не могли даже в туалет выйти, когда это им было надо, выводили в туалет по расписанию, шесть раз в сутки, одновременно всю камеру. Сначала было тяжело, но санитары быстро приучали к расписанию. Уже на другой день я постучал в дверь и попросил санитара, чтобы он выпустил меня в туалет, так как до оправки было еще больше часа. И тогда же я на себе испытал заботу санитаров о больных. Санитар Иванов открыл дверь и изо всей силы ударил меня кулаком по голове: я упал, а когда поднялся, санитар сказал мне: «Дурак, привыкай к порядку. Ты думаешь, что ты в больнице. Ты в концлагере».
Одиннадцатое отделение было карантинным, и нас осматривали разные врачи, брали анализы, делали рентген. Врач-психи– атр почти не интересовался мной, после первой беседы я не пытался с ним поговорить и ждал, когда меня переведут в другое отделение.
Мне давали таблетки аминазина три раза в день. Приходилось принимать их, так как санитары и медсестры внимательно следили, чтобы больной не выбросил хотя бы одну таблетку. Медсестра давала таблетку, больной проглатывал ее и запивал водой, при этом медсестра и санитар с разных сторон следили за больным, наблюдая за ним сбоку и спереди. После этого санитар брал шпатель и ковырялся им во рту, проверяя, не спрятал ли больной таблетку под языком, или же за десной. Несчастным был тот, кто пытался обмануть медсестру и санитара. Если находили во рту таблетку, то переводили на уколы до того времени, пока на ягодицах образовывались затвердения. Брили нас санитары, один раз в неделю наихудшем лезвием «Нева», причем одним лезвием 10 человек. Мыльную пену разводили в холодной воде. Уже после бритья первого человека лезвие затуплялось и для других бритье было болезненным, так как почти каждый раз санитары делали порезы на лице. Уже в 11-м отделении я ощутил себя слабым, несостоятельным противодействовать жестокости, бесчеловечному отношению ко мне и другим больным. Но все это, как говорят, были только цветочки, ягодки же ждали меня в третьем отделении, куда меня перевели 30 апреля 1986 года.
В третьем отделении меня завели в надзорную камеру. В этой камере вместо дверей была решетка, за которой круглосуточно стояли санитары и все время наблюдали за больными. Мне принесли половину матраса, разорванное грязное одеяло, подушку, туго набитую ватой, простыню и наволочку. Я заправил кровать и, сидя на ней, начал наблюдать за больными и прислушиваться к их разговорам. Ко мне подошел Дима Шеремех и спросил, кто я, откуда и за что направлен в психтюрьму. Я ответил ему, но он подозрительно посмотрел на меня и сказал: «По второй части 206-й статьи, здесь что-то не так». Я спросил у него, есть ли в отделении политические заключенные и помнит ли он Леонида Плюща. Но Дима ответил, что не будет рассказывать о Плюще, так как Неля Михайловна каждого, кто произнесет это имя, переводит на активное лечение. Дима еще сказал: «С тобой все понятно, больше разговаривать мы не будем». Решетка отворилась, и санитар крикнул: «Ильченко, собирайся к врачу». Меня повели к врачу, но не в ординаторскую, а к начальнику отделения. За столом сидела женщина лет пятидесяти и, как мне показалось, смотрела на меня с сочувствием. Врач предложила мне сесть на табуретку, а санитар стоял сзади меня. Врач спросила, не удивляет ли меня то, что с первого раза за «такое пустяковое преступление» меня направили сразу же к ним. Я ответил, что у меня были конфликты с сотрудниками КГБ, милицией, с представителями советских и партийных органов и нет ничего удивительного и непонятного в том, что меня направили в психтюрьму. «Вы правильно понимаете, – ответила врач. – Вы оказываете плохое влияние на окружающих вас людей». Врач мне еще не представилась, она предложила мне рассказать о моей болезни. Я сказал, что здоровый и никакой болезни у меня нет; а то, что меня признали сумасшедшим, есть злоупотребление психиатрией. «Больной ведет себя агрессивно, – сказала врач санитару. – Поведите его на укольчик». Меня повели сначала в надзорную камеру, а через одну-две минуты – в манипуляционную. Санитар приказал мне снять брюки и лечь на топчан, что я и сделал. Мне сделали укол, очень болезненный, и снова завели в камеру. Мне хотелось спать, и сильно болела ягодица.
Минут через десять всем приказали по очереди идти в умывальник мыть руки, чтобы с чистыми руками принимать таблетки и заходить в столовую. Я зашел в умывальник, в глазах потемнело, я понял, что потеряю сознание, прислонился к стенке, и стало совсем темно. Очнулся я в манипуляционной, на топчане. Возле меня стояли санитар, медсестра и начальник отделения. Врач говорила: «Какой вы слабенький, какой вы слабенький, но ничего, я вас подлечу». Медсестра назвала врача Нелей Михайловной, и я сразу же понял, кто меня будет лечить.
После ужина нас опять завели в камеру. Я уснул, это от снотворного, но меня быстро разбудили. Я подумал, что уже утро, но оказалось, что еще вечер и нас поведут в туалет. Сон валил меня с ног, я не хотел идти в туалет, но надо было подниматься и идти, иначе бы меня привязали к кровати. Больные должны были беспрекословно выполнять все указания санитаров и во всем быть послушными. Возвратившись из туалета, я уснул, но после 21 часа меня снова разбудили и опять мне пришлось идти в туалет, хотя мне и на этот раз это было не нужно, мне очень хотелось спать. До утра я спал. Утром санитар разбудил меня и повел в манипуляционную, где мне сделали еще один укол. Уколы мне делали утром и вечером; три раза в день давали таблетки. Когда Неля Михайловна зашла в камеру, я попросил, чтобы она отменила мне уколы, но она сказала, что это лишь начало лечения, которое будет продолжаться очень долго.
Я подружился с узником совести Леонидом Добровым. Мы с ним вместе были в 25-й камере на шоковой терапии. Однажды в камеру зашла Неля Михайловна и сказала: «Добров, вы больше на прогулке не разговаривайте с Сашей Вороной». Леня же сказал, что у него есть своя голова и он сам знает, с кем ему разговаривать, а с кем не надо. Любое несогласие с Нелей Михайловной вызывало в ней большой гнев и раздражение. Она аж завизжала: «Будем лечиться!» – и выскочила из камеры. Пришел санитар и повел Леню на укол. Спустя немного времени Леня потерял сознание и упал. Но Нелю Михайловну это не удовлетворило, она продолжала назначать ему уколы, после которых у него случались обмороки и он падал. Я старался постоянно быть возле него, чтобы подхватывать его при падении, чтобы он не ушибся.
Леня был студентом Ростовского инженерно-строительного института. За политические убеждения его из института отчислили. Леня вызывал недовольство у сотрудников КГБ тем, что добивался введения в школе гагаузского языка. В Молдавии есть город Комрат, где проживают в основном гагаузы. Вокруг Комрата находится много гагаузских сел. Вот Леня с группой товарищей добивались, чтобы в их школах изучали гагаузский язык. Леня с этим вопросом неоднократно обращался в различные партийные и советские органы Кишинева и Москвы. Как мне кажется, он писал, что в СССР не придерживаются ленинской политики в национальном вопросе. По обвинению в распространении клеветы на советскую действительность Леня оказался в психтюрьме у уже известной Нели Михайловны.
Анатолий Ильченко
Как «лечат» пациентов в Волгоградской спецпсихбольнице
Письмо из России
СПБ Волгоградской области находится в 200 км от Волгограда, 18 км от г Камышин. В больнице шесть отделений: 1-е отделение (приемно-карательное) – на 30–35 человек, 2-е отделение – на 70–80 чел., 3-е отд. – на 115–125 чел., 4-е и 5-е отделения – по 115–125 чел., 6-е отд. – 100 чел. Охрана осуществляется солдатами «ВВ» (внутренние войска). Высокий каменный забор – свыше четырех метров. Раньше, до 1978 года, была женская колония с деревянным забором, окрученным колючей проволокой. Затем бараки были снесены и на их месте отстроены блоки-корпуса СПБ. Позже, в 1985 году, заложен фундамент под 7-е отделение.
Площадь СПБ – 4 га. По внутреннему периметру вдоль стены – КСП (контрольно-следовая полоса) шириной 7–8 метров, тоже защищенная колючей проволокой. Имеются три вышки, охранники на вышках вооружены автоматами и пистолетами. В каждом отделении круглосуточно дежурит один охранник и 4–5 санитаров– зэков.
Начиналась СПБ с двух отделений и расширенного штрафного изолятора. Первые узники завезены в мае 1978 года.
Начальник СПБ подполковник Давыдов, главный врач – Резник, зав. 4-м отделением Марышев Петр Александрович, 1941 г. р., член КПСС, убежденный атеист, на всех верующих смотрит как на психбольных, садистски острит, когда кого-либо приговаривают к уколам. Все врачи вербуют агентуру по палатам, столь странным образом восстанавливая ум «больных», психическое здоровье. Абсолютно бесправные, социально всецело раздавленные пациенты, у которых «срок» неопределен, покорны врачам во всем. Доносительство, угодничество – воздух СПБ.
Работы для узников сосредоточены в швейном цехе: шитье рукавиц, мешков, чехлов. К чести этого заведения, норм выработки нет, как в других дурдомах, Кто сколько может, тот столько и шьет. Платят поэтому по сделанному за месяц: кому 1 руб. в месяц, кому – 5–6 рублей. Мойщики полов в отделениях зарплаты не получают. Используемые на строительных работах подсобниками, как, например, на строительстве новых отделений, рытье траншей, получают 5–6 рублей в месяц.
Питание в основном состоит из борща, приготовленного из квашеной капусты, без картофеля, без мяса и даже без сала. Есть еще непонятная мутная бурда или рассольник из кислейших огурцов и помидоров с добавлением круп. «Больные» просили, чтобы не портили суп огурцами, а давали один крупяной отвар. На это они получили отказ, потому что нужны большие отходы из остатков пищи для кормления нескольких десятков свиней из подсобного хозяйства. Свинина на стол зэка не проникала (или иногда что-то очень вываренное со слабым запахом). Второе блюдо: низкосортные крупы с мелкими камнями вперемежку (сколько зубов сломано…), каши из пшена, перловки, овса, риса. Или квашеная капуста, пропаренная под солянку, абсолютно несъедобная. В столовке едят в четыре смены.
СПБ «Дворянская», как и прочие СПБ, не отстает в количестве статистики смертей. За это время, с 1978 года, в СПБ скончались, повесились, умерли от уколов, были забиты или повешены санитарами, расстреляны более 40 человек.
Вот некоторые примеры. Николай Кудлаев из Пензы, 1953 г. р., исповедовавший коммунистические идеи горбачевского толка, за них и посажен в СПБ. Много раз Н. Кудлаева наказывали уколами, изолировали в одиночке, где его мучительно избивали санитары и менты «ВВ» (били с прибаутками: «это тебе за ревизионизм», и сапожищем в бок с размаху – «это тебе за уклонизм», в зубы – «это тебе за то, что извращаешь Ленина и клевещешь на КПСС») и били до бессознательного состояния. В мае 1981 года слух по отделению: Кудлаев в тяжелом состоянии, а 31 мая того же года стало известно от санитаров, что он повесился. Соседи-больные по коридору говорили, что в эту ночь Н. Кудлаева санитары и менты нещадно били, закрыв его рот подушкой, чтобы не были слышны крики несчастного. Как он мог повеситься, если был привязан к кровати? Ясно, что забит до смерти.
И вот случай: 12 ноября 1981 года узник Хворов из Тамбовской области, отчаявшись от мучительных уколов пыточного «лечения», от беззакония – произвола санитаров, от несъедобной пищи, завладел топором, случайно оставленным строителями у отделения. Вырвался с топором из своего 1-го отделения на территорию СПБ, никого не убил и не ранил, лишь требовал беседы с главврачом Резником и начальником подполковником Давыдовым. И те лица с расстояния тридцати метров согласились беседовать с Хворовым, уговаривая его бросить топор и сдаться. Хворов заявил, что согласен сдаться, если администрация удовлетворит его требования: 1) уменьшить лечение, количество уколов или таблеток, так как его организм на пределе; 2) администрация должна запретить санитарам бить больных; 3) должно быть улучшено питание, так как оно совершенно несъедобно. «Сейчас накормим», – крикнул Давыдов, вытащил из кобуры пистолет и два раза выстрелил в Хворова. Все зэки видели из окон, как упал в крови Хворов, который вскоре умер на глазах сотен свидетелей.
Или еще случай весной 1980 года. Один «больной» из 2-го отделения пытался бежать, ухитрившись перемахнуть через стену. Поймали. Менты «ВВ» били его сапогами и прикладами автоматов, пока тащили к 1-му карательному отделению. Ночью продолжали бить, уже привязанного к кровати, к утру несчастный скончался от побоев.
И еще. Тоже весной 1980 года. Один зэка, убив трубой медсестру 2-го отделения, свел с ней свои счеты. Его изолировали в 1-м отделении, привязали к койке, и в течение недели каждый контролер «ВВ» – дежурный – считал своим долгом «отметиться», заступив на дежурство, т. е. сапогами и резиновой дубинкой избить привязанного до полусмерти. Били его санитары, бил сержантский состав «ВВ», били офицеры, бил и сам начальник опер– части. Через неделю – смерть, забит…
Летом 1980 года «больной» В., оказал сопротивление санитарам 4-го отделения, когда у него пытались забрать посылку. Наказание – 1-е отделение, одиночка, где проводилась «кулачная обработка». Через месяц – смерть, не выдержал «обработку» с интенсивным «лечением» уколами. Официальная причина смерти – «слабое сердце».
Особенно много людей умирало в отделении врача-психиатра Даниловой. Она лично часто обращалась к санитарам и к охранникам «ВВ» поучить такого-то или такого-то: «Ну, не понимает, товарищи, поучите!». Забитых у Даниловой или заколотых насмерть было такое количество, что ее пришлось отстранить от заведующей даже своими коллегами, увы, не гуманистами, и понизить до зама в другом отделении.
Есть трогательный случай. «Больной» Ярковой из Воронежской области умирал весной 1980 года в изоляторе 3-го отделения от туберкулеза. За сутки до смерти попросил у врача и медсестер прислать батюшку для исповеди и причастия. В ответ – смех и остроты. Ярковой из последних сил стал кричать: «Скорее батюшку, умираю». За этот крик санитары стали бить его. Другой «больной», воспользовавшись случаем, когда в камере умирающего никого не было из персонала, вошел к нему и как священник принял исповедь и отпустил грехи со словами: «Господи Иисусе Христе, прости его грехи во имя Отца и Сына и Святого Духа». Ярковой как-то сразу стих и вскоре умер. Ему не оказывали никакой квалифицированной помощи, не госпитализировали, не улучшили даже питания. Лишь поставили капельницу, когда уже пульс едва прощупывался.
P.S. В этой проклятой больнице много лет томится политзаключенный, юрист, Сергей Павлович Белов. «Лечением» его сделали хроником-гипертоником, давление часто 200 и более. От кислой еды расстроены желудок и печень. До «лечения» он был абсолютно здоров. Стоит Белову с кем-то заговорить, сразу последнего на допрос к врачу. «О чем это ты беседовал с господином Беловым?» Врач Марышев П.А. проводит часто с Беловым такие воспитательные беседы: «Ты – больной, ты – больной, ты – больной, ты – больной. Запад воспользовался твоей болезнью, делая из тебя значительную личность, а ты просто больной».
Степанов
Февраль 1987
ОТ РЕДАКЦИИ:
Под публикуемым нами письмом стоит только подпись: Степанов – без имени. Мы не знаем, подлинная это фамилия или псевдоним, не знаем, вышло ли это письмо на волю из психиатрического застенка или написано освободившимся оттуда, но в обоих случаях можно оценить риск, на который идет человек (даже если он не подписался своим именем). Волгоградская СПБ (403843, Волгоградская обл., Камышинский район, с. Дворянское, учр. ЯР-154/СПБ) существует десятый год, но публикуемое письмо является первым свидетельством о ней. Пуще ракет и лазеров берегут советские власти «государственную тайну» психиатрических тюрем. Никому неведомо число узников совести этого «духовного Освенцима» (по определению А. Солженицына). Никакая «гласность» их не коснулась. Почти не коснулась их и (ныне практически замершая) волна освобождений. Каждая крупица информации – помощь в борьбе против карательной психиатрии.