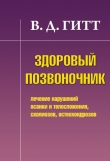Текст книги "Советская психиатрия
(Заблуждения и умысел)"
Автор книги: Ада Коротенко
Соавторы: Наталья Аликина
Жанры:
Медицина
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Репортаж из ниоткуда
Нечто вроде предисловия
В последнее время за границей общественность взбудоражило намерение советских психиатров опять войти в контакт со Всемирной Ассоциацией психиатров, реабилитировав себя таким образом в глазах врачебного мира. Наша же общественность, похоже, не реагирует на это. А стоило бы.
В свое время группа советских психиатров, не ожидая скандального исключения, заблаговременно ушла из этой Ассоциации – тогда особенно бушевали страсти вокруг преступной связи наших психиатров с органами госбезопасности.
Считая, по-видимому, что время уже достаточно загладило мрачное прошлое, наши психиатры, как говорится, воспряли духом. Они зондируют почву вокруг вопроса восстановления их в членстве упомянутой Ассоциации. Но есть все же одно «но».
До сих пор советские психиатры упорно хранят «благородное молчание» по поводу обвинения в политизации нашей отечественной психиатрии – что за всем этим кроется, давно известно.
Я из числа тех, кто против того, чтобы давать потачку этой преступной своре. Никаких членств!
Еще не сказано последнее слово. А оно, это слово, за органами юстиции.
Исходя из всего этого, я вторично предлагаю к публикации свой «РЕПОРТАЖ ИЗ НИОТКУДА», датированный 1988 годом.
Жалкие заметки на страницах газет по столь вопиющему вопросу– это, конечно, не боль времени.
Нужно нечто иное.
Слово за честными психиатрами.
В. Рафальский
Сентябрь 1989 г.
Последнее известие
16 октября 1989 года на конгрессе Всемирной ассоциации психиатров большинством голосов Общество советских психиатров восстановлено в членстве данной Ассоциации.
По этому поводу председатель Общества советских психиатров Савченко сказал:
«Я, правду говоря, не ожидал, что Общество советских психиатров будет восстановлено в членстве Всемирной ассоциации психиатров».
Возвращение общества советских психиатров в членство всемирной ассоциации психиатров является оскорблением каждой жертвы советской психиатрии. Поэтому я слагаю с себя полномочия почетного члена Всемирной ассоциации психиатров.
А. Корягин
В анналах истории иногда можно натолкнуться на такие омерзительные сюжеты, которые историку и описывать-то тошно.
Нечто подобное ощущаю и я, делая эти записи.
Речь идет о так называемых специальных психиатрических больницах, которые до 1959 года назывались просто тюремные психиатрические больницы МВД СССР.
Своим появлением эти «больницы» обязаны хитромудрой деятельности покойного генерального прокурора Вышинского. Это его идея. Именно по его указанию была создана еще в тридцатые годы Казанская тюремная психиатрическая больница – первая в этом роде.
Видимо, Сталину это пришлось по нраву, так как в «больницу» сию было упрятано не одну сотню партийных работников всех рангов, неведомо чем неугодных вождю всех времен и народов. Что там происходило, одному Богу ведомо. Один из тех несчастных, который вышел оттуда полным инвалидом (это уже после смерти Сталина), рассказывал мне, какие пытки и издевательства он там претерпел. Ежедневно – побои резиновыми шлангами, нечто вроде утренней зарядки, и так из года в год, из года в год. А впереди – неизвестность, ибо из Казани никого не выпускали.
После войны была основана еще одна «больница» – в Ленинграде. А затем еще и еще. В общей сложности, этих «больниц» сегодня в стране, наверное, десятка полтора. Правда, в 1958 году была мысль эти «больницы» ликвидировать. Об этом мне рассказала заведующая четвертым отделением Ленинградской тюремной психиатрической больницы, где я был некоторое время. Говорила о той государственной комиссии с досадой, упрекая и себя, и других врачей за то, что так упрямо отстаивали целесообразность существования таких заведений.
– Если бы мы знали, что нам после этого срежут ставки, черта с два мы так себя повели бы, – цинично говорила сия дама.
Не знаю, почему она так разоткровенничалась.
Следует сказать, что главной причиной такого ограниченного освобождения из спецбольниц этих являются именно эти злополучные врачебные ставки. Для врачей, если их можно так назвать, психушки МВД – золотое дно. Ответственности никакой, взятки сами плывут в руки, и высокая, в сравнении с Минздравом, зарплата. Каждый держится за свой контингент больных (20–25 человек), будет меньше – могут сократить штаты.
Впервые я был арестован в 1954 году (имею в виду послевоенное время, не касаясь ежовщины). Обращаюсь к этому экскурсу, чтобы выяснить некоторые метаморфозы, какие претерпела эта тюремно-психиатрическая система.
Итак, в том году мне было предъявлено довольно солидное обвинение в антисоветской деятельности. Одна важная деталь: Хрущев как-то выразился, что выступать против нашей системы может только сумасшедший. Это его слова, и попали они даже в прессу. Совершенно ясно, что и врачами, и органами госбезопасности это было воспринято как директивное указание. Что это действительно так, в этом нет сомнения, ибо все тюремные психушки – Ленинградская и Казанская – были переполнены фрондирующей молодежью, студентами ленинградских и московских вузов, которых судить было нельзя («политзаключенных у нас нет» – Хрущев), а упрятать в дом умалишенных, за десять замков – как раз резон. Юридическое оформление всего этого был возложено на институт судебной психиатрии имени Сербского в Москве, – в частности, на его четвертое отделение (политическое). Возглавлял отделение Лунц, заместителем была Маргарита Тальце, в прошлом (в период бериевщины) заведующая этим отделением. Поскольку я о ней вспомнил, следует вспомнить вообще об ее деятельности в сталинские времена.
Санитарки, работавшие в пятидесятые годы, откровенно нам рассказывали (тогда тоже была «гласность») о делах и деяниях Маргариты Тальце. Они свидетельствовали, что эта дама лично допрашивала заключенных, привезенных сюда из Лубянки и Лефортово, при помощи каких-то сильно действующих препаратов (делала уколы), после чего, весьма часто, увозили трупы.
Поскольку этих старых санитарок сегодня, возможно, нет уже в живых, я готов принести какую угодно присягу, что все это я действительно слышал от старых санитарок, и что свидетелями этих откровенных разговоров были и другие политзаключенные.
После расстрела Берии Тальце понизили в должности (видимо, все это всплыло наружу), но сегодня Маргарита Тальце опять возглавляет четвертый отдел. Правда, теперь там для политических отведен лишь закоулок, бывший изолятор, так как отдел стал сугубо уголовным.
Но обратимся к тем временам.
Четвертое отделение находилось в непосредственном подчинении органов госбезопасности. Именно по указанию этих органов и проводилась вся юридическая деятельность четвертого отделения. О том, что это действительно так, говорят факты.
Ленинградский кибернетик Ветохин проходил одесскую экспертизу. Когда последняя признала его вменяемым, органы госбезопасности обратились к институту имени Сербского. Выводы одесской экспертизы их не устраивали. Институт, соответственно, изменил диагноз.
Когда я в 1962 году вторично попал в тиски госбезопасности, экспертизу мне проводил Киев. Заключение – вменяем. Казалось бы, все ясно. Но, судя по всему, это не устраивало Комитет госбезопасности, где велось следствие по моему делу. Я попадаю в институт судебной психиатрии имени Сербского. И тот же результат, что и с Ветохиным – «чего изволите?» Возникает вопрос – какой во всем этом смысл? Если так можно выразиться – смысла тут два. Во-первых, меньше политических дел (и так много толков), во-вторых – бессрочность содержания «неугодных» под стражей. Ничего оригинального, как видим, в этом нет. И разумного тоже. А вот обыкновенной подлости – по уши.
Коль речь зашла о тесной связи четвертого отделения института им. Сербского с Лубянкой, не могу не рассказать еще об одной истории. Истории трагической во всех отношениях.
Даниил Леонидович Андреев.
Арестованный подручными Берии по обвинению в подготовке покушения на Сталина, Даниил Андреев ровно десять лет, от звонка до звонка, просидел во Владимирском политизоляторе. Да, он сознался в предъявленных ему обвинениях, подписал все, что от него требовали в Лефортовской тюрьме следователи госбезопасности. Сознался потому, что был уверен – расстрела не миновать, а истязаниям не было конца. Его били ножкой стула по голени ног, выколачивая из него всякого рода абсурдные признания, применяли и другие изощренные пытки. Он сознался, тем более, что сокамерники не скрывали: отсюда живыми не выходят.
Не расстреляли – закрыли наглухо во Владимирской тюрьме. Наверное, Берия в очередной раз докладывал вождю, от какой опасности он его, вождя, уберег. Может быть, и орден заработал на этом деле.
Даниил Андреев – сын известного русского писателя Леонида Андреева. Когда началась так называемая хрущевская «оттепель», оставшихся в живых жертв сталинского террора освободили из мест заключения. Но вместо того, чтобы выпустить, как и других ему подобных, Андреева привозят на экспертизу в институт имени Сербского. Зачем? Ведь он отбыл срок, он должен быть реабилитирован. Я встретил его там в 1957 году. Роста выше среднего, крупные черты интеллигентного лица, удивительно добрые человеческие глаза. При аресте у него изъяли рукопись, которой он дорожил. Сожгли, конечно. Об этом впоследствии с гневом писал К. Симонов – почему, мол, такая идиотская практика в пресловутых органах – уничтожать изъятое?
Была «оттепель», и Даниил Леонидович, особенно не стесняясь (чего уж там) читал нам свою поэму, сильную и талантливую. Я был тогда молод, лет десять было разницы между нами. Да и вузовской молодежи было много – я уже выше говорил, как заботливо Хрущев заталкивал фрондирующую молодежь в тюремные психушки. Такое окружение, по-видимому, было приятно Андрееву, и он читал свою поэму этим молодым зеленым фрондерам.
Иду туда, где под землю
сползают эскалаторы,
Где светится над входами
неоновое «М»,
Там статуи с тяжелыми
чертами узурпатора…
Мне кажется, Андреев мало верил (или и вовсе не верил) в эту хрущевскую «оттепель». Во всяком случае, когда наиболее башковитые юнцы выучили наизусть эту поэму, он просил, чтобы ее не публиковали.
Спрашиваю себя, зачем все же привезли на экспертизу Андреева, почему не выпустили. На это могла ответить только Лубянка.
Видимо, Лубянка была почему-то заинтересована в том, чтобы своего подопечного пустить дальше по линии тюремной психиатрии, не иначе.
Когда я, после освобождения, в 1960 году навестил его жену, Андреева уже не было в живых. Он умер от рака крови спустя шесть месяцев после того, как он прошел эту дурацкую экспертизу и был освобожден. У него был рак крови, и врачи это знали, и Лубянка знала, – не знал только он, Даниил Андреев. Вот почему его не заточили еще на годы в тюремную психбольницу, а отправили домой умирать.
Истины ради скажу, что Алла Александровна, ознакомившись с «Репортажем», укорила меня в искажении некоторых фактов, касающихся ее мужа. Правду говоря, я в самом деле не знал кое– каких обстоятельств. Думаю все же, что я не покривил душой, изложив то, что знал в то время отнюдь не по кривотолкам. В конце концов, Алла Александровна вправе внести свои коррективы.
У меня нет намерения исписывать кипы бумаг на эту тему. С меня достаточно того, что я перенес за долгие двадцать лет последнего заключения. Прошу все же понять, что описывать все то, свидетелем чего я был, – это как бы снова начинать свое хождение по мукам, – а это свыше моих сил. Следовательно, лаконичность прежде всего.
Год 1955. Первое мое знакомство с экспертизой института судебной психиатрии имени Сербского. Четвертое отделение. Глава – Даниил Лунц. Нас, подследственных кроликов, как мы себя называли, – 69. Впереди – только тюремная психиатрическая больница. Это название существовало до 1959 года. Теперь – спецбольница системы МВД.
…Генерал Геннадий Куприянов. Так называемое «ленинградское дело». Пять лет по лагерям. Кто-то, по-видимому, не заинтересован в его, Куприянова, реабилитации (возможно, Серов, глава госбезопасности). Характер твердый, бескомпромиссный. Генерала явно спроваживают по линии психиатрии. Имеет свидание с женой, которой сказал: «Иди к Жукову…»
Когда я через полгода попал в ленинградскую тюремную психушку, мне рассказали удивительную историю. Как только привезли Куприянова, эскулапам звонит Жуков:
– Что-о?! боевого генерала в сумасшедший дом?! освободить! немедленно!..
Итак, когда меня приэтапировали, Куприянова уже там не было. Выпустили как больного, который «излечился». Моментально «излечился». И пошел генерал работать в аппарате Ленинградского обкома партии.
Анекдотично, не правда ли?
Атмосфера тяжелейшая, но, в сравнении с тем, что я перенес позже, это еще цветочки, ягодки потом – когда к власти придет Брежнев.
О, это те еще ягодки!
Повторяю: это был год 1955. Правда, и тогда были цветочки не из приятных. Метод усмирения: раздевают донага, укутывают мокрой простыней, привязывают к кровати и в таком состоянии держат, пока человек не завопит. Ибо, высыхая, плотно обвернутая простыня причиняет невыносимую боль. Это так называемая укутка. В ленинградской психушке практиковалось довольно часто.
Сцена. Ведут меня коридором второго (экспертного) отделения. Дверь одной из камер открыта настежь (тут все одиночки). На кровати голый человек на «растяжке» – руки и ноги притянуты жгутами. Здоровенный надзиратель тянет за мошонку. Душераздирающий крик. Рядом – сестра. Что бы это значило – неясно. Меня от этого зрелища шатает.
Вот так-то.
Колоритная фигура: Николай Самсонов, геофизик из института Арктики. Солидный специалист. Автор научных работ. Бескомпромиссный. Таким особенно тяжело. Марксист-ленинец. И сидит он за… ну просто – тьфу, да и только! В письме к академику Виноградову чесанул Хрущева.
Где-то в году шестидесятом – уже после моего освобождения – был я у жены Самсонова (по специальности – физик). Рассказала мне, что на защиту Самсонова стал весь институт Арктики – дирекция, профком, коллектив. Все напрасно.
Ах, читатель, читатель! Не сделать ли нам с вами определенного вывода из дела уважаемого Николая Самсонова: в государстве нашем все вершит один лишь закон (основной при том и неписаный при том): тот прав, кто имеет больше прав. Достаточно указания сверху – конец законам и Конституции.
Я не знаю, какой была судьба Самсонова. Когда я вышел в конце 1959 года, он уже сидел пять лет. Нравственные издевательства – это самая страшная вещь. Самсонова к тому же накачивали аминазином, что было ему противопоказано – больная печень. От него требовали только одного: покайся! Он сказал: нет!
Уже много позже я узнал, что выпустили его полным инвалидом.
Вы знаете, это страшно, когда человек очень верит в систему, которая его же губит. Мне было Самсонова по-человечески жаль, хотя я не разделял его политических взглядов.
История с Самсоновым не единичный факт, когда единомышленники уничтожают единомышленника.
Студент пятого курса философского факультета Киевского университета Толич, уверовав в хрущевскую «оттепель», создал марксистский дискуссионный клуб. Его арестовали. Но это был довольно-таки курьезный случай. Судить? Да ведь он марксист! Объявить умалишенным? Да ведь он марксист! Не знаю, чем уже там думали компетентные ребята из компетентных органов, но что– то все же думали. Думалось им, видимо, не легко. Крутили это дело целый год, и вынуждены были (с каким сердцем!) освободить Толича из-под стражи. Был это, кажется, единственный случай, когда мудрые эскулапы (или как их там) института имени Сербского не признали своего подопечного душевнобольным. Но ведь и положенице у них было, эскулапов этих! За марксистские убеждения поставить клеймо сумасшедшего!
Я встречал впоследствии Толича. Выгнали все же из университета. Способный парень был, что и говорить, но имел неосторожность слепо уверовать в то, во что лучше не верить.
Это не такое уж что-то исключительное – единомышленники уничтожают единомышленников.
Федор Федорович Шульц. Человек необыкновенный во всех отношениях. Целеустремленный, бескомпромиссный. Член партии бог знает с какого времени. Честность и человечность – характернейшие черты в нем. И вот этот человек, Федор Шульц попадает в сталинскую мясорубку.
В 1930 году саратовская парторганизация в полном составе – в оппозиции к Сталину. Что за этим произошло – не стоит и толковать. С тех пор Шульц – вечный заключенный сталинских концлагерей.
В 1956 году, во времена хрущевской «оттепели» – реабилитирован. На комиссии ЦК по реабилитации, возглавляемой Сусловым, сказал:
– Если будете опять то же самое – тюрьмы и лагеря за взгляды, можете не реабилитировать.
Члены комиссии переглянулись и реабилитировали. Шульц стал персональным пенсионером союзного значения. Не прошло, однако, и несколько лет, как «персонального пенсионера союзного значения» опять берут за жабры. На этот раз – за письмо в ЦК, в котором он подвергает уничтожающей критике деятельность Политбюро того времени (Президиума, как тогда оно называлось). Шульца заталкивают в Ленинградскую тюремную психушку. Странная вещь: персональный партпенсионер в тюрьме!
Спустя год на комиссии профессор Туробаров, председатель, многозначительно спрашивает:
– Ну что, будете писать в ЦК?
ШУЛЬЦ:
– Я? Писать в ЦК? Принципиально нет.
ТУРОБАРОВ:
– Вот, вот, вот!
И санкционирует выписку из сумасшедшего дома: ремиссия.
Ну, чем не цирк?!
Повторяю: это не такое уж что-то исключительное: единомышленники уничтожают единомышленников.
И совсем не исключительно и, я бы оказал, совершенно закономерно, когда единомышленники спасают единомышленников. Да, в некоторых случаях тюремная психбольница играла роль спасательного круга для кое-кого. Именно так и использовали эту «больницу» те, кому это было нужно из тех или иных соображений. Берию расстреляли. Остались приспешники, за которыми стояли еще какие-то законспирированные приспешники, и именно эти последние делали все, чтобы кого-то из своей братии при возможности уберечь от роковой пули.
И уберегали.
Саркисов, личный охранник Берии, человек, на совести которого сотни изнасилованных женщин, которых он, Саркисов, затаскивал в логово грузинского проходимца. После сих трудов праведных, он, Саркисов, теперь отдыхает на Арсенальной, 9, в стенах ленинградской тюремной психбольницы. У него здесь все условия, в отличие от других заключенных. От нечего делать, вспомнив свою мирную профессию (инжененер-текстильщик), конструирует из хлеба и спичек действующую модель ткацкого станка. И Саркисова, и эту модель при случае тюремное начальство, сияя улыбками, демонстрирует высшему инспекционному начальству, тоже сияющему улыбками, и все олл райт, и все дважды олл райт – психически больной Саркисов на пути к выздоровлению (он, видите ли, все совершил в невменяемом состоянии).
А он даже не симулирует – есть ли надобность?
Кто-то, где-то там, из притаившихся среди «власть имущих» опекает беспрепятственно бериевскую сволочь.
И здесь же, на Арсенальной, 9, бывший командующий войсками МВД Московской области генерал… фамилия? Там, в верхах, знают. А тут генерал – инкогнито. Сохраним же это инкогнито.
А генеральская жена, дама в каракулях, в зале свиданий точно ищет сочувствия у присутствующих:
– Вы знаете, он был такой деликатный человек, такой деликатный человек…
«Деликатное» эмведешное начальство! Вы можете себе такое вообразить? Я – нет.
Такая вот историйка.
Был такой случай – вспомнился этот тип, Саркисов.
Эпизод: сижу в компании, напротив – миловидная девушка – эстрадная певица. Наглухо закрытое до самой шеи платье. Шепчу соседке:
– Не совсем модно.
– Молчи, – толкает ногой, – она побывала у Берии, он тушил папиросы на ее груди.
Всплывает улыбающееся лицо Саркисова – поставщика женских тел.
Я попал в эту тюремную психиатрическую душегубку в конце 1955 г. (адрес: Ленинград, Арсенальная, 9, бывшие «Малые кресты»).
Знал ли я о существовании тех заведений? Знал, был достаточно информирован, поэтому только и было в мысли – не попасть бы туда. Однако, все мы были подвластны силам, которые сами решали, что с нами делать. Скажу прямо: когда я попадал в тюрьму (что было довольно часто), я, верите ли, отдыхал. Ибо что была тюрьма в сравнении с ужасом тюремных психушек?! Есть вещи, которые просто невозможно представить. Когда человек годами находится под нейролептиками – это превышает человеческое воображение. А впереди – неизвестность. Она калечит, она убивает. Слабые духом не выдерживают – вешаются. Но нейролептики ломают и дух, и тогда бывший человек теряет всякое человеческое достоинство, падает на колени перед своими палачами, молит о милосердии, как это было с журналистом Лавровым. На десятом году издевательств он упал на колени – и его «выписали» как пациента, пребывающего в состоянии ремиссии. А дело Лаврова достойно страниц юмористического журнала. Поссорился с прокурором и заказал гроб, который по заявке заказчика работники похоронного бюро принесли торжественно в прокуратуру. Обладай прокурор чувством юмора, он прореагировал бы как-то иначе на эту злую шутку, но, как почти все прокуроры, он был туп как сибирский валенок. Журналиста заточили в тюремную психушку, прокурор вскоре таки умер, а бедный Лавров оттарабанил почти десять лет, пока не стал на колени. Лавров действительно был болен, но зачем так издеваться? Больным, естественно, в тех условиях было особенно тяжело.
Очень трудно понять, зачем, в конце концов, нужен этот придаток к судебно-карательной системе? Да и держится все в страшном секрете. Когда в семидесятые годы я мучился в Днепропетровске, в тюремной психушке, местная пресса напечатала заметку о том, что в Днепропетровске нет никакой спецбольницы, и что это вымысел зарубежных средств информации. Сомнительно, однако, чтобы днепропетровские газетчики так-таки не знали координат этого Богом проклятого места: Чичерина, 101, территория областной тюрьмы.
Но вернемся к пятидесятым годам. Я был тогда молодым тридцатишестилетним человеком, полным энергии и пыла. Гнить на Арсенальной не входило в мои планы. Мысль была одна – побег. И я удрал. Это был март 1956 года. Не буду касаться деталей. Стреляли – не попали. Должно быть, повезло. Странная вещь – признать человека невменяемым, и содержать этого человека под вооруженной охраной, имеющей право убивать. Во всяком случае, могу свидетельствовать о таком. Летом 1976 года, когда я находился в Сычевской тюремной больнице, там при попытке побега был пристрелен молодой паренек (фамилия – Литвинов), а перед тем во время этапирования убили подростка. И это все законно, и не подкопаешься. В действительности – вопиющее нарушение основ международного права.
Так вот – я бежал. Была затяжная зима, а я без денег, в тюремном бушлате, пробирался через тысячекилометровую территорию на Украину. Через несколько месяцев, когда, казалось, все уже позади, невзгодам конец, меня постигла беда: бывший мой ученик из Калушской средней школы, а тогда преподаватель Станиславского мединститута, человек, к которому я обратился за помощью (попросил немного денег), бессовестно выдал меня органам власти. Это была трагедия, промолчать о которой я просто не в силах, хотя к моим заметкам она имеет косвенное отношение. Позже я написал стихотворение «Дозьо Котурбаш, лікар». Запомните это имя. Он и теперь преподает в Ивано-Франковском мединституте.
Но прошу извинить за отступление.
Можно себе представить, что тогда поднялось на Арсенальной, 9, когда такая «политическая фигура» драпанула оттуда. После, так сказать, возвращения меня сразу же закрыли: в одиночке экспертизного отделения.
Экспертизу проводила Кильчевская, старая бабища с застывшим каким-то помертвевшим лицом, в одеянии времен последних Романовых, в молодости – сотрудница ЧК. Комиссию возглавлял профессор Случевский.
Заключение – вменяем.
Случевский:
– Молодой человек, если кто-нибудь скажет, что у вас шизофрения – рассмейтесь ему прямо в лицо.
Эту фразу я хорошо запомнил.
Ну и что же дальше?
Дальше– какая-то юридическая абракадабра.
Дальше – годы и годы мытарств по тюрьмам и экспертизам. Три экспертизы в Ленинграде. Три – в Москве (в том же институте имени Сербского). Протесты Ленинграда Генеральному прокурору – и конца и края этому нет. Ленинград опровергает экспертизу Москвы, Москва – Ленинграда.
Так год за годом.
Я очутился в каком-то заколдованном круге, из которого не было выхода.
Но теперь все стало на свое место.
Четвертое отделение института судебной психиатрии имени Сербского, как было сказано выше, полностью подчинено Лубянке, то есть – органам госбезопасности.
Но аналогичные экспертизы на местах, на периферии, действуют по собственному разумению.
И, безусловно, еще одно: взаимосвязь центральной экспертизы с Лубянкой им неведома.
Все покрыто тайной.
Фактически пять лет (с 1954 до 1959) велось следствие по моему делу – всеми методами: госбезопасность, психиатрия, госбезопасность, психиатрия. В начале следствия, которое вело Станиславское областное управление госбезопасности (следователь – майор Ломакин), мне подсунули каким-то образом (еда, что ли) хорошую дозу наркоза. У меня было состояние эйфории. Впоследствии что-то в этом роде мне рассказывали о Гринишаке, сидевшем одновременно со мной под следствием. Гринишак, доведенный этим до отчаяния, пытался покончить о собой, выпрыгнув из окна четвертого этажа, но его успели схватить за ноги (там был кабинет его следователя и окно не зарешечено).
Это было время, когда после расстрела Берии началась в своем роде «перестройка» методов ведения следствия – следственные органы госбезопасности выискивали что-то новое, так как примитивные физические пытки были малоэффективны, а шуму даже слишком много.
Когда меня арестовали вторично – год 1962, – следователи Комитета госбезопасности (а это было в Киеве) вполголоса между собой переговаривались:
– Следствие в Станиславе велось небрежно…
Ничего себе: пять лет «небрежности»! Маленький штришок, кстати.
Киевский областной прокурор заметил тогда, так сказать, сокрушенно:
– Чего вы бунтуете? Хорошо ли, плохо ли, но как-то живем.
Конечно упоминаемый эпизод не имеет какого-либо определенного отношения к теме этих записок, но, уважаемый читатель, разве такое забудешь?! И какая поразительная прокурорская логика! Перо бы Аверченко сюда.
Во время моих пятилетних скитаний я побывал в тюрьмах Киева, Харькова, Львова, Москвы и даже Вильнюса. Чего, спрашивается? Почему Вильнюс?
Частично понял я это, став свидетелем разговора заключенных-эстонцев с начальником киевской Лукьяновской тюрьмы. Эстонцев этапировали с Колымы, везли восемь месяцев через всевозможные этапные тюрьмы. Теперь их возили то маршруту Киев-Львов-Харьков и опять по треугольнику, и опять.
Начальник объясняет эстонцам:
– Мы сами этого не знаем, исполняем распоряжение.
Теперь мне были понятны и мои скитания: просто, как в каждой системе, здесь существовала полная неразбериха. Но одно дело, скажем, неразбериха в каком-нибудь главке или райисполкоме, и совсем иное – места заключения: волком взвоешь.
Бой между Ленинградом и Москвой закончился индифферентной министерской комиссией: был болен, сейчас– ремиссия.
Ну и ну!
Отбрасывая выводы института имени Сербского, Ленинград твердил: у Рафальского очень развит рефлекс свободы, а это не свойственно шизофреникам.
Об этом «рефлексе» мне стало известно благодаря майору Серову, замначальника по режиму Ленинградской психушки (имеется такая должность в тех «заведениях»).
Майор был оригинал – воевал с лекарями.
– Но это не совсем нормальные люди.
Врачи:
– Не суйте нос не в свое дело.
Майор часто вызывал меня и часами вел довольно странные разговоры.
– Черт его знает, понять ничего не поймешь.
Тогда тоже была «перестройка» и что-то наподобие «гласности».
– Куда мы идем и куда дойдем. Вот – история партии… – он хлопал ладонью по книге. – Раньше одно писали, теперь – другое. Сумбур какой-то.
И вот во время одной из таких бесед майор позвал секретаршу и велел ей принести мое тюремное дело – какой-то был повод к этому, не помню уже.
– Вот, читай свои актики.
Вот таким образам я получил возможность познакомиться с теми «актиками», Боже ты мой. Боже! Чего я только там не вычитал. Противоречия на каждом шагу, какие-то небылицы, юридические ляпсусы.
Беляев, начальник этой «больницы» (после моего побега он сменил Манякина), мне как-то бросил:
– Почему вы в Москве говорите одно, а в Ленинграде иное?
Тогда я был удивлен.
Сейчас же, просматривая злополучные акты, я понял: Москва делает все, чтобы подвести какое-то основание под свои медицинские заключения, аргументировать их, а потому прибегали к обыкновенному «словоблудию», юридическому жульничеству. Ссылки на мои собственные показания, которых я никогда не давал (прошу вспомнить блиновский вопрос ко мне), поступки, которых я не совершал, ссылки на показания матери моей. Впоследствии она мне рассказывала, как на нее покрикивали в институте имени Сербского, когда она твердила не то, что было нужно психиатрам.
И тут всплыло еще одно.
Во времена «ежовщины» я был арестован, и, чтобы меня спасти, мать, по совету кое-кого, объявила меня мишигене копф (тогда это помогало). Профессор математики Киевского университета Малиновский, например, только таким образом и спасся. Его сразу же освободили. Моя мать, безусловно, знала об этом от жены профессора, дружившей, как и ее муж, с нашими родственниками. Вот именно за этот факт и ухватились в институте судебной психиатрии имени Сербского.
Однако мать моя прекрасно понимала, что ситуация изменилась. Если перед войной психиатрия в какой-то степени была спасением, то теперь это была такая беда, о которой даже говорили шепотом. Учитывая это, мать моя боролась до последнего, чтобы, не дай Бог, чем-то не повредить мне.
В те годы в местах заключения политических работала особая государственная комиссия, которая определяла, кого из политзаключенных освободить. Собственно, так называемая министерская комиссия в институте имени Сербского по тому делу и была чем-то вроде выше упомянутой. Были представители прокуратуры, органов госбезопасности, еще там кто-то – в общем, человек тридцать. Меня дергали на этой комиссии сорок минут – это я зафиксировал точно.
Вот таким образом я и вышел на свободу 11 октября 1959 года – ровно через пять лет после ареста. Арестован я был в октября 1954 г.
Я, кажется, отклонился от главного, ибо моя задача – поднять занавес таинственности над тем, что называется юридически – психиатрические больницы МВД СССР (теперь) и что называлось– тюремные психиатрические больницы МВД СССР (ранее).