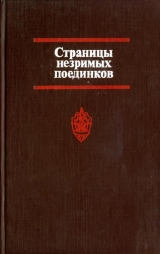
Текст книги "Страницы незримых поединков"
Автор книги: А. Савельев
Соавторы: Егор Левен,Марлен Новохатский,Владимир Альтов,Вильям Савельзон,С. Стецюк,Илья Борисов,Виктор Логунов,В. Лукатин,Георгий Саталкин,Моисей Вайнштейн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Е. ЛЕВЕН
В тылу, на Южном Урале
Высокий худощавый человек со смугловатым лицом – подполковник в отставке Максим Максимович Гавриленко – рассказывать о служебных делах за рамками самой службы не привык.
В его жизни главные события находили отражение обычно только в сухих лаконичных рапортах, докладах, отчетах, которые читали очень немногие люди – только те, кому это положено было по службе. О чувствах, переживаниях, страстях в таких бумагах не пишут.
А хватало их на веку, да еще как хватало.
В юности его тянуло к разному, увлекало многое. Учился в педтехникуме, учительствовал, потом поступил в горный техникум в Караганде, где жили родители. Работал на шахте механиком участка. Служил на Дальнем Востоке в стройбате техником, избирался секретарем комсомольской организации части.
В органах госбезопасности начал трудиться до войны – оперуполномоченным в Медногорске, в Оренбурге, в областном управлении, заместителем начальника одного из отделов, в конце войны – заместителем начальника горотдела в Бугуруслане. В сорок шестом, после четырехмесячных курсов в Москве, был направлен на укрепление органов госбезопасности в Литву, где работал сначала в одном их уездов, потом в министерстве республики… Да, и это называлось работой, хотя шла жестокая борьба с бандитизмом, и в этой борьбе Гавриленко за семь лет потерял многих товарищей, сам не раз видел смерть в лицо.
Потом снова Оренбургская область – уже до самой отставки. Но были еще в его послужном списке задания, связанные с дальними командировками и смертельным риском. Много заданий. Так что переживаний на его долю выпало с лихвой.
И была среди них одна беспокойная страсть: в любом деле, всегда он отстаивал принципы добра и справедливости.
Со времен революции, когда молодая Советская Республика доверила чекистам свой карающий меч, для истинных наследников Дзержинского не существовало ничего выше справедливости. Но «железный Феликс» был и человеком добрым. В то суровое время, чтобы творить добро, нужна была беззаветная отвага.
Беззаветная отвага…
Когда Гавриленко однажды ночью в далеком кавказском городке стоял перед дверью дома, где жил матерый главарь банды, он знал, что имеет право применить оружие и при малейшей попытке сопротивления застрелить противника. И то, что добровольно враг не сдастся, он тоже знал. Но Гавриленко все-таки сунул свой пистолет в карман, тихонько постучал, попросил расписаться за телеграмму. А когда дверь открыла старуха, он, разговаривая с ней, вошел, а потом стремительно бросился к кровати, на секунду опередив руку, метнувшуюся под подушку за оружием, скрутил бандита.
Максим Максимович всегда помнил пример Дзержинского, который умел обезоружить врага и силою духа. В Литве ему как-то довелось говорить с девушкой, брат которой находился в банде. Гавриленко убеждал ее: пусть брат добровольно сдастся, и он может рассчитывать на прощение у Советской власти. Девушка колебалась. «Какие гарантии?» – недоверчиво спросила она. «Закон гарантирует». – «Нет, лично ваши гарантии?»
И тогда Гавриленко дал адрес своей семьи – жены и детей. Что еще могло быть большей гарантией? Всем известно: бандиты безжалостно расправлялись с семьями чекистов. Но в это время многие втянутые в банды уже бросали оружие, выходили из леса. Нужно было, дабы избежать лишнего кровопролития, заставить поверить и других: амнистия для них – не обман.
Брат этой девушки поверил. Он и своего товарища убедил явиться с повинной. Однако уйти из логова было непросто. Помог случай. Бандиты задумали расправиться с сельской учительницей, а исполнить это послали двух друзей, торопясь покрепче привязать их к себе пролитой безвинно кровью. Вел их в ту ночь в село матерый враг, еще при фашистах служивший карателем. К рассвету он рассчитывал вернуться в лес. Но оказался с крепко связанными руками у чекистов – двое друзей не просто ушли из банды, но и привели с собой этого головореза.
Гавриленко не считал никогда своим главным искусством ни умелое владение оружием, ни приемы рукопашной борьбы. Он старался побеждать противника, изучая его повадки, опираясь на помощь честных людей, и силою ума, воли и выдержки.
Было у Максима Максимовича сложное дело – дело Морозова-Чакова, агента абвера, затем перевербованного английской разведкой и засланного после войны резидентом на территорию нашей страны. За обезвреживание этого шпиона Гавриленко был награжден орденом Красной Звезды.
Гавриленко также отдал в руки советского правосудия выродка-убийцу, который во время оккупации служил у гитлеровцев и участвовал в уничтожении тысяч людей. На расстрелы, которые он вершил с такими же, как он сам, подонками у края громадного карьера, людей подвозили по железнодорожной ветке вагонами. Допрашивая этого нелюдя, Максим Максимович пытался понять, за какую же плату тот совершал свое кровавое дело. «Выдавали талоны на водку, жратву. Вечерами пили в ресторане». Тошнота подступала к горлу, когда слушал эти признания палача.
Иметь на своем счету поимку даже одного такого преступника – и то можно считать, что чекистская судьба удалась. Но с молодых лет не этим мерил Максим Гавриленко свою работу. Быть чекистом – значит понимать людей, уметь распознать людей, внушать людям честным доверие и, благодаря этому, получать от них помощь.
Есть одна старая переводная книжка, которая называется «Охотник за шпионами». Автор, английский контрразведчик, излагает в ней свои методы работы, основанные в большей мере на принципе «подозревай всех», на изобретении хитроумных ловушек, в которые попадают завербованные противником агенты.
Мог ли такими методами пользоваться, например, Гавриленко, когда ему во время войны поручили охрану безопасности целого ряда предприятий, в том числе эвакуированных, в общем насчитывающих семь с половиной тысяч работников?
Подозревать каждого? Нет, у советского контрразведчика есть другой путь. Он всегда может рассчитывать на помощь патриотов, честных граждан социалистической Родины. Поэтому его исходный принцип как раз обратный – доверие к людям.
О чем вспоминает Максим Максимович, прогуливаясь погожим вечером по аллеям приветливого сада имени Фрунзе? Что мог бы рассказать?
Не только о тех фактах своей биографии, которые могут стать основой острого сюжета для детективного рассказа. Есть у него истории, связанные с этими улицами, этим городом.
Была, например, одна с директором электростанции Насыровым, которого Гавриленко спас от тюрьмы, опровергнув на суде обвинение в саботаже и представив доказательства того, что электростанция работала с перебоями из-за объективных причин, в частности – скверного снабжения углем.
Еще был случай, когда прямо в управление пришел человек, которого Гавриленко видел в последний раз ровно десять лет назад, и, вызвав через дежурного Максима Максимовича, сказал ему: «Отсидел я свой срок и пришел в конце концов к окончательному выводу: правильно отсидел, что заслужил – то и получил. Но вам хочу сказать спасибо, что о семье моей в трудную минуту позаботились, моему греху не дали на жене и детях отразиться. Вы – Человек, это я должен вам сказать. Спасибо».
А еще была драматичная история одной девушки из оккупации – Елизаветы Метельниковой, уроженки Смоленской области, которая совершила предательство…
* * *
Тонкую, сложную работу вели в военные годы в глубоком тылу на Южном Урале многие чекисты. Среди них и Максим Максимович Гавриленко.
В ту холодную военную оренбургскую зиму он обычно возвращался к себе домой – в квартиру на четвертом этаже – далеко за полночь. После быстрой ходьбы по темным заснеженным улицам он не сразу чувствовал, как сильно выстужена комната, где на широкой кровати, укутавшись в одеяло и пальто, тесно прижавшись друг к другу, спали жена и дети.
Раскутывал чайник на столе, пил желтоватый, уже едва теплый чай и быстро ложился. Мелькала мысль, что к утру холодная вода в ведре наверняка опять покроется льдистой пленочкой, и… проваливался в сон.
Просыпался, когда жена уже хлопотала: стирала пеленки в тазу, из которого валил густой пар, и сушила их на большом листе жести, установленном над горящим керогазом, или готовила кашу для маленького.
Через полчаса Максим уже снова чуть не бегом, чтобы согреться в своей шинели, отправлялся на работу. Притоптанный снег на тротуаре под подошвами сапог не то что скрипел – взвизгивал. «Ух и морозище», – Гавриленко сжимал холодные пальцы в рукавицах, сильно размахивал руками. От центра города до Красного Маяка – путь неблизкий. Пока шагаешь, многое успеваешь обдумать.
В Оренбурге в ту военную зиму сорок второго – сорок третьего годов шло строительство эвакуированного завода, ставшего позднее одним из крупнейших предприятий города.
Возводил объект особый строительно-монтажный батальон. Работали в нем сотни людей, побывавших в плену у фашистов или отправленных сюда с территорий, уже освобожденных советскими войсками. Ужасов они навидались, о каких жители Оренбурга только из газет знали. Но у кого как там, за линией фронта, жизнь складывалась – об этом не каждый откровенно скажет.
Максим Гавриленко ходит сюда чуть ли не ежедневно, говорит со многими, завязывает и близкие знакомства, ищет готовых помочь ему в деле, именуемом охраной государственной безопасности.
Разобраться в людях помогут сами люди. Кто испытал фашистскую оккупацию на себе, не сможет простить предателя. Обязательно ему, Максиму Гавриленко, скажет, коли почувствует в ком-то нечистую совесть, заприметит недобрый помысел.
Вот и в последние дни замечает он, как будто ищет случая заговорить с ним немного знакомая черноволосая девушка, занятая на земляных работах. Фамилия ее Воробьева – это он помнит. Месяца два назад разговаривал с ней о житье-бытье в общежитии. Когда он проходит по стройке и оказывается близ места, где она работает, постоянно видит ее взгляд из-под толстого платка – долгий и упорный… Что же ей нужно ему сказать?
В том, что такая нужда у девушки есть, он не сомневался. Опыт научил его угадывать подобные взгляды. Как часто человек сам не решается подойти. В себе сомневается, может быть, не уверен – надо ли говорить… И ждет, чтобы он, Гавриленко, сам позвал и спросил.
Итак, Воробьевой нужно что-то ему сказать. Сегодня же вызову ее, решил Гавриленко, заходя в свой крошечный кабинетик на стройке. Только не спешить, не сразу с утра. Ближе к середине дня послать за ней кого-то из конторских как бы между делом. А пока посмотреть бумаги и потом – к заместителю начальника строительства по снабжению Шакурину для серьезного разговора. Что-то перестал он некоторые безобразия замечать. Вчера опять при разгрузке гору кирпича побили. Инженер Смагин на днях буквально из себя вышел – по указанию Шакурина часть неустановленного оборудования разукомплектовали, чтобы его снабженческие «дыры» залатать. А на третьем участке людям не выдают рабочих рукавиц, инструмента там вечно нехватка, простаивают.
Часов в одиннадцать Гавриленко постучал в дверь кабинета зама. Увидев его, Шакурин – крупный, упитанный мужчина – встал навстречу, пожал руку и пригласил сесть.
– Ну, как служба? – спросил Шакурин и тут же, будто предупреждая ответ, замахал руками. – Знаю, знаю я, дело ваше секретное, подробности там разные мне знать ни к чему. Главное, одно дело делаем вместе.
Он был в добром расположении духа. Решив, что контакт налажен, заоткровенничал:
– Вот как начнем выпускать продукцию, тогда работать станет куда легче. Увидишь, в каком почете я здесь буду, как дела у меня пойдут. К примеру, спирт у меня будет, а он мно-о-гим нужен. – Шакурин заговорщицки подмигнул. – В моей воле велеть: отпустить такому-то. А могу и отказать…
Максим встал со стула резко. Глядя в застывшие от неожиданности зрачки заместителя, проговорил:
– По вашей вине, товарищ Шакурин, допущено разукомплектование оборудования. На участке люди простаивают – лопат, топоров не хватает, рукавиц нет, обморожения могут быть. Допускается порча стройматериалов.
Гавриленко перечислял факты и видел, как твердеют щеки Шакурина, как медленно отливает от них кровь.
– Не может быть…
– Пойдемте посмотрим.
– Погоди. Сейчас санки запрягут, поедем.
Усевшись в санки, одетый в овчинную шубу и валенки заместитель начальника оглядел шинель и сапоги Гавриленко и с заискивающей ноткой в голосе предложил:
– Ты, это… Зайди потом, я тебе выпишу со склада доху потеплее да валенки, а?
– Вижу, сейчас мне в моей шинели и в сапогах теплее, чем вам в шубе и валенках, – отрезал Максим.
К концу объезда территории строительства Шакурин только лепетал:
– Все сегодня же исправим, непременно все сделаем, только не надо дальше… это самое, только не надо никому сообщать, пожалуйста.
Максим пошел к себе, закурил и посидел, согреваясь с мороза и с удовольствием затягиваясь. В дверь робко и торопливо постучали.
– Входите.
Порог переступила та самая черноволосая высокая девушка, которую он собирался сегодня вызвать к себе.
– Здравствуйте, можно к вам?
– Входите, входите, – повторил Гавриленко. – Здравствуйте, садитесь, прошу вас. С каким делом пожаловали? – спросил он прямо, поняв теперь, что искать встречи с ним заставило ее что-то серьезное.
– Спасибо, – девушка села, ослабила возле шеи туго затянутый теплый платок. – Моя фамилия Воробьева, может быть, помните? Валентина Воробьева. А по делу я к вам, товарищ Гавриленко, вот по какому. В общежитии живет со мной вместе Метельникова, она в деревообделочном цехе работает. Девушка ничего вроде, замкнутая только. Но сколь ни замыкайся, невозможно же без конца молчать, если душу что-то гложет. Верно я говорю?
Гостья вопросительно посмотрела на него.
– Верно, очень даже верно.
– Мы вроде как подруги. Нет, не близкие, Елизавета близко ни с кем не дружит, какая-то все время, ну, настороженная, что ли, даже когда смеется. Да мало ли у кого какой характер. Тем более, у нашего контингента… Сами знаете, у многих судьба изломана. О том и зашел у нас недавно разговор. Уж не помню, с чего началось. Кажется, говорили сначала о своих родных местах. Елизавета-то из Смоленской области. И чувствую – больно вспоминать о доме ей. Я думала – тоскует очень, хотя и мать здесь. Тянет, думаю, человека к родным местам. Потому что говорит: домой, мол, теперь не скоро попадешь, до-о-олго, мол, держать на таких стройках да проверять нас будут. Ну, я и давай ее успокаивать: это, мол, пока война. Время, мол, такое, что ж тут поделаешь. Она тут скривилась и говорит, я даже не ожидала: «Скоро ли? У немцев силы немало. Да из наших им тоже кое-кто помогает. Я-то знаю…» «И я знаю, – отвечаю ей, – служат им только трусы да подонки».
Она тут как будто себя помнить перестала. Как закричит: «Ах, подонки! А я, по-твоему, кто? Когда мать расстрелять пригрозят, все, что они захотят, им выдашь. А что делать? Там, в лесу, партизаны эти все равно бы пропали, а то их в плен только взяли, может быть, еще живы будут…»
Я, как услышала такое, поняла – это она кого-то фашистам выдала. «Предательница ты!» – говорю. А она тут как разревется и все говорит: что, дескать, было делать мне? Вот и решила я вам все сказать, товарищ Гавриленко. Вы сами разберетесь. Если она действительно предательница – не хочу я ее покрывать. Не могу. У меня самой брат без вести на фронте пропал, может, его она немцам и выдала там, в лесу.
– Вы правильно сделали, товарищ Воробьева, что пришли ко мне. Но прошу, Валя, о том, что были у меня, – никому ни слова.
– Заметила я, к ней парень один хаживает. Рыженький такой, прихрамывает, Кадкин его фамилия. О чем он с ней говорит, не знаю. Только как-то услыхала, когда под фундамент вместе с их бригадой землю копали, я как раз с носилками подошла, этот Кадкин и говорит другому рабочему: «Надоело надрываться. Строим, а немец подходить к Уралу станет – так, чтобы ему не досталось, взорвут все к чертовой матери». А тот ему в ответ: чего, дескать, болтаешь чепуху, работай.
– Кадкин? Вы ни с кем не спутали? – спросил Гавриленко.
Воробьева отрицательно покачала головой.
– Ну что ж, еще раз большое спасибо вам.
Воробьева ушла, а Максим задумался. Личное дело Кадкина он вспомнил сразу. По его объяснению был ранен в ногу, попал в плен. Пленных фашисты на ночь заперли в церковь. Кадкин, якобы, бежал вместе с несколькими другими пленными, спустившись по веревке с колокольни. При переходе через линию фронта товарищи погибли, только ему одному удалось добраться до своих.
Недоверие к этой версии у Гавриленко возникло уже, когда знакомился с бумагами прибывших на стройку, потому теперь и вспомнил ее.
Как мог раненный в ногу человек спуститься по веревке с колокольни? Как же охраняли немцы пленных, что прозевали такой побег? А если Кадкин завербован и заслан через линию фронта?
Гавриленко встал. «Гадать нечего, – решил он. – Надо действовать. А пока взгляну-ка я на эту Метельникову».
Полчаса спустя Максим разговаривал в деревообделочной мастерской с двумя рабочими – старым и совсем мальчишкой, расспрашивал о станках, о древесине, еще о чем-то, а сам незаметно наблюдал за девушкой невдалеке. По привычке отметил сначала ее приметы: роста среднего, волосы светлые, прямые, лицо овальное, глаза серые. «А она симпатичная, – подумал он вдруг. – Лицо даже располагает. Видно, сдержанная, такой-то и доверишься, не подумаешь, что она может предать».
* * *
Никогда не думала и сама Елизавета Метельникова, что способна на предательство. Когда началась война и линия фронта подкатила прямо к околице ее родного смоленского села, она никак не могла поверить в реальность происходящего.
Суматошно собрались Лиза с матерью и младшей сестренкой и отправились в дорогу. Но дошли только до районного центра. Остановились в просторном доме у дальних родственников – людей преклонного возраста, чтобы переночевать, а заодно и обдумать, куда дальше двигаться.
А наутро по улице городка прогромыхали танки с фашистской-свастикой.
Ко многому человек может привыкнуть. То, что еще недавно казалось невозможным, стало теперь реальностью: чужие солдаты на улицах городка, рокочущая военная техника, наклеенные повсюду приказы со страшным словом «расстрел». Особых событий не происходило, и жизнь стала уже приобретать оттенок обыденности. Но однажды во дворе в сумерках Лизу кто-то тихонько окликнул – и с этого мгновения началось все то жуткое, что потом долго точило, грызло совесть, невольно вырвалось в разговоре с Валей Воробьевой…
…Она обернулась и увидела в сумеречной тени угла дома человека. Выцветшая гимнастерка, заправленная почему-то в брюки, сапоги. Ту же поняла: красноармеец. Он поманил к себе. Она подошла, как завороженная.
– Слушай, сестренка, выручай. Харчами помоги. Раненые мы, подлечились тут, а теперь в лес нам уходить надо. Там попросить не у кого будет.
– Сейчас, – она опомнилась и схватила протянутый вещмешок.
Через несколько минут Лиза торопливо вынесла его, набитый картошкой, и еще две буханки хлеба и брусок сала, завернутые в полотенце. Незнакомец взял, сказал: «Спасибо, выручила». И тут же исчез.
Лиза повернулась и… встретилась глазами с соседкой, которая, стоя на крыльце своего дома, внимательно и как будто насмешливо на нее смотрела. Лизу пронял озноб. «Господи, она видела. Что же теперь будет?»
Соседка, известная всему городку спекулянтка и злая склочница, донесла. Лизу вызвали в жандармерию. Сначала ласково предложили сказать, где теперь скрываются бежавшие военнопленные, а после того, как она в третий раз повторила: «Не знаю», офицер размахнулся и ударил ее в лицо.
Потом ее долго били, поминутно спрашивая: «Скажешь?» Когда боль и унижение стали нестерпимыми, она, плача навзрыд, выкрикнула с мукой в голосе: «Но я же правда не знаю».
И тут удары прекратились. «Хорошо, – сказал ей офицер. – Мы тебе верим. Но ты совершила преступление против армии фюрера и должна быть расстреляна. Однако мне не хочется убивать такую юную и симпатичную девушку. Ты пойдешь в лес, найдешь этих беглецов и укажешь нам. В заложниках остаются твоя мать и сестра. Не вернешься – расстреляем их. А выполнишь задание, простим тебя».
…Боль, страх, еще больше возросшие от сознания того, что в опасности мать и сестренка, гнали ее все дальше в лес. И вот злая удача: наткнулась на землянку с шестью партизанами. Она им сказала, что отправилась в деревню обменять вещи на продукты да заплуталась. Ей указали дорогу.
А на следующий день она вернулась сюда по этой дороге в кузове машины с фашистскими солдатами…
Смалодушничав раз, она уже не имела сил даже возразить, когда тот же самый офицер послал ее через линию фронта для сбора разведданных о советских войсках. «В заложниках остаются мать и сестра. Не вернешься – расстреляем», – не забыл напомнить офицер.
Несколько раз переползала она по льду реки, накрывшись белой простыней, через линию фронта и приносила офицеру интересующие его сведения.
А когда советские войска пошли в наступление, гитлеровец сказал: «Это временно, мы вернемся и найдем тебя».
Фашисты в городок не вернулись, но Лизу не забыли.
Метельниковых после оккупации направили на строительство в Оренбург. Елизавета жила в общежитии, мать с младшей сестренкой – на квартире в одной семье в частном доме. И можно бы, казалось ей, все забыть навсегда, жить, как будто ничего и не было. Но часто вставал перед глазами зимний день в лесу, землянка и лица тех шестерых партизан. И тогда хотелось выть, она ненавидела себя, того солдата, который попросил у нее продукты, – всех. Верно говорится: совесть без зубов, а загрызет.
В каком-то непонятном и злом исступлении она выговорилась Воробьевой. «Вот дура, дура», – ругала после этого сама себя. В ушах стоял странно приглушенный голос Воробьевой: «Как ты могла?» Страшно стало после этого Лизе. По всем суставам, подсуставам, жилкам и поджилкам мороз пробежал. Как тогда на льду под простыней случалось.
Но прошло несколько дней, ничего не произошло, и она стала успокаиваться. Несколько раз разговаривала с этим рыжим – Кадкиным, который явно оказывал ей особое внимание. И, Лиза чувствовала это, догадывался, что у нее на душе, но не осуждал, а, наоборот, как будто понимал. Однажды сказал ей в разговоре: «Эх, Лизавета, зажили бы мы, я чаю, неплохо, коли бы не тянули с этой войной, не гнали бы народ на смерть бесполезную. Разве ж одолеешь его… Видели мы…»
Его намеки, недомолвки, казалось ей, свидетельствуют о том, что знает он что-то о ней и еще вдобавок что-то ей неведомое. Это успокаивало и вселяло какую-то смутную надежду. А на что, сама понять не могла. Скорее всего, на оправдание того, что она совершила, на подтверждение: не было смысла сопротивляться, бороться с неодолимым.
* * *
В несколько последующих дней Гавриленко время от времени находил полчаса, чтобы побывать в деревообделочной мастерской или в общежитии. Он наблюдал за Метельниковой, будто хотел по лицу угадать движения ее души, а по ним, насколько это возможно, характер.
Но Максим был человеком вполне обыкновенным, далеко не ясновидцем, да и возрастом всего на пять лет старше Метельниковой. Правда, профессия выковала в нем кое-какие особые качества, которые появляются, как правило, только в результате долгой, трудной, порой мучительно трудной внутренней работы. Ему хорошо знакомы были сомнения и голос совести: правильно ли ты решаешь судьбу другого человека?
Изучая Метельникову, Гавриленко, наряду со сбором фактов, после заявления Воробьевой, накапливал собственные наблюдения. Он всегда действовал по принципу: свой глазок – смотрок. Не верою, а видением.
Беседовать с Метельниковой сам он не мог. Если действительно она связана с Кадкиным, а тот завербован, его можно спугнуть, Гавриленко на стройке знают.
Время шло, надо было быстрее разобраться в деле Метельниковой, чтобы предотвратить, пресечь ее возможную враждебную деятельность. Однако Гавриленко нужны были дополнительные доказательства и, главное, требовалось выяснить, что за личность Кадкин.
Как это сделать, Максим придумал, и только собрался доложить о своей идее, как его вызвал начальник управления.
– Гавриленко, – гремел по телефону голос начальника. – Надень-ка свою знаменитую шинель и зайди ко мне.
А когда Гавриленко исполнил это странное приказание, начальник осмотрел его со всех сторон, приказал позвать заведующего хозчастью управления и сказал тому:
– Степан Трофимович, видишь, в какой одежде ходит у нас Гавриленко? Как еще воспаление легких не схватил! Полушубок какой-нибудь не найдется у нас на складе?
– Нет полушубков.
– Тогда пальто теплое ему сшейте, материал-то найдешь? Да чтобы подкладку ватную. Ведь за безопасность на десятке предприятий отвечает, где тысячи людей работают. А ну как сляжет, кем мы его заменим?
– Ну, пальто закажем, сошьют.
Потом состоялся разговор с начальником, Максим сказал о трудности в деле Метельниковой – Кадкина и попросил дать ему в помощь молодого оперативника Ивана Густерина, который в городе работал недавно…
Расследование по делу Метельниковой заканчивалось. Нужные свидетельские показания собраны, надо было арестовывать ее, но так, чтобы об этом на стройке никто не знал, чтобы не знала ее мать, а главное, Кадкин, которого продолжал изучать Густерин.
* * *
Следователю Елизавета Метельникова рассказала все сразу и подробно, как будто рада была свалить груз со своей совести. Свою вину не отрицала, но о Кадкине сообщить что-либо существенное не могла. Хотя откровенно призналась: догадывается, что тот не случайно к ней подход искал и как-то связан с ее бывшими хозяевами. «Осторожен, оказывается, больше, чем я думал», – отметил Гавриленко, когда прочитал показания Метельниковой. Чутье подсказывало ему, что Кадкин – враг. Но чутье чутьем, а доказательства нужны неопровержимые. Гавриленко был уверен, что найдет их.
* * *
Взяли Кадкина месяца через полтора с поличным. Гавриленко, отложив на время другие дела, которые только можно было отложить, кропотливо изучил окружение Кадкина.
Вскоре получил данные, что Кадкин осторожно интересуется некоторыми предприятиями на территории Оренбургской области и продукцией, выпускаемой ими. Это утвердило Гавриленко в подозрении, что Кадкин шпион. Чекисты усилили наблюдение, а через несколько дней Кадкин был задержан, когда на железнодорожных подъездных путях одного из оренбургских заводов фотографировал платформы с находящейся на них военной техникой и в записной книжке делал пометки о ее количестве.
На допросах Кадкин рассказал, что в плену был завербован абвером. Попав в Оренбург, по обусловленному каналу дал о себе знать, где находится. Через некоторое время получил письмо, содержащее тайнопись, с заданием собрать сведения о выпускающейся в городе и области продукции оборонного значения. К сбору шпионских сведений ему предлагалось привлечь и Елизавету Метельникову.
Это не удалось. Заслуга в этом – Максима Максимовича Гавриленко.
Для него то дело осталось одним из многих, обычных. Главные, большие дела в это время у него были еще впереди.








