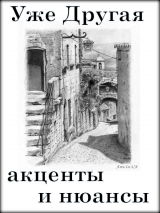
Текст книги "Акценты и нюансы"
Автор книги: Уже Другая
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
… Вдоль тишины плывёшь сторожкой рыбой,
выслеживая робкие созвучья,
но время после трёх опасно зыбит
и оплетает тягостно-ползучим.
Тугие сети.
Можно и не биться,
уловлен в сны – считай, почти что умер.
Лежишь в ладони.
Тот, кто неразумен,
целует знобко вытянутым рыльцем.
А мир его так сух и так безмолвен,
что сразу ясно, чем нечеловечен –
не озарившись проблесками молний,
в песке зачахли зёрна разноречий.
Он одинок и, проклятый на вечность,
плетёт для снов удушливые нити.
Он был всегда, не помнящий о прежнем –
к бессоннице приставленный хранитель.
Удержишься не встретиться глазами
и, задыхаясь, выскользнешь в иное.
Рассвет лакричный стает, после – море,
наполненное тяготой прощальной.
… Глаза откроешь в спальне-бонбоньерке,
и дом чужой припомнится едва ли –
мир, полон вод, кончается у стенки,
споткнувшись об оформленность реалий.
Свободное
Вот бывает же так – отыщет тебя невзначай,
мимоходом в ладошку у самой земли подхватит
и посадит на палец, во взгляде тая печаль,
а момент обретения – по-болливудски закатен.
Он, конечно, полюбит тебя – как любили всех
до тебя, упасённых от боли птенцов-подранков,
и в саду, где шальные сирени и львиный зев,
в багровеющих нитях цветущего амаранта,
обустроит гнездо и научит искать зерно
в многотонных и пыльных завалах чужого смысла.
И однажды ты скажешь, опаску переборов,
что доверилась слову "любовь",
и оно бескорыстно.
Ты, наверное, даже подумаешь – этот рай,
сшитый точно по мерке, надёжнее монолита,
но он будет упорен:
– Не вздумай,
не прирастай – ты свободная птица,
и небом не позабыта.
И тебе будет больно признать его правду, но
райский сад начинает на крылья давить уютом,
а он, всё понимая, прошепчет:
– Лети…
Окно в этом мире
открыто назло всем дождям и вьюгам.
Он посадит в ладошку тебя, отнесёт туда,
где закатное солнце на гребень волны ложится,
а потом,
через вечность,
раз пять досчитав до ста,
скажет ласково: "Ну же, рождайся, птица…"
И ты сделаешь шаг в никуда, обрываясь вниз,
но раскроются крылья, и небо к тебе рванётся.
… А у птичьего бога день вечен и путь тернист,
но он помнит тебя, пока не угаснет Солнце…
Спи, не заглядывай в глубинуШепчут ей: «Спи, не заглядывай в глубину.
Там, в глубине, на дне, ждёт предвечный кит».
После уходят, оставив её одну.
Девочка тихо дышит, и дом молчит.
Дом помнит многих, наученных не смотреть.
Всё у них ладно: карьера, любовь, семья,
тайные связи, приторней, чем грильяж,
многая славные лета, ручная смерть.
Девочка дышит, как дышат дети любых широт.
Шёлковы локоны длинных её волос,
полночь в глазах оттенка ивовых лоз.
Гулко вздыхает кит – зовёт.
Жмурится дом, дому страшно увидеть, как
девочка, тихая от негустого сна,
встанет на край раскрытого в ночь окна
и в пересушенный летом голодный мрак
сделает шаг.
Но не смотреть нет силы – и видит дом:
вот, раздвигая вяжущий кислород
телом, ладошками острыми и хвостом,
рыбка негромкая в небо плывёт, плывёт.
Она подбирает птенцов, потерявших инстинкт гнездаОна подбирает птенцов, потерявших инстинкт гнезда,
и кормит бродячих кошек паштетным фаршем.
В глазах её спящих – настывшая немота.
В ней тёмные тысячи лет, и немногим младше она,
чем пустыня, простёртая на восток.
В узлах синих вен заблудились чужие тайны,
поэтому век её тягостно колченог,
как брошенный пёс, доживающий при вокзале.
Я очень боюсь под ладонью её уснуть –
там эхо потерянных бродит в холмах Венеры,
но в складках ладонных, текучих, как злая ртуть,
дозрели слова для открытия новой эры.
И я прихожу к ней, целую её висок,
в котором давно не пульсирует жажда жизни.
Щебечут подранки, мурлыкает кот у ног,
и тянется вечность – тягучей, чем след от слизня,
чем тысячи длинных её, занесённых лет,
чем пропасть песка, пересыпанного в ладонях.
Но вновь она гладит меня и ведёт на свет,
хотя понимает, что время вот-вот догонит.
А они ходили за тёмный край…… А потом они возвращаются – поседевшие рано мальчики.
И приносят ночь в глубине зрачков, и в тебе звучат барабанчики.
А они ходили за тёмный край, а у них в ладонях искрит заря,
а они говорят: "Он остался там… не реви, ты знаешь, что всё не зря"
Они вешают куртку его на крюк, а она в крови, и пришла беда.
Они смотрят упорно в холодный пол, но ты мыла пол, не найти следа,
и они могли бы ещё побыть, но заря обжигает, заря не ждёт.
И они уходят, захлопнув дверь, а ты думаешь тускло: "Пришёл черёд…"
За окном разгорается новый день – будет яркий свет после ста ночей,
но тебя теперь не согреет он, ты уже вдова, быть тебе ничьей.
Он остался там, где всегда молчат, где в кромешной тьме тихо дышит зло.
Он остался там, а они пришли, просто им, конечно же, повезло.
А в тебе сейчас спит его дитя, ты бормочешь «тш-ш-ш», чтоб не разбудить.
У тебя сейчас – времена потерь, береги себя, скоро будешь шить
из рубах его, из своей тоски распашонки, кофточки, ползунки.
А потом пацана уведут за край эти странные мужики…
НедосмотренноеПредноябриность тучнеет на юго-востоке.
Винная ягода стала почти вином,
дни мерно топают пони коротконогим.
… Спящим красавицам снятся единороги,
единороги забавятся в палиндром.
Рыцари бьются без пыла – хотя от скуки.
Брякает битым железом глухой вассал,
рыцарь бранится, орёт ему: "Косорукий!!",
дышит прогорклым салом, тушёным луком –
словно ни разу прежде не умирал…
Я развлекаю тебя чередой событий,
их извлекая оттуда, где жизни нет.
Пусть благосклонен покамест седой смотритель,
но с каждым разом реальность твоя размытей.
Мне-то не страшно – врождённый иммунитет.
Ты доверяешь мне видеть намного дальше,
рядом со мной так просто поверить.
Верь.
Я сочиняю будущее без фальши.
Вечность крадётся хищно, по-росомашьи –
время охотится на небольших людей.
Вечер туманится чем-то вконец ненастным –
пару часов, и октябрь умрёт совсем.
… Выжившим рыцарям снится чужое счастье:
локоны, нервные пальцы, мгновенья страсти…
Время, сочтя по списку, вздыхает: «Все…»
Глаза их безднаШуршат, тревожась, камыши,
на дне ночном не спится многим.
Смотри, как щиплют нити ржи
единороги,
бродя по руслам древних рек,
познавших мель и ставших полем.
Единорожий длинен век,
характер – вздорен.
Глаза их – "бездна, звезд полна",
а губы ласковы и терпки.
Их глубина страстна, страшна.
В них мастер лепки
смятенный, непокорный дух
вложил, чтоб множились печали,
и дал на откуп темноту –
и тьму венчают
луной облитые тела.
А ты светла, чиста, убога,
жила бы и жила под Богом,
но жребий пал, и зёрна зла
в тебе пробились, недотрога,
пока в мир тёмный ты вела
единорога.
С утра охотились на ведьмС утра охотились на ведьм,
потом в таверне пили пиво.
Хозяин, бурый как медведь,
косился сумрачно.
Не диво…
Весь вечер дергалась щека,
и левый глаз сводило тиком.
… Была легка её рука
и пахла зрелой земляникой,
но жар пощёчины взорвал,
отравой пробежал по жилам.
Гнев,
голос зверя,
дверь,
подвал,
зажатый рот…
Собака выла.
Тоска росла, как снежный ком,
и пьяный гогот отдалялся.
Он дождь ловил иссохшим ртом.
Мистраль предзимнего Прованса
бил по лицу.
Ещё, ещё.
Он помнил многое, но это…
Забыть бы хрупкое плечо,
бездонность глаз и зёрна света,
со смертью ставшие ничем…
Потом, на дружеских попойках,
он избегал подобных тем –
сводило глаз, и было горько.
Не жил, но умер.
Не воскрес,
хоть на Суде имели вес
следы копыт на той дороге,
которой в заповедный лес
ушли её единороги.
Мне бы, веришь ли, ни о чёмМне бы, знаешь, начистоту,
наизнанку наговориться,
только снова душа-лисица
пьёт предвечную пустоту.
Неродившихся слов река
всем несбывшимся глубока,
не увидеть бы, что глядится –
в этих водах века, века.
Время тянется, не спешит,
стелет простыни для ночлега.
Пахнут стаявшим стылым снегом
лапы лисьей моей души.
Мне бы только успеть уйти,
прежде чем, пробудившись, воды
бесконечной реки Смороды
встанут пламенем впереди.
…Мне бы, веришь ли, ни о чём,
мне бы, слышишь ли, не об этом.
Ты побудь мне ещё плечом…
Хоть до света…
Я не знаю, как называется это местоЯ не знаю, как называется это место,
да и стоит ли это место хоть как-то звать.
Здесь так тускло и сыро,
как будто тут правят мессу
земноводные твари.
Есть тумбочка и кровать,
стул с подломленной ножкою,
стол в ширину тетради,
нож,
тарелка,
невнятная чашка,
потёртый плед.
Скудный быт.
Не подумай, не жалуюсь, бога ради,
но одно беспокоит – упрятанный в ставни свет.
Он сочится в щербатые щели.
Сбегают тени,
занимают углы и ниши и там дрожат.
Мне понять бы, чего боятся они на деле,
только стоит ли, право слово?
Обычный ад:
полутьма, полусвет, полутон – никаких зацепок.
В одиночке моей то ли день, то ли ночь, а так
можно быть и писать стопки новых пустых нетленок,
забывая, что дверь не заперта.
Только шаг –
и откроется вся Вселенная с чудесами,
но не думаю, что я скоро уйти смогу.
Время тянется слизнем и прячется за часами,
и проходит немая вечность по волоску
междумирья, в котором стынут слова, сюжеты,
неоткрытые судьбы, несложенные стихи.
Не хватает немногого – кофе и сигареты,
но зато я пишу.
Бесконечен мой черновик.
Я пишу тебе отсюдаМелкодождие грибное перепутало сезоны
и укрыло день неспешный монохромной пеленой,
но дожди давно привычны – как болота автохтонны,
и сшивают воедино первый день и день седьмой.
Здесь не то, чтобы уныло, и не то, чтоб одиноко –
иногда бывают сути с той, забытой, стороны.
И живёшь, хоть в междумирье, но по-прежнему у бога,
то ли снишься тут кому-то, то ли просто видишь сны.
Я пишу тебе на листьях облетающего клёна
непутёвые заметки и бездарные стишки,
и кипит в котле идея первозданного бульона,
и летят по небу рыбы, по-стрижиному легки.
Здесь не то, чтоб всё возможно, но, пожалуй, допустимо,
если ты, не передумав, не придумаешь закон,
ну, а после не откроешь догмы, принципы, максимы,
если вновь не повторишься, как завзятый эпигон.
Я пишу тебе отсюда, из предельно малой точки,
до Начала и до Слова, или там Большого Взрыва.
И со мной читают вечность неотправленные строчки
все, кто умерли когда-то, но уверены, что живы.
Мифы
Сказки средней полосы, мифы Древней Греции…Сказки средней полосы, мифы Древней Греции –
всё мешается, мой свет, в бедной голове.
Вновь ночные времена движутся к сестерцию,
оставляя час быка в дремлющей траве.
Волчье солнышко плывёт, путая реальности,
и кровавит небо Марс, Полифемов глаз.
Мир запутан и пленён в сети каузальности,
предрешён, приговорён к душному "сейчас".
Но Никто, никем не зван, хитроумность случая,
вдруг изменит ход вещей и начнёт с нуля.
Да, ты веруешь в меня и, возможно, в лучшее,
и несёт меня к тебе круглая Земля.
Мир застыл, и грань тонка, как в секунде терция.
Сказки средней полосы, мифы Древней Греции…
Не трогай струны души, ОрфейНе трогай струны моей души,
Орфей, утративший Эвридику.
Непознаваемо негрешим,
певец пристрастности темноликой,
о смерти света негромко пой –
здесь любят звуки подобных песен –
до края полон тоски немой,
а также смысла, который тесен.
Ты правду ищешь в кромешной тьме,
тьмой заболевший неизлечимо.
В неканоничном своём письме
идёшь всё дальше – но снова мимо,
поскольку, видишь ли, мой Орфей,
мрак лишь изнанка – конечно, света.
Мне, упокоенной меж корней,
уже не слышно чужого лета.
Мне, мирно дремлющей в тишине,
уже не нужно любви и страсти.
В покое вечности травенеть
атласу кожи, шелкам запястий,
влекущей неге упругих губ,
магниту взгляда и лире тела,
чтоб до призыва гремящих труб
стать тенью смысла и костью белой.
Назад смотрящий, ты поспешил –
а тьма коварна и многолика.
Не трогай струны моей души,
Орфей потерянной Эвридики…
Ешь, Персефона, зёрнышки гранатаНалился светом солнечный желток…
Ешь, Персефона, зёрнышки граната,
полгода будешь отдыхать от ада,
и не считать хтонических кротов,
и полозов, и прочих терпких гадов.
И обо мне не думай – ни к чему
тебе узнать, как тошно одному
быть в этом царстве вечного покоя,
и как у самой бездны Цербер воет,
когда припомнит верхнюю луну.
И, не в укор Харону-молчуну,
но с ним – тоска.
Но ты иди, иди,
не вспоминай о том, что позади
останется, и радостно живи.
Я знаю, мне вовек твоей любви
не выстрадать – в тебе так много света,
и здесь, на берегах унылой Леты,
ты чахнешь средь потерянных теней.
… Однако, время.
Уходи и зрей:
агиоргитико,
смоковницей,
оливой,
тугим зерном,
травой неприхотливой
и яблоневой тяжестью ветвей.
Я буду ждать, пока земля, устав
от буйства красок и безумья соков,
не вымолит покой у злого бога,
и ты придёшь,
а следом – холода,
печаль садов и долгие дожди.
Бледнеет ночь, и, заточённый в скалах,
терзается несдержанный Аскалаф,
и нам с тобой уже не по пути.
Но…
Возвращайся, слышишь?!
Приходи…
МифологическоеУже пристали корабли, и над водой бело от чаек,
да паруса черным черны, как нерасписанный кувшин,
но, страх надёжно утаив, легко на критский мол ступает
прекрасный, как морской рассвет, афинский сын и царский сын.
Не бойся, ты не пропадёшь, любимчик нежной Афродиты –
рвёт воздух меткая стрела, Эрот кривит капризный рот,
и, умирая от любви в беседке, что плющом увита,
я повторяю лишь одно: «… он не умрёт… не он умрёт»
Я буду брошена тобой, и Наксос станет мне могилой,
но я готова, мой герой, принять и страсть, и рок слепой.
Пусть нить свивается в клубок, и пусть не рвётся шелковина,
когда заполнит Лабиринт тебя предвечной темнотой.
Льнёт к пальцам нить, скользит судьба и балансирует на грани,
и мне так душен светлый день, но ночь страшит куда сильней.
Не мной наточен острый меч, который Минотавра ранит,
и я всего лишь проводник, о мой неистовый Тесей.
Теперь я знаю – боги злы, а мы – игрушки.
Мы нелепы, когда пытаемся соткать на кроснах собственный узор.
Мир состоялся и до нас, и не для нас атланты небо
держали тысячу веков над пиками парнасских гор.
Но ты, пожалуйста, пройди, достигни дна и большей славы,
познай и мёд пустых речей, и горечь пирровых побед.
Я буду ждать тебя всегда, пока живут цветы и травы,
пока атланты держат твердь, и в мире есть любовь и свет.
Я Атропос, рабыня старых ножницЯ Атропос, рабыня старых ножниц,
одна из трёх, ослепших на заре
времён, которых никому уже не вспомнить,
поскольку все мертвы.
Дороги рек
с тех пор менялись многажды, но всё же
одну из рек вовек не изменить.
И мы всё те же – первый пробный обжиг
у мастера, вручающего нить.
Нам – петь и прясть, пока не станет тленом
последний из рождённых на земле.
А что потом?
Смиряюсь постепенно,
что тоже доведётся умереть.
Да, я неотвратима, но не вечна,
и Тот, Кто Выше, знает всякий срок.
Клото прядёт, ссутулив зябко плечи,
нить человечества дрожит у стылых ног,
а я пою – о будущем, в котором
едва ли будет лучше, чем сейчас,
и пальцы Лахесис бегут по нитке споро,
в узлы случайности завязывая вас.
Мы предназначены – поэтому ничтожны,
и жребий свой не в силах поменять.
Я Атропос, рабыня старых ножниц.
Одна из трёх.
Запомните меня.
ГалатейскоеЦарь Тира, доля твоя горька и плачевна:
правишь её денно и нощно, не покладая рук,
а она, податлива, но всё ещё чуточку несовершенна,
исподволь изменяет личностный свой конструкт.
Ты так поглощён стремлением к идеалу,
что вряд ли уловишь взгляд её, обращённый внутрь.
Занят – меняешь оттенок губ с вишни на алый
и для пущего сияния кожи втираешь толчёный в пыль перламутр.
Ощущая взыскательность этих прикосновений,
она старается соответствовать, но думает о своём –
о том, что дорога к звёздам от века устлана шипами терний.
И пусть она – лишь слоновая кость, воплощённая тирским царём,
но путь её светел, душа спокойна в кувшине тела –
только бы не пролить себя, вынести полной, не расплескать.
И ей, стоящей на постаменте, но уже почти у предела,
до первого шага осталось так мало – понять.
Шлифуя линию её бедра, ты мысленно приближаешь себя к идеалу –
Того, кто лепил из глины, но по образцу и подобию Своему –
и самолично творишь себе тёмное время смут,
позабыв, что бессмертную душу не выпестуешь пустым ритуалом.
Так плыви же, Харон, плыви…И уплыл бы давно, да навек привязан,
проклят, приговорён!
Посмотрел, верно, кто-то сурочным глазом
в час недобрый, в несветлый сон.
Верно, Никта, рожая шестого сына,
не сдержала глухой укор –
вот и воет в три глотки дурная псина,
и течению вперекор
загребают вёсла, взрывая воды.
Но срастается ткань воды,
и плывёшь сквозь сумрак, давя зевоту,
тонкой плёнкой от пустоты
сохраняемый, словно дано сгодиться
для чего-нибудь там ещё…
… Вдруг прозришь – ладошка её, как птица,
согревает его плечо.
Это плата, смертный…
Да, только смертный открывается для любви.
Но всё гуще сумрак, и небо меркнет –
так плыви же, Харон, плыви…
Хоть мысью растекись по древуХоть мысью растекись по древу –
не генерируется мысль.
Воздав сполна взрывному гневу,
дыши спокойно и учись
не принимать,
не открываться,
не ждать,
не верить,
не любить.
Ищи с упорством рудознатца
тот грот, где вьёт тугую нить
от всех укрытая богиня
из не умеющих стареть,
чей взгляд исполнен тёмной стыни,
чьи руки угощали смерть
вином второго урожая
давно отпущенных времён.
Иди туда, себе чужая,
в её серебряный хитон
уткнись лицом – и встанет время,
и в долгой паузе поймёшь:
вы обе полнились не теми,
вы обе умножали ложь.
Пусть вьётся нить,
плетётся слово,
и пахнет горькое вино
щемящей терпкостью фруктовой –
здесь всё прошло и всё равно.
Есть только небо,
только море,
и остывающий песок,
впитавший тысячи историй,
и грот,
и руки Калипсо…
ПрибережноеОн повторяет: «Не пей из Стикса», –
и погружает весло во мрак,
которым сам же давно проникся,
как олеином – седой скорняк.
Текут слова его, распадаясь
на капли ртути и скрытый смысл,
и добавляют тумана в завесь,
и тает, тает зелёный мыс
ничьей надежды.
Темнеет берег, такой далёкий,
такой чужой,
что и Харон-то в него не верит,
пока не ступит больной ногой
на вязкий, жирный, густой суглинок,
и, подскользнувшись, наморщит лоб –
да, вечным тоже нужны починки,
но не нужны им ни трон, ни гроб.
Он говорит мне, и я киваю
в ответ послушно: да-да, не пью.
Простоволосая и босая,
всегда живущая на краю,
я тоже вечна, я тоже стыла,
и мне знакомы огонь и медь,
и уводящая даль обрыва.
Я справедлива, я…
Просто Смерть.
Вода стекает с продрогших пальцев,
Харон смеётся, целуя их.
Далёкий берег ждёт постояльцев,
но мы всё ближе, и вечер тих…
ГордиевоГордий, безвестный крестьянин, нежданный царь,
Тюхе была ли особо к тебе благосклонна,
но не успело горячее солнце уйти за склоны,
жизнь для тебя изменилась, как мой словарь
в четверти этой возможного года иной судьбы.
В новых словах моих много узлов, но нити
этих узлов ждут не пальцев – меча.
В изменённом виде
суть постигается трудно.
(И тех глубин лучше не знать бы,
да сетовать не пристало –
если зовёшь ты бездну, то точно в срок
бездна тебя заполнит, ничей мирок,
словно усталость смертная – Буцефала,
съевшего зубы за долгий свой конский век).
Что же, фригиец, вяжи прехитрейший узел,
тором венчай совместимость ярма и дышла –
если рука со сталью всегда союзна,
меч македонца стоит, а притча – смысла.
Слушай цикаду, звенящую в левом ухе,
смейся над будущим, маленький человек –
мифы порой состоят из капризов Тюхе
и принесённых в жертву пустых телег.
Сивилла баб'МаняСивилла баб'Маня, кустистой взмахнув метлой,
как всякое утро последние лет полста,
прочертит дорогу – иди, мол, себе, не стой,
бескрылая птаха, небесная сирота.
Сивилла баб'Маня, к прозреньям давно остыв,
пьёт вечером водку, а утром – брусничный чай,
и заступом после отчаянно колет льды,
и сыплет песок, и беззвучна её печаль
по тем временам, где великий жестокий бог
входил в её грудь, занимая собой объём
потребного воздуха, – и обрывался слог
размеренной речи воплем…
Инвентарём
заведует тихий пьяница, старый Пан,
и топает баба Маня просить скребок.
Пан мутен и скорбен, как грязный его стакан,
два дня принимающий только лишь кипяток.
Усталая гарпия кильку подаст к столу,
сивилла баб'Маня поставит в ответ бутыль…
Я так их люблю, что они всё ещё живут,
от белых печатей не превращаясь в пыль.
И если когда-нибудь, дверь оттолкнув, войду
и к скудному ужину зрелый добавлю плод –
пусть будет он просто яблоком…
Только тут
меня-то никто не помнит – сиречь, не ждёт.
КОРНИ И ПЛОДЫ
Без рубрики
Первооткрывательское
Хлеба насущные цвели,
в тон василькам носились платья.
Год первый вышивался гладью,
и утро с запахом оладий
влекло меня на край земли.
Да, край земли тогда был близко,
но тесен был манежный плен –
хоть я до маминых колен
и доросла, до перемен
не доросла ещё Ириска.
Что ж, в утешители призвав
нос целлулоидного зайца –
а чем в манеже утешаться? –
точила зуб на домочадцев
и думала, как мир неправ.
Ведь я тогда постичь могла
закон земного притяженья –
и был разломанным печеньем
пол заманежья сплошь усеян,
но вновь сердитая метла
внеся по-быстрому поправки,
сметала начисто мой труд.
Я поняла потом – не ждут
моих открытий.
Мир зануд – "сиди в манеже
и не мамкай!"
Но время шло, и я росла,
учась по ходу притворяться –
хоть тяжек груз цивилизаций,
но детству свойственно смеяться –
и, в общем, выросла мила.
А вскоре тягостный манеж
преодолён был между делом.
Мир показался твёрдым телу,
но тело оказалось смелым,
и не подавлен был мятеж.
Я помню этот сладкий миг
прорыва за черту запрета –
потом ни поцелуй брюнета,
ни дым от первой сигареты
того триумфа не затмил.
Там за порог звала судьба,
дышало небо васильково,
мне, низвергающей основы,
мир открывался гранью новой,
и спели жёлтые хлеба…








