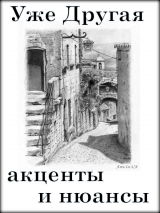
Текст книги "Акценты и нюансы"
Автор книги: Уже Другая
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Принимай неизбежное
Не отзывайся, пока она ходит вокруг да около,
выманивая тебя на голос подобно сладкоречивой сирене.
Не поддавайся на провокации скользящего шёлком локона –
он многажды перекрашен и давно сам в себя не верит.
Впрочем, нет смысла в увещеваниях, пропадут втуне.
Принимай неизбежное, открывай шлюзы, утопай в нежности.
У неё в роду шальные пульсары и неукротимые лисы-кицунэ,
а также одна куртизанка, владевшая даром изящной словесности.
Будь готов к чудесам – она их выпекает быстрей, чем пончики,
но не вздумай ахать, если чудо не дастся в руки.
Она, конечно, не ангел – так и во ржи растут колокольчики,
зато с ней быстро проходят приступы душной скуки.
Но всё же, пока она только ходит вокруг да около,
уже подобрав ключи, но вволю не наигравшись,
подумай, ощущая всем сердцем скольжение огона –
от таких никогда не уходят.
… Даже расставшись…
Тут намешано-наворочено…
В ней намешано-наворочено – и кровей, и чертей, и сказочек,
её в детстве считали порченой, ну, а после признали лапочкой,
а сейчас она точно – кошечка, хоть не хочет, а просто дразнится:
закрывает глаза ладошками и мурлыкает "восьмикла-а-c-сница-а-а",
и смеётся – играет, стервочка, ведь не любит, а так… ласкается.
С червоточинкой, злая девочка, потерявшая нить скиталица,
а накручено-наворочено – там Хайнлайн вперемешку с Маркесом,
с ней непросто, но междустрочия обозначены красным маркером.
Он не знает, чем всё закончится: в ней огонь, но прохладны пальчики,
в нём – столетнее одиночество постаревшего Принца-мальчика,
но всё туже в клубок свивается, всё острее согреться хочется.
«… Спи, Алиса, усни, красавица, чудо-юдо моё без отчества…»
Голосом цепким, как новая бандерилья
Голосом цепким, как новая бандерилья,
он вопрошает: "Где твои крылья?"
и щурит бездонный глаз
(левый, что характерно…)
Разговор, сплетённый из общих фраз,
отдаёт не то, чтобы серой – скверной,
и словам там тесно,
и душно мне
от шестой ментоловой сигареты,
но в его кармане ключи от лета
и проект на рай безо всяких смет.
Он сегодня снова иной совсем
и спиной прямою на цифру семь
так похож,
что хочется взбелениться,
но вокруг мелькают года и лица,
и я слушаю перечень всех дилемм.
Он пускает кольцами белый дым.
Ядовито думаю: "Вечный мим,
как же ты состарился в одночасье…"
Он читает мысли и, сжав запястье,
шепчет гулко: "Глупая, смерти нет,
я бессмертен, видишь?"
Конечно, вижу – вероятно,
выставлен плохо свет,
или мы сегодня гораздо ближе?
Как бы ни было, вечер идёт на спад,
обнимает тьма непрестольный град,
и неспешно пальцы его скользят
по моим коленям навстречу ночи,
и от жара рук тяжелеет взгляд…
– Хочешь, девочка?
… Очень-очень? –
и с ухмылкой смотрит, как я горю.
Отряхнув пылинку со светлых брюк,
разминает пальцами сигарету.
Он меня волнует, но к чёрту это –
так ему, понятно, и говорю.
Он уходит; вечность идёт за ним,
прижимаясь псом; неотрывней тени.
Запоздало думаю: "В самом деле,
крылья – где?",
разгоняя постылый дым.
Не прячь свою жажду…
Войди в неё медленно, осторожно,
лелея ещё нерождённый стон.
Не нужно вопросов,
пустые "можно"
всегда подождут
до иных времён.
Войди – и ты станешь другим и новым,
забудь всё, что было – есть только миг,
забудь даже слово, которым скован,
да и какое тут, к чёрту, слово,
когда мир огромен и многолик,
когда ты томительной жаждой полон,
и в эту минуту почти что бог,
когда твои руки рождают волны,
и волны исполнены силы тёмной,
и силе не нужен уже предлог.
Войди в неё – м е д л е н н о,
осторожно,
откройся навстречу и донага.
Не медли больше,
справляясь с дрожью,
не прячь эту жажду…
Она – река…
намири
говори мне это на суахили,
зови, выманивай: "на-ми-ри…"
слова иные меня забыли,
говори…
видишь, крадутся чужие тени
в дом по белёному потолку,
тени телесно осиротели –
стерегут…
значит, веди меня; жаркий шёпот
снова заменит тамтамов гул.
я вспоминаю о тайных тропах
на бегу…
близко, я близко, я очень близко,
слушай по пульсу, по дрожи губ,
будь осторожен, ты в зоне риска,
обведу…
тени тревожатся, тени верят,
прячутся тени в рисунке стен.
в бездне зрачков моих видишь зверя,
мой тотем?
ты её вызвал, твои по праву
боль от царапин и жар игры.
к ним беспощадна, с тобой лукава
намир-р-ри…
ДЕТАЛИ И ПАРАЛЛЕЛИ
Философская лирика
Детали
РефлексивноеСезон рефлексий накроет резко –
по осени сходят с ума внезапно.
И всё, что недавно казалось веским,
вдруг станет ватным.
Но ты, с упорствием печенега,
пока склоняешься к истукану,
а мир отходит к эпохе снега.
Отнюдь не странно:
созрели клёны для голой правды,
и откровенны плоды рябины.
Вот-вот навалятся брудершафты
с осенним сплином.
С полудня время несёт неспешно
в неприкасании суверенном,
и день с тобою пока что смежен.
Но пахнет тленом.
Сезон рефлексий накроет резко –
да, в осень сходят с ума, как в пропасть.
И мир рассыплется на отрезки,
попав под лопасть.
На смерть травы(В названии присутствует определённая доля иронии)
Лазейку отыскав во время без лимита,
в неспешности минут смотреть на смерть травы –
она пришла к утру, тиха и ледовита,
укрыла в саван сквер и тело мостовых.
И тайны нет ни в чём, но тайна есть повсюду.
Спокойно спит трава, отдав земле зерно.
Конечно же, смешно по-детски верить в чудо,
но отвергать его – бездарно и грешно.
Растишь в себе зерно, а плевела не дремлют –
понятно, не чиста, но кто здесь без греха?
Всё смелет в свой черёд в муку усталый мельник
и зачерпнёт в ладонь, и сдует: "Чепуха…"
Однажды он к тебе придёт и тихо спросит –
и что ответишь ты тому, кто ждать привык?
… А, впрочем, так легко покорны медоносы.
И мне уже легко…
Пишу на смерть травы.
ПейзажноеПредзимье продрогший город берёт в кольцо,
сизыми тучами стелет перину смерти –
малой и ненавечной, в которой всё
видится больно, как в беспощадном свете
лампы настольной, доросшей светить в лицо.
В парке на волглой лавке ноябрь ютится,
ворохи листьев дышат грибным теплом.
Я наблюдаю рыжее сквозь ресницы.
Рыжее долго вывозят грузовиком –
в ссылку к забытым куклам и громким птицам.
Дворник упорно скребёт молодой асфальт,
мир обнажая до тёмной зернистой сути.
Скалится время истин, как желчный скальд,
в сложный узор изнанки вплетая прутик.
Пара простых движений – готов инсайт.
Зимняя смерть накроет не навсегда,
просто наступит на тысячу снов о лете.
В небо устали строиться города –
рай муравейникам людным давно не светит.
Тает снежинка… Капля.
Вода, тщета…
Вари горячий шоколадВари горячий шоколад,
готовь для жертвы плоть шарлотки –
февраль, морозами богат,
не обещал явиться кротким.
Пускай себе – его права
спуститься в мир и взвесить души.
Зато какая синева
над головой.
Живи и слушай,
как снег под каблуком трескуч,
как в трелях трепетны синицы.
Ломай молчания сургуч,
когда досыта намолчится.
Иди куда глаза глядят,
покуда не застынут ноги,
считай потери и цыплят.
А зарифмованные строки
лови и отпускай лететь,
но после, проводив до неба,
вернись на вымерзшую твердь,
купив конфет, вина и хлеба…
Живёшь статистомЖивёшь статистом,
в хронике эпохи
мелькая неразборчиво, как профиль
идущего в едином направленье.
Себя теряя в пошлой суматохе,
депрессию зовёшь – как прежде – ленью,
но ждёшь, что рассветёт и в этой части
страны глухих,
потерянных,
ненужных.
Домой приносишь личное ненастье,
постылое, как запоздалый ужин,
и смотришь в бездну глаз того, кто рядом,
и говоришь о разном, чтоб смолчались
слова иные,
с разговором мятым
привычно эмигрируя в усталость…
ПереходноеКогда я умру окончательно, тлену подвергнется тело.
Ну, тело и тело: любило достаточно смело,
и смело так много – но не о чем тут горевать.
А искра господня, которая в теле горела,
рванётся из плена, подальше от гиблого тлена –
она и при жизни искрила порой дерзновенно,
но будет изловлена – нечего шляться, как тать.
И взвешена будет, и вплоть до седьмого колена
припомнят грехи, и грешочки, и даже огрехи,
отсыплют ей праведной кары, и так – на орехи,
и ангел мой бедный, на свитке ломая печать,
вздохнёт тяжело, расписавшись опять в неуспехе.
Прости, запорола… и, можно, я больше не буду
ничьим вечным праздником, милым и ласковым чудом
и прочим приятным – не к месту теперь поминать.
Бросай меня к чёрту – незрелую куколку вуду,
я небо прорежу болидом всего на секунду,
влюблённый решит, что на счастье, угрюмый – что к худу,
но в час, когда время-кукушка проклацает "пять",
согреется он – так любивший меня почему-то…
… Но будет бессмысленно что-то уже понимать…
Вечер крадётся рысьюЧас хмурых лиц и давки – вечер крадётся рысью,
люди спешат укрыться в чревах своих пещер.
Люди устали в осень, люди почти не мыслят,
прячут носы и души в шарфовый злой мохер.
Небо всё ближе – город кутает ловчей сетью
волглых густых туманов, гонит его к зиме.
К ночи покорно мёрзнет то, что кружилось медью,
и серебру сдаётся, инеем онемев.
Ночью опять беззвёздно, тягостно и бездонно.
Рысь на пороге спальни твой сторожит рассвет.
Взгляд её, немигающ, полнит тоской девона –
ген кистепёрой рыбы рвётся в тебе на свет.
Носишь чужую память, ты элемент цепочки,
но дозревает что-то с жаждою перемен.
И понимаешь ясно: этот прорыв отсрочить –
значит, принять навеки душный уютный плен.
Утро придёт, и в губы вновь поцелует кофе,
и до свиданья с рысью целая пропасть вех,
но…
… Бьётся в тебе предвечным бременем метаморфа
ген кистепёрой рыбы, маленький человек.
Пытаясь вытянуть что-тоПытаясь вытянуть что-то, опираясь на личный опыт,
с прискорбием понимаешь, насколько же ты пуста.
Но, какой ни на есть, а всё же твой опыт с боями добыт,
и ты вполне себе омут, где странностей до черта.
Ты путешествуешь в бездну практически без страховки,
не задаваясь вопросом, что же в финале найдёшь.
Твой ангел, уже привычно, на старте – наизготовку,
а ты его не жалеешь, хоть знаешь, что тонкокож.
Да, ты его не жалеешь, ты вообще не склонна
жалеть, возлюблять и слушать советы нелётных птиц.
Хотя… ты нелётна тоже и судишь с шестка балкона
о том, что иметь не хочет ни образов, ни границ.
И в этом великом Нечто творятся чужие будни,
взрываются оптом звёзды, чтоб кто-то сквозь толщу лет
пришёл и устроил улей для маленьких скорбных трутней,
а после вздохнул и молвил: "Ну что же… Да будет Свет…"
Ты тоже из рода трутней, взлелеянных с колыбели
в ладонях седого бога, который чего-то ждёт.
Он шёл открывать дороги, любить и сводить аллели,
но ставил всегда на "нечет", а выпал, конечно, "чёт".
И всё же…
Ты ловишь смыслы – банальные, человечьи,
растишь из того, что помнишь, опору для новых строк,
чтоб чувствовать – рядом дышит пока что чужая вечность
и слушает, принимая, твой спутанный монолог.
Глядишься в ночь и горбишься авгуромГлядишься в ночь и горбишься авгуром,
пытаясь уловить сигнал с изнанки,
но в небе глухо; тучи злы и хмуры
и сеют манку.
Летит на мир седое время года.
Белым-бело под светом яркой лампы.
У слов нет силы, у людей – свободы.
Довлеют штампы.
У пригвождённых к жизни нелюбовью
глаза скопцов и вянущие души.
Но, даже непричастием виновна,
смотри и слушай.
И, может быть, откроется иное,
и свет души проявится за телом –
так детство, позабыв про остальное,
рисует мелом
мир ласковый, где всем хватает лета,
где яблоки в саду не для искуса,
где далеко до споров сигаретных
и лож Прокруста.
Молчи.
Смотри.
Тебе доступна малость –
но большее опасно человечку –
вон три кита, на панцирь опираясь,
плывут сквозь вечность.
А после, беспощадные как детиПоверь, дружище, в этой пустоте
бездушно только первое столетье –
а после, беспощадные как дети,
придут иные, принесут вертеп
и примутся минувшее вертеть.
И всё, что можешь ты – смотреть туда,
в пространство между ширмою и бездной:
безвременно, бесправно, бестелесно,
язвясь кнутом привычного стыда,
на всех, кого сподобился предать.
И ждать тебе спасительный финал
сто тысяч лет, а время здесь, как глина,
и вязнет в мыслях, но признать причину
таки придётся, даже оправдав
себя давно.
… Нет, время здесь – спираль,
не золотая и не Фибоначчи,
а локсодрома с пропастью витков.
И свод небес, и красота садов,
поверь, дружище, ничего не значат,
когда перед тобою куклы плачут,
и льётся свет, изнаночным багров,
а ты паришь – без тела и без слов.
когда зачахнешь от горклых сплетенкогда зачахнешь от горклых сплетен
уже настолько, что словом-плетью
загнаться впору, но нет открытий –
порвутся нити,
те, что держали в плену иллюзий,
где мир разношен до all inclusive,
удобны смыслы, и бог смеётся
на лике солнца.
когда ты вспомнишь, что боль возмездна,
твой мир-скорлупка чуть слышно треснет,
и в щель заглянет чужое небо –
черно и слепо.
но, приоткрывшись, иные дали
поманят властно, как в детстве звали,
и вспыхнут звёзды, и будут светом
и вечным летом.
тогда ты тутовым шелкопрядом
вгрызёшься в листья чужих созвездий –
и станешь нитью, и тихо пряха
затянет песню…
Лишь темнота, и боль, и слепящий светЕлене Н.
Нет ничего во мне, понимаешь, нет.
Всё это пришлое – тьма ли, слепящий свет,
тени шуршащие, беглые облака,
тёмное пламя взорвавшего ночь звонка,
шёпот нездешнего, тягота слов чужих
делают стих.
Я принимаю – страх ли, тугую боль,
ложе прокрустово чьих-то иных неволь,
правду за вымысел, верное – за игру.
Пуще дитяти лелея в себе хандру,
ту, что является признаком новых слов,
падаю в ров.
В той пустоте всё конечное вновь живёт –
это природа, поверишь ли, всех пустот.
Сможешь остаться здесь, вспоминай – Нигде
держится испокон на кривом гвозде.
Время пустотное движется осолонь –
обойди, не тронь.
Миг этой вечности холоден и когтист.
Хочешь вернуться к небу – пора расти.
Нет ничего во мне, понимаешь, нет,
лишь темнота,
и боль,
и слепящий свет…
Их тоже вскоре ты перерастёшьИх тоже вскоре ты перерастёшь –
своих мужчин;
и эту боль,
и ложь,
пусть даже во спасение,
но вот
природу незаполненных пустот,
которая тобой сейчас живёт,
изжить не выйдет.
Быть тебе рабой,
от злостного бессилия рябой,
той силы, для которой свет и тьма
лишь чистый лист для нового письма.
Пусть светел день и утончён фарфор –
она ведёт неслышный разговор,
и ты опять от всех отстранена.
Природа пустоты не терпит дна,
поэтому расти тебе, расти,
пока достанет силы и пути.
А после?
После вышагнет, и всё,
но если кто упавшую спасёт,
то будешь жить, вернее, измерять
глухой остаток и, за пядью пядь,
всё глубже сочетаться с тишиной,
не тяготясь предъявленной ценой.
Ты всё-таки постигнешь тишинуТы можешь заблуждаться, что дано,
и льстить себе, что одарённей многих,
и, в тоннах плевел изыскав зерно,
на краткий миг грешно равняться с Богом.
И свет иной, являемый во тьме
бессонной, злой, от звёзд уставшей ночи,
гордыней полнясь, хоронить в письме,
и заблуждаться вновь, и лжепророчить.
Тяжка тебе молчания печать,
несчастная, ушибленная словом,
поэтому и тщишься прозревать,
не видя в исступлении кондовом –
вступив со словом не в одну войну,
открыв и свет побед, и темь агоний,
ты всё-таки постигнешь тишину
и примешь эти ватные ладони.
И вот когда, к доверчивому рту…Многое может случиться меж чашей вина и устами.
Аристотель
…И вот когда, к доверчивому рту
не донеся ни чаши, ни соблазна,
открыто примешь взглядом пустоту,
которая всегда многообразна,
и в этот раз пришла почти своим,
к отраве бесталанных пантомим
за много лет игры уже иммунным;
так вот, тогда и только лишь тогда
за немотой проступит простота,
и речь пробьётся – чистая вода,
заполнив смыслом давние лакуны.
Ну, а пока незрел ответный взгляд,
и пустота, смотрящая назад
и сквозь тебя, касается бокала
и льёт в ладонь стекла созревший яд –
молчи, молчи.
Пожалуйста, молчи.
Во что бы ты себя ни облекала,
для слова абсолютных величин
всё это мало значит, очень мало.
Немногое, что истинно – твоёНемногое, что истинно – твоё,
но этого немногого довольно,
чтоб свет был светом…
Тонкое литьё ограды парка,
запах влажной хвои,
дорожки, занесённые песком,
и жёлуди, набрякшие томленьем;
кот, дышащий пушистым животом;
скамеечные волглые колени;
прописанные бледно облака,
прозрачный холодок седьмого неба;
и четвертинка мятого листка,
и буквами удержанная небыль;
и "сад камней",
и бледно-жёлтый мох,
и вечер, наливающийся синью;
и сын, в глазах которого ты – бог,
верней, богиня.
Кисть воскового винограда, веранда, сонная цикадаКисть воскового винограда,
листва, сгоревшая до срока,
и заплутавшая цикада,
в иссохшем горле водостока
с утра тоскующая робко,
но восходящая крещендо
к полудню, солнцу, злому зною;
паучий бег,
мурашья тропка
и мотылёк на абажуре,
единодушие момента,
который мир в миниатюре,
придуманы отнюдь не мною,
но мне подарены на время.
Плоть Евина, Адамье семя
давно научено страдать,
но добиваться,
но бороться,
и, постигая боль, опять
крест принимать первопроходца,
но как же трудно умирать,
пусть даже ты один из многих.
Мы неразбуженные боги,
и вознесенье не про нас,
но нам – секунды звездопада,
кисть воскового винограда,
веранда, сонная цикада,
остывший чай, вечерний час…
Приметы новой осени простыПриметы новой осени просты,
из года в год – навязчивей оскомы.
Лёт паутин, костры и едкий дым
сто лет знакомы.
Дни августа не нами сочтены,
и календарь бесстрастней ассасина,
но в этом нет ни горя, ни вины,
а есть трясина
тоски сезонной, стыни, мокрых ног.
Но пропасть вечеров в уюте дома
какой ни есть, а всё-таки манок –
пока не сломан.
Напрасно недозрелый листопад
укрыл следы и маленькую площадь:
ведь осень, словно Урсула, слепа –
идёт наощупь.
Ночь глубока, но снова не до сна.
И, как ладошка клёна, смерть красна,
а на миру всё так же одиноко:
двор спит в осаде облачного фронта,
каштан шумит,
Хосе Аркадио бубнит
прозрения забытого пророка,
и льются бесконечные дожди
на мой Макондо.
Это, наверное, возрастноеЭто, наверное, возрастное –
время, на самообман скупое.
Парк одинокий, сухая хвоя…
Пошлый рекламный сор –
тот, на который нас бес рыбалит.
Больше не манят иные дали,
роль чудотворца снесу едва ли,
скучно с недавних пор.
Просто живу – на таблетках неба.
Веришь, на днях прописал плацебо
док, что анфас так похож на Феба,
в профиль же – чистый чёрт.
Вот и смотрю, как плывут столетья.
Над паутиной электросети
снова бесчинствует дерзкий ветер,
неприручённый норд.
Сказки закончились.
Здравствуй, зрелость.
Я к тебе, милая, притерпелась
и принимаю твою дебелость,
сухость и склочный нрав.
Кто я?
Мурашка под божьей дланью…
Видишь, над лиственной жухлой стланью
дикой, сторожкой, несмертной ланью
время летит стремглав?
Сидеть на берегу рекиСидеть на берегу реки
и наблюдать, как всё проходит:
и неуместные стишки,
и суетливый пароходик,
бегущий в сумрачную хмарь,
и дань осоке –
киноварь
в случайно вспыхнувшем порезе;
и гордость,
и остатки спеси,
и слов остатки…
Тишина, и гладь речная,
и до дна в ней только небо.
Облака несут себя издалека,
холодной важностью дождя
полны, как отроки печалью,
и хочется понять…
Хотя… момент прозрения нечаян.
Отдать течению реки
и смуту,
и глухую боль,
и впрок припрятанный обол,
и тяжесть скомканной строки,
давно идущей не от сердца.
Вдруг ярко вспомнить старый дом,
скрипучий пол и темень в сенцах,
пять лет, налитость синяка,
и сад, и свет большого солнца,
и мир на вырост, а потом…
… Закрыть глаза и ждать, пока
нос челнока песка коснётся.
Не трепыхайся, бела рыбаПлывёшь в нутре большого джипа,
считаешь, мир на блюдце дан.
Не трепыхайся, бела рыба,
насадит время на кукан.
У времени свои примочки,
крючки, грузила, поплавки,
таскает люд поодиночке –
покамест сетью не с руки.
Но, как рачительный хозяин,
обходит заводь тихих вод,
и новый день мальки встречают,
и мир им о любви поёт.
Не всё чудесное полезно,
хоть часто новичкам везёт,
но терпеливо дышит бездна,
и ждёт предвечный рыбовод.
Когда-нибудь и ты дозреешь,
и время, приманив блесной,
рванёт – и приобщит к трофеям.
Не слыша жалобы немой
на то, что воздух густ и резок,
и что кружится голова,
отсортирует в недовесок,
поморщившись едва-едва.
И ты уловишь, угасая,
тот свет, который был всегда,
но смерть придёт к тебе, босая,
ни в чём не ведая стыда.
Спроворит немудрящий ужин
и скатертью покроет стол,
и выберет из сотни дюжин
не самый значимый глагол –
чтоб на отпущенной минуте,
в закат, что зрелостью вишнёв,
подать тебя на старом блюде
сентенций, сколотых с краёв.
я здесь я нигде я мир я никтоя здесь я нигде я мир я никто
иду в междужизни от даты до даты
в свой срок открывая природу пустот
вгрызётся лопата
разрежет и вскроет непаханый пласт
невидимых смыслов в утробе суглинка
и кто-то оплачет а кто-то воздаст
покойся личинка
и вечную память затянет фальцет
в почти что живых не вселяя надежду
для плоти распад неизбежный процесс
ветшает одежда
я здесь я нигде я мир я никто
я жду в междужизни как прочие люди
в свой срок всё вернётся и свет золотой
вновь скажет да будет…








