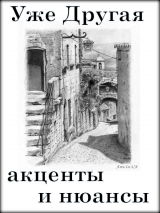
Текст книги "Акценты и нюансы"
Автор книги: Уже Другая
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
трижды отрёкся но был прощён
поцеловавший однажды проклят
листья осины дрожат и мокнут
дождь зарядил до конца времён
всякий кто в силе себе ковчег
прочим велели не волноваться
мир победившего потреблядства
что в тебе истинно человек?
тёмное время чужие сны
в смайлах убитые алфавиты
речь возвращённая к неолиту
просит почтительной тишины
ночь загоняет стада машин
в душных загонах теснятся агнцы
всхлипнув уснуло за стенкой чадце
выплакал страхи Мариин сын
Всякий раз, когда я пытаюсь писать о смертиВсякий раз, когда я пытаюсь писать о смерти,
наивно себя утешая, что смерти, конечно, нет,
надо мной потешаются здесь и в небесной тверди.
Ведь всякий раз, как только я выключаю свет,
и тьма вливается в комнату из дверного проёма,
робея сначала, но после смелей, смелей,
из тьмы выступает она, кивает как давней знакомой,
и пахнут прелыми листьями стареющих тополей
пальцы её, внимательные, как у слепого.
Она неотрывно смотрит.
Вибрирует в горле слово – тяну на пределе «омммм».
Она говорит:
– Пойдём,
покажу тебе тёмные реки и белые города.
Я тобой, пожалуй, горда – ты смела, как все идиоты.
Гладит по волосам, улыбается большерото,
и легка ладонь её, ладонь её молода,
но тверда, как жена библейского Лота,
окаменевшая на содомских скалах
от боли за всех остающихся грешных и малых.
Немоту перебарывая, шепчу сипло:
– Нет тебя! … Нет?
Она кивает:
– Как пожелаешь, милая…
Придумай любой ответ.
Могу не быть, сама понимаешь, мне безразлично.
Вспархивает на подоконник – смешная такая птичка,
немного растрёпанней воробья,
и барабанит клювиком.
Твоя.
Моя.
Ничья.
Если мал погост, неспокойный гостьЕсли мал погост, неспокойный гость,
заходи в мой дом, оставайся с миром.
Здесь для шляпы гвоздь, примет угол трость,
есть вино – горчит, как победа Пирра.
Будем говорить, если ты готов,
ну, а если нет – отмолчимся вволю.
В мире суеты было много слов,
в мире за чертой – только мы и поле,
в чьей утробе спят люди-семена,
чтоб взойти потом новыми мирами:
строчками стихов, клетками зерна,
огоньком свечи в деревенском храме.
Вот и снег пошёл – тих и отрешён.
Спи без тяжких снов всю седую вечность.
Обещаю: всё будет хорошо,
прорастёшь к весне частью новой речи.
Обретёт тебя ангельский язык,
серафимов глас приоткроет выси,
и обнимет тот, кто всегда безлик,
но всегда велик, – и к себе приблизит.
А сейчас иди, неприютный гость,
заполняй собой времена и тверди,
мне же – место здесь, где проходит ось.
Я другая жизнь – за порогом смерти.
Скольжу по тонкой плёнке бытияСкольжу по тонкой плёнке бытия,
рифмую быт, и множатся фантомы.
Но где-то там неспешная ладья
того, с кем я пока что не знакома,
идёт, неотвратима, как процесс
горенья вещества в короне Солнца.
Мой слабый дух нуждается в лице,
но всё никак ко мне не обернётся
лицом летучим, пепельным лицом
усталый и бессмертный перевозчик.
А в лодке, открывая ряд сосцов,
спит сука, и дрожит облезший хвостик
трёхглавого, последнего в помёте,
от вечности несытого на треть.
… Доносится глухое: "… не поймёте…
сначала вам придётся умереть…"
Скольжу по тонкой плёнке бытия,
а там, под ней, как чёртик в табакерке,
ждёт бездна, для которой ты и я
всего лишь тень бегущей водомерки.
ЗазимокЖиву – не спрашивай: тишь да гладь,
с небес то хлопья, а то и манна,
но зиму лучше бы разбавлять
самообманом.
А, впрочем, как ты себе ни ври,
что реки времени переменны,
мир изменяется изнутри,
и в нём нетленным
хотел остаться мой слабый дух,
да всё удушливей хватка плоти,
и то, о чём бы не стоит вслух,
умрёт в зиготе.
Медоточивей козы Хейдрун,
сочусь речами, сорю словами,
но в полночь снова придёт горбун,
и рукавами
лицо утрёт мне и скажет:
– Спи, моя нелепая, всем чужая.
Словам, что маются на цепи,
не видно края…
Растает дымом, и до утра
я где-то между миров пребуду:
не злом, не костным куском ребра –
безбрежным чудом.
А после – утро, хоть света нет.
Восстань же, скопище неметаллов!
За плотной шторой кружит рассвет,
как псы Вальгаллы.
Живу.
Не спрашивай.
Всюду жизнь,
и мой зазимок ничуть не хуже
трясины стылой привычной лжи.
В ладони суши,
что именуется гордо – твердь,
из туч тяжёлых летит стеклярус,
и неприютно,
и бродит смерть,
людей касаясь.
ДекабреющееСезон декабреет, всё тяжелее небесное одеяло,
и тёмное утро давно не является добрым,
поскольку, едва проснувшись, уже понимаешь – устала,
а запас наивного позитива ещё в октябре подобран.
И если бы не, то впору не выходить из дома,
и не ловить на себе взгляды чужих и праздных,
а набрать семь уловленных цифр и погрузиться в омут
голоса, так светло говорящего "здравствуй",
что мир, доселе стремившийся к точке, обретает объём,
и в нём появляется много места, и уже не тесно
дышать, говорить, смеяться – потому что вдвоём,
потому что вместе, потому что…
Почти воскреснув
после чашки горечи с одной неполной сахара,
кутаешься в шарф оранжевый – идя в полутьму,
лучше подстраховаться.
Повторяемый, как анафора,
начинается день, по обыкновению своему,
суетой, словами скомканными, людскими потоками,
текущими по направлениям, строго заданным, – к остановкам.
Понимаешь: миру не хватает кого-то (не Бога ли?),
и в озарении этом нечаянном и (на бегу) неловком,
ощущаешь себя раскрытой на середине книгой,
забытой на лавке в продрогшем парке – краю печали,
где кто-то неласковый, кто-то, древней, чем Ригель,
настывшими пальцами тебя, не читая, листает.
УтроЧеловек ночной отличается от дневного
так же сильно, как Ящер, съедающий свет
от дарящего снова…
Мается слово во мне.
Ты во мне – словом?
Нет.
Этой ночной тревоге имени не дано –
значит, тонуть бессильно, значит, идти на дно
тёмного мира мифов.
Чтобы найти свой путь,
нужно свою же веру в чудо не отпугнуть.
Реку ночного времени не переходят вброд.
Кто-то, ещё неузнанный, снова меня зовёт –
вот, покорясь течению, я отвергаю страх
и обретаю силу сделать последний шаг.
На дне.
Мается слово во мне.
Ты во мне – словом?
Да.
Всегда.
Человек ночной отличается от дневного
так же сильно, как Ящер, съедающий свет
от дарящего…
Новым, новым светом вернусь,
прорасту сквозь грусть,
эту тьму пройду по тонкому льду,
в пелене тумана наполнюсь маной,
взорвусь чудом!
Здравствуй, утро…
Параллели
Безгрешноеплывёт в бесконечность минут череда с прохладой вечерней вернулись стада
мир пахнет покорностью и молоком а страшное будет но после потом
ведь каин и авель безгрешны пока их гладит и поровну божья рука
вот хлеб преломив улыбается мать здесь каину восемь здесь авелю пять
сквозь щели клубятся иные миры
тех пыльных галактик что разом зажгли
лучи уходящего солнца в закат и вечер уходит
прерывисто брат вздыхает и вертится ищет покой
а в каине страх прорастает тоской
я чувствую каин твой спрятанный страх
я тоже пылинка на божьих весах
и сколько он весит мой маленький мир
в ту вечность ответов где гол ты и сир.
спи каин бог вспашет для нас облака
и утро придёт и господня рука
все зёрна от плевел уже отделив
посеет намеренье
каин ревнив но каину восемь и ноша легка
танцуют пылинки во тьме чердака
я слышу как дышит размеренно дом
да что-то случится но после потом
Ева печёт лепёшкиЕва печёт лепёшки.
День тих и светел,
падают глухо яблоки в сонный сад.
В мире, познавшем грех, подрастают дети.
Лепит из глины Авелю старший брат
птиц легкокрылых, бегущих единорогов.
Дует малыш, надеясь, но прах есть прах.
Тесто сминает Ева, вверяясь Богу,
губы сухие шепчут: "… в Твоих руках…"
Время-река – глубоки и неспешны воды.
Ева стирает детское, трёт песком
пятна от винных ягод, а вот разводы
тёмного времени будут потом, потом.
Вечер спускается многоголосым хором,
пахнет молочным, пыльным и травяным.
Солнце уходит, его принимают горы.
Ева целует мужа, сливаясь с ним
в жаркое целое, чтобы зачался третий.
Мерно Господь вращает небесный свод.
Еве семнадцать.
В ближайшем своём столетье
примет нелёгкую ношу и понесёт.
Ну, а пока ей мирно в руках Адама,
смерть далека, не просыпан песок минут.
… Страшное видится – кровь на ноже и саван.
Ева зовёт чуть слышно: "Господь…
Ты тут?"
К столпам приходят, садятся в охранный кругК столпам приходят, садятся в охранный круг
и курят трубку, и полнятся едким дымом.
Они едины, но всякий ближний – ни враг, ни друг,
а прежде – сила, жгучие серафимы.
И каждый – молния, каждый – аспид, летучий змей
и тот огонь, что сожжёт без жалости, но очистит.
И нет им права, и нет им страсти, и нет путей,
но не подумай, что им прискорбно, мой милый мистик.
Они вверяют себя, и верят, и тем сильны,
и на безволье нет места боли, нет места страху.
Как воды Леты, их дни неспешны, прозрачны сны,
и есть в них солнце, и нет им смерти, эдемским птахам.
А я – никчемна, но я – гордыня, и я сужу,
живя под небом, живя в придонье, не видя сути,
и бьётся жажда во мне, как бьётся бровастый жук
в ладошке тесной того, кто богом однажды будет…
Жил он тихо и был как прочие человекиЖил он тихо и был как прочие человеки:
поровну рук и ног – итого четыре.
Жизнь коротал в гулкой, как степь, квартире,
укрываясь за обширной библиотекой.
И нельзя сказать, что был он затворник –
просто родился неосмотрительно не в том месте,
но было в нём что-то от христовой невесты,
надышавшейся воздусей горних.
Он кем-то работал с восьми и до вечера,
но забывал, едва переступив домашний порог –
пустое помнить, вот ещё, более делать нечего.
К нему на коньяк по пятницам заглядывал Бог,
и вселенная расширялась размеренно за Его спиной,
и от сверхновых прикуривались сигареты.
Стоит ли говорить, что он не видел иного света,
кроме этого, вечного, разжигаемого божьей рукой?
И он ни разу не спрашивал: "Бог, почему я?
Ну, вот есть у тебя семья?"
Догадался сам.
Сидел рядом, кивал головой, подливал коньяк,
понимая, что и Всевышнему нужно помолчать по душам.
Недотыкомка, яблони божьей паданецНедотыкомка, яблони божьей паданец,
дрань, рванина в косматой шубице –
и вот что мне в нём, пусть и ладаном
пахнет рубище?
Но в глаза его не смотреть нельзя,
а в глазах его – край и неба синь,
на плече его задремал сизяк,
и звенят "динь-динь"
колокольцы там, где прозрачен свет,
где просвет прорвался сквозь хлябь и хмарь.
Скромен дар его – фантик от конфет
да ржаной сухарь,
но слова мои комом горло рвут,
и опять убога я, не мудра.
Я прошу его: «Оставайся тут…»
Улыбнулся, и: " Нет. Пора".
И широких крыльев его размах
заслонил полнеба и ветром стал.
… И опять ни весточки, ни письма.
Пустота-а-а…
Когда умолкнут языки«Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».
(1Кор.13:4–8)
…Тогда умолкнут языки,
и упразднятся все законы,
и канут в Лету автохтоны
по мановению Руки.
Покой обрящет Вечный Жид,
слова утратят суть и образ,
и вмиг Божественная Кобра
воспрянет и опустошит
все семь миров,
и станет бездна
там, где была земная твердь,
и в бездне сущее исчезнет,
и хаос примется темнеть,
поскольку свет исчезнет тоже.
В безвременье, но много позже,
свернутся свитки подпространств,
все вероятности сминая:
и ту, где я искала транс,
и ту, где прозелень морская
въедалась жадно в берега –
и неохотно отступала,
и даже ту, где, всеблага,
спит смерть – до нового Начала…
А что останется?
Любовь.
Одна любовь и Тот, кто вечен.
В момент, который бесконечен,
Он из бесформенных клубов
создаст и твердь,
и боль,
и Путь,
тебя создаст,
и вложит суть,
и дух вдохнёт,
и скажет: "Будь!",
и крест ты примешь, человече.
В детстве, бывало, приходишь к плотникуВ детстве, бывало, приходишь к плотнику.
Ты – сосуд,
не греха пока ещё; комочком ёжишься.
А он улыбается:
– Здравствуй-здравствуй.
Ты снова тут?
Всё никак не привыкнешь к телесной кожице?
И мурлычет негромко себе под нос,
обтёсывая кору с отжившего человека.
Человек был щедрый – липовый медонос
и прожил без малого три четверти века.
На вопрос «зачем» отмахнётся ласково:
– Молчи. Смотри.
Вот человек-дерево –
у него есть корни и ветки.
Ветки – дети его,
а корни – предки,
но самую суть я надёжно спрятал внутри,
и тело хранило её, покуда не стало ветхим.
Сидишь, поджав ноги, думаешь.
Потреплет по волосам:
– Веришь, многое я не сразу понял и сам,
не огорчайся, ещё дозреешь, пока же – слушай.
Погружает чуткие пальцы – ну, кто у нас там? –
и принимает душу.
А с вхождением в русло ювенильных смут
забываешь о плотнике, привыкая к плоти,
но его мастерская вспоминается в тихой дремоте,
и хочется верить – тебя там, как прежде, ждут.
Он снится мне время от времениОн снится мне время от времени,
бродяга без роду, без племени,
сапожник и маловер,
мятущийся Агасфер.
Бессмертный и нераскаянный,
познавший миры Окраины,
забывший родную речь
за бездну бессчётных встреч,
приученный быть непрошеным,
бредёт он по тропам хоженым,
и в мой неглубокий сон
взор его устремлён.
В глазах этих цвета полночи
ни горя уже, ни горечи,
ни гнева жестокосердого,
одна лишь усталость смертная.
На странном своём наречии,
в ненужности обесцвеченном,
вещает.
Слова спешат,
и рвётся его душа
услышанной быть, услышанной!
Но к свету, пустой и выжженный,
уйдёт он, свой крестный путь
не облегчив ничуть.
Согбенный несносным бременем,
придёт на исходе времени,
и, Пальцам вверяя нить,
попросит перерубить…
СледЗакрой глаза.
Не двигайся.
Не думай.
Под веками проступят океаны,
и времена, вопящие как гунны
в тумане узких улиц Орлеана,
уйдут на дно, где всякому Аттиле
найдутся и сражение, и место,
чтоб обрести не деву, так могилу.
Смирение – одна из форм протеста,
и раз до крика не хватило звука
из ряда гласных робкой середины,
молчи.
Молчи.
Молчание – не мука,
молчание – созревшая лавина,
готовая от шороха сорваться,
поэтому не двигайся.
Доверься
бездонной тишине и чутким пальцам,
уже узнавшим профиль на аверсе
монеты из времен, расцветших ало
кипучей жаждой, яростью и страхом
народов тех, не сбывшихся за малым.
Но к праху прах.
Умеет вечный пахарь
укрыть в земле и кости, и победы
безумцев, в мир срывавшихся лавиной…
Не двигайся.
Молчи.
Идёт по следу
тот самый звук из робкой середины…
Ничейны слова мои, неприкаянны, не у делНичейны слова мои, неприкаянны, не у дел,
как сны Азраила, висящие на гвозде,
что вбит в пустоту, но является осью мира.
Слова эти, колки, как клинопись юкагиров,
зовут меня: "Ир-р-аа…"
Зачем-то зовут, но приходят опять незвано,
и речь их резка, и отрывиста, и гортанна,
и мне бы не слышать, но снова шуршат страницы,
и мне бы не видеть, да, знаешь, никак не спится.
А мир кружится,
и время спешит,
только гвоздь, пробивающий пустоту,
пока ещё держит,
и сны Азраила ждут,
когда проведёт последнего преданный серафим
сквозь жаркие воды,
сквозь стынь бесконечных зим,
туда, где всё сущее станет единым Словом –
умрёт, а потом воскреснет, сложившись снова
в те звуки, которых не вымолвит мой язык.
Пока же, всегда неждан, навсегда безлик,
ведёт по непрочным льдам, по горящим рекам
дрожащую душу прозревшего смерть человека
уставший донельзя, измученный серафим
и ждёт, когда сны сойдут и возлягут с ним.
СКАЗКИ И МИФЫ
Мистика и эзотерика
Сказки
Время падающих каштановВремя падающих каштанов…
Избавляясь от оболочек,
ищет семя иные земли, хоть финал предрешён давно.
День исхода распахнут в небо, листопадами раззолочен,
но страда, и не дремлет дворник – тихий пьяница, тайный сноб.
Он бесстрастней слепой Фемиды, у него есть ведро и грабли,
он хозяин огня и дыма, бережёного коробком.
Разметая покой дорожек, шепчет сдавленно "кххрибле-кхрабле…" –
и послушно восходит солнце, пробуждая дремотный дом.
Да, он скрытен, но мне известно, что к нему приручились тучи,
и поэтому плачут долго, если дворник уйдёт в запой.
Это с ним происходит часто – жизнь всё менее приставуча,
он бредёт сквозь постылый сумрак одинокой своей тропой.
Но сейчас-то сезон каштанов и готовых к уборке листьев,
так что дворник вполне при деле – профи, клининг-специалист.
След метлы его безыскусен и волнующе тайнописен –
пусть мешает досадный тремор, но сегодня он ликом чист.
Сын каштана летит к надежде, дозревая в тугой облатке.
Я дурачусь, пиная глянец тех, кто понял уже, что пал,
и ругается бедный дворник, не приученный к беспорядкам.
Лист слетает к нему под ноги – рыж, доверчив и пятипал…
ПаутинноеСезон уступчивых трав и хищных газонокосилок
почти на исходе…
У августа нет причин держаться за прошлое:
он отстранённый инок,
и пальцы его, поднаторевшие в плетении паутинок,
легки и умелы, как женщины с опытом – в ловле мужчин.
Он вяжет прозрачные нити, сплетая сети,
а после силки отпускает в свободный полёт
и шепчет чуть слышно: "аз… буки… веди".
"глаголь" бережёт на особый случай, которым бредит,
но случай особо вредный – чего-то ждёт.
Я снова попалась в его паутинный морок –
считала ворон и читала знаки по облакам,
и мне улыбались собаки, спешащие по делам,
и, робко, герани – рабыни оконных рам,
и даже традиционно серьёзный знакомец-онколог.
Но лёт паутинок открыт, значит, где-то там
мой инок прошёл босиком по стерне пшеничной,
и нити грядущего льнули к его перстам.
Пепином шафранным неяркий закат упал,
и мир, поглощаемый тьмою, стал обезличен.
Сезон шелковистых трав и густых рассветов
подходит к финалу – стучит в мою дверь сентябрь.
Он пахнет анисовым яблоком, мятным ветром,
и взгляд его долог, что свойственно всем брюнетам,
он дерзок и пьёт только Whisky Double…
ПесочноеБезумный Часовщик распределяет время…
В годах поднаторев, точна его рука,
и сыплется песок, и ветер му`ку веет,
а вечный день горяч, и солнце жарит в темя,
и тень лежит у ног, нечистая слегка.
Он знает, что к чему, с ним можно без секретов,
но взгляд его тяжёл – попробуй удержи,
когда роняет он в ладони бремя лета,
в котором дышат сны дремотных страстоцветов,
щепотку чепухи и следом – чью-то жизнь.
Он приручил часы – но я их потеряла,
пока брела в годах, где экономят свет.
Их занесло песком толчёным веронала.
Но, впрочем, всё прошло – для памяти лежалой
нет тяготы потерь, нет горестных примет.
Сегодня я к нему пришла с банальной просьбой.
Смешная малость – так… Песочные часы.
Он смотрит сквозь меня и пьёт душистый ройбос*,
а время, вновь дразня повадкою стрекозьей,
застыв на краткий миг, срывается в рассып.
В барханах спят пески, и плавятся столетья,
но вечен день его, здесь спешка не с руки.
Он смотрит в тишину, неспешно гладит ветер –
как помню, был всегда пристрастный кинестетик,
и сверлят сон пустынь бурунчики тоски.
Я знаю, он сейчас из складок голобеи
достанет новый день, но мне-то нужно – жизнь.
И он, вздохнув: «Ну что ж…», ручного скарабея,
погладив по спине, отправит за трофеем,
а я решу, что вновь сорвала главный приз.
Но усмехнётся он – ему известно много,
и ляжет сеть морщин, измяв пергамент лба.
А я сбегу домой – не то песок дорогу
укроет через час, и компасного бога
вконец сведёт с ума бесцельная борьба.
Ты спросишь, для чего я вновь рискую счастьем,
терплю и пыль веков, и страх, и взгляда муть?
… Когда стечёт песок, ты станешь безучастен,
и наш хрустальный мир рассыплется на части,
то в нашей воле вверх часы перевернуть…
ДопотопноеВ этом мире сезон дождей – несменяемый, неумолчный,
и не греет рыбяжья кровь – три часа, как прошёл обед.
Милость в гнев обратив, Отец шесть недель – безразличный отчим:
превращается в грязь и хлябь то, что было всегда песочным.
Всё инертнее жизнь во мне, всё уютней бывалый плед.
Я не очень-то и хочу, но, похоже, без вариантов:
чешуится слепой июль в зеркалах беспредельных луж,
вместо солнца который день захимиченный оранж фанты.
… А на лето в цветных краях отменяются прейскуранты,
и железные звери мчат всех, кто райских удобств не чужд.
Но увы мне, увы и ах, двери в мир подпирают воды,
на эдемовы острова птицы счастья летят без нас.
Ты пытался построить плот, но вчерашний прогноз погоды
снёс на нет начинанья все – от заката и до восхода
лишь осадки по всей стране да закрытые окна касс.
Так что я принимаю крест, не препятствуя провиденью,
начинаю любить туман и простор заливных лугов,
но вот этот вечерний чай с подгоревшим слегка печеньем,
и кошачью текучесть рук, и ладонь на моём колене
обязуюсь сберечь в себе до скончания берегов.
Я открою тебе секрет – предсказуемость рыбьей доли
не пугает меня совсем…
Тяжко будет без сигарет,
но мной вычитан договор, и растёт чешуя, и вскоре,
полагаю, уже к утру стану глупой и золотою.
Ты погладишь по плавникам и прошепчешь: «Да будет свет…»
ПрогнозноеНапиши мне письмо на линованной плотной бумаге,
запечатай конверт сургучом и отправь в никуда.
Пусть хранит белый лист неизвестные тайные знаки,
как хранит пламя жизни замёрзшая насмерть вода.
«В никуда» – это много надёжней, чем «Почта России».
Тыщи лет наблюдений, статистика, верю, не лжёт –
доходили депеши и страсти, и даже мессии
уводили по этому адресу целый народ.
Я не знаю, когда, но письмо до меня доберётся,
и его передаст ранним утром седой почтальон.
Из сумы перемётной он вытащит мятое солнце
в штампах дальних галактик и с марками чьих-то времён.
Я раскрою конверт, обжигаясь и дуя на пальцы,
и достану линованный синим потёртый листок.
И в душе шевельнётся досадливо острое жальце –
шифровальщик, твой почерк почти нечитаем,
притом кособок.
Что ж… Похоже, всё тайное снова останется тайным,
но сгодится и это в преддверии бурной воды –
я сложу по линейкам кораблик и в кремовой спальне
буду ждать часа "че"…
Где-то тают полярные льды…








