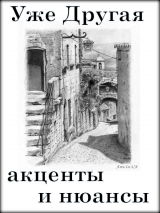
Текст книги "Акценты и нюансы"
Автор книги: Уже Другая
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Придуманное
А он мне говорит:
"Да, похоже, ты всё-таки есть…
Знала б только, как долго тебя
вот такую придумывал.
Ты смеёшься опять…
А ведь я все твои тридцать шесть,
и глаза уводящие,
и лицо вот такое – с высокими скулами,
и запястья, и пальцы, и волосы думал старательно.
Намечтал тебя, девочка, точно по атомам выстроил.
И привычку твою – бить навылет, пройдя по касательной,
и пристрастие странное – вечность выкладывать числами."
И я слушаю, чувствуя лёгкую дрожь –
ну откуда он знает всё это,
что даже ещё не озвучено?
А в окно барабанит настойчивый дождь –
он уверен, что с нами, пожалуй, случается лучшее…
И я думаю…
Долго, ведь ночь бесконечно длинна,
что под вечными звёздами
это, наверно, встречается…
Но возможно банальное –
вновь колобродит весна.
А он пальцем по скулам ведёт
и на ухо мне шепчет:
"Красавица…
Я тебя сочинял ровно год
до того февраля,
до числа, от которого
стала ты частью реальности"
И мне разом становится тесной большая Земля,
но он тут же находит вполне по размеру туманности.
Он не помнит, зачем,
но когда-то придумал меня
и забыл…
у богов так бывает – работа,
дежурство ночное.
А сейчас отыскал,
и я вспомнила ласку огня.
Он придумал мой мир – я придумала жизнь,
ну, и всё остальное…
И если губы твои знают пути моего огня
И если губы твои знают пути моего огня,
и если пальцы твои умеют им управлять –
обними меня так, как только ты способен обнять,
удержи меня, не позволяй опять
стать чьим-то словом,
смыслом,
чужой душой,
нервными буквами,
ломаной злой строкой,
болью растущей,
натянутой тетивой,
текстом того, кому не знаком покой.
И если ты теперь слышишь мой новый ритм,
если ты понял то же, что знаю я –
не говори ни слова.
Пространство рифм
не отпускает до полного забытья,
но если чутки губы – уходит всё,
и остаётся только огонь,
огонь…
… Но из остывшего пепла опять растёт
слово того, кому не знаком покой.
Он её завоёвывал, как макситан Гиарб
Он её завоёвывал, как макситан Гиарб
руку, помыслы и Карфаген Дидоны:
брал нахрапом,
держал в осаде,
молил, как раб,
временами бывал колюч, словно новый драп,
но смотрели мимо медовые халцедоны
глаз её,
невозможных,
глубоких,
манящих глаз.
Он в уме возводил империи, строил планы
и сидел допоздна на кухне, включивши газ,
чтобы малое пламя дышало, и полумгла
отступала подальше и пряталась у чулана.
Он не верил в удачу, но что-то однажды в ней
изменилось внезапно, а, может, она устала.
И весь мир изменился, и нет ничего важней,
чем касаться дыханьем озябших её ступней,
а потом укутывать в пёстрое покрывало
и держать её, сонную – самый желанный груз,
на руках, прижимая, баюкая, словно чадо.
Гнать сомнения прочь и шептать себе: «Разберусь!»,
ощущать на губах горчинку и тайный вкус,
улыбаясь довольно при виде постели смятой.
Я не знаю, как дальше сложится их судьба:
жизнь – закрытый сценарий, и мы в нём всегда статисты,
и хищны времена, да и хватка у них когтиста.
Но, пока она спит, он чуть слышно мурлычет Листа,
и целует ладонь,
и сгоняет морщинку со лба.
Кошка её имени
У него есть теперь
своя собственная кошка её имени.
У зверя такой же гипнотизирующий взгляд
и вкрадчивые повадки.
Она вполне прижилась –
на косяке процарапала факсимиле,
но чисто по-женски хранит свою тайну,
не снисходя к отгадкам.
Она чарующе безразлична,
полотно её жизни текучей шёлка,
и он уже не сомневается,
что кошка способна ловить минуты.
Тогда время становится ручным,
и они шепчутся втихомолку –
о своём, о вечном,
а глаза её полнятся
зеленью изумрудной.
Кошка так же уступчива,
как обманчиво нежны её пушистые лапки,
таящие до поры до времени
безжалостные лезвийные коготки,
но под антрацитовой шерстью
таится выдержка аристократки.
Она не царапается по-плебейски,
он – выдерживает дистанцию вытянутой руки.
Сейчас уже сложно вспомнить,
как она появилась в доме –
он тогда много и трудно пил,
пытаясь выжечь за месяц десяток лет.
Просто возникла однажды утром,
мурлыкнула: "Будем знакомы",
а он впервые за пять недель
приготовил горячий обед.
Она представилась её именем –
он готов поклясться, что всё расслышал,
вошла и села в пороге,
нисколько не сомневаясь,
что уже принята в душу.
Чуть позже вечер сгустился дождём
и зашелестел по черепицам крыши,
а им было очень уютно сидеть у печки
и думать о том,
как сыро снаружи.
У кошки есть тайна,
он
и дом с выцарапанным
на косяке факсимиле.
У него – покой,
память без боли
и своя собственная кошка её имени…
Кому ты свет, тот примет темь
Кому ты – свет, тот примет темь
и неприглядную изнанку,
и злую обнажённость тем,
и завышаемую планку,
и твой отсутствующий взгляд,
и дни, которые горчат,
и ночи те, что не согрели,
и врозь прожитые недели,
и месяцы стихов взапой,
и хворь бессонницы глухой,
да, и к нему непринадлежность,
как принимают неизбежность.
И как ответить, чем вернуть…
Пообещать ли, обмануть –
но врать не хочешь во спасенье,
а за спиной теснятся тени
пока чужих стихотворений,
в которых боль, и нерв, и суть.
Нахлынет гиблая тоска…
Коснёшься пальцами виска
его,
губами – локтевого сгиба,
вздохнёшь – и вдруг шепнёшь:
– Спасибо…
Будущее
Время штампов неумолимо, пролетают идеи мимо,
но с упорством глухого мима я играю в немом кино.
Прорастая в чужие роли, выживаю на валидоле,
вновь из жизни своей ментольной оставаясь невыездной.
Но конвертики во входящих – значит, ищущий да обрящет,
я давно потерялась в чаще, но ты всё-таки мной ведом.
Белый шум захлестнёт и смоет, отнесёт на чужое море,
у подножий крутых предгорий мы с тобой нарисуем дом.
Совершенно земное счастье – белый камень и стеклопластик,
и камин приходящий мастер нам устроит для саламандр,
чтоб январскими вечерами мы могли бы дружить мирами –
там, гляди-ка, не за горами, вспыхнет розовый олеандр.
Это всё непременно будет – дом, в котором не любят буден,
и заросший лягуший прудик, и беседка, и звёздный дождь.
Мне осталось совсем немного – доиграю ручного бога,
и пристрою единорога, и открою святую ложь.
Лицедейство преодолимо, я, пожалуй, смогу без грима.
В нашем будущем обозримом окна будут смеяться в сад.
… Так, наверно, приходит чудо – осторожно, из ниоткуда,
отстранённей иного Будды, – превращаясь в одну из правд…
Здравствуй, хороший мой, если там, где ты…
Здравствуй, хороший мой – если там,
где ты, дозволяется здравствовать.
Я за семнадцать лет без тебя
повидала немало рек,
приняла воду пяти морей,
провожала закаты багрово-красные
на берегах песчаных и галечных,
где время сдерживает свой бег.
Пересыпала в ладонях песок своей жизни,
в небо смотрела.
Верила.
Много молчала.
Тобой молчала.
Растила детей и слова.
Но ни разу, слышишь, ни разу
гости с другого берега
не сказали мне, мой далёкий,
что я была неправа.
Я вырастала из боли.
С болью перерастала.
Выросла.
Извлекла все горестные уроки
из дней густой тишины.
Научилась не слышать,
приняла неудобную правду за вымысел
и отпустила на волю тобой забытые сны.
Ты вспоминаешь меня, конечно, –
но светлым облаком
обнимает тебя забвение,
и на водах Леты настоян чай.
Я ещё пишу тебе изредка,
отправляя письма с прохожим мороком,
и не жду ответов,
но верю – ты выйдешь меня встречать…
И не умрём
Да, всё, что было,
всё, что есть,
и всё, чем станем –
горсть праха, глиняная взвесь…
Налей шампани,
налей – давай поговорим
без слов, глазами,
и третий, что всегда незрим,
пребудет с нами.
И пусть философы твердят,
что смысл не в этом,
но тот, кто любит – тот и свят,
и виден свету.
И пусть в предвечной темноте
таятся тени,
но искрам свойственно лететь
на треск поленьев.
И, значит, снова быть теплу
в душе камина,
и вновь губам, коснувшись губ,
гореть кармином.
Рукам – ласкать,
минутам – течь
рекой неспешной,
словам – принять иную речь,
как неизбежность.
Мир спит под снежным серебром,
а мы друг в друге не умрём.
И будет утро
И будет утро.
В нём – застывший свет,
едва живой от заморозков ранних,
и в этом свете – сад в оконной раме,
и первый иней в жухнущей траве,
и тропка, уходящая за край
открывшейся случайно перспективы;
инжир и груши,
яблони и сливы,
беседка,
покосившийся сарай,
похожий на нахохленную птицу –
промокшую, нестайную, ничью;
бездомный кот,
крадущийся к жилью,
и серый кот,
снимающий со спицы
вязь пёстрых петель за моей спиной.
Я буду зябнуть, но смотреть в окно
на хмарь, с которой несовместно дно,
на то, как суетлив соседский Ной
в своём стремленье всё успеть до срока.
И будет дождь.
И вымокнут узлы,
и люди станут торопливо злы,
и патриарх, моргнув сорочьим оком,
взметнёт нелепо полами плаща
и кинется встречать, носить, считать:
сундук отца,
тюфяк его,
кровать…
Собьётся.
Снова.
Плюнет сгоряча.
А после,
бросив скорбный неликвид,
уйдут и Ной,
и первый сын,
и братья.
И я уйду.
Уйду в твои объятья
и в малое бессмертие любви.
И как из темноты не изъять свет
И как из темноты не изъять свет,
и как из тишины не извлечь звук,
так и от бытия не отделить смерть,
поскольку бытия, как и смерти, нет.
Есть влажная глина, гончарный круг,
мерное вращение, нога на педали,
рука, вспорхнувшая на плечо,
любящий взгляд, и едва ли
нужно что-либо ещё…
Разве что тихий вечер, горчинка винная
в глиняной кружке, сыр со слезой,
новая книга, прочтённая наполовину, и
ходики, ухающие совой,
мотыльки, принимающие свечение,
ночь, и над ночью огни –
плавно текущие над головой
реки небесные, звёздные ильмени,
и новый сосуд, ждущий одушевления.
Вдохни…
И даже если ты научишься пить 'узо
И даже если ты научишься пить 'узо,
не умаляя водой,
не унижая льдом терпкого вкуса,
как пьёт его этот никогда не спешащий грек,
везучий, в общем-то, человек,
по праву рождения черпающий из временных рек
годы, лишённые суеты,
так вот,
даже если искусству жизни случайно научишься ты,
а после, на исходе почти что вечного дня,
уловив ритм одного на двоих дыхания, научишь меня
единению, наполняющему постепенно, как ручьями растёт поток
(да, я ещё не решила, будешь ли ты нежен или немного жесток…),
нам всё равно не хватит каких-то пяти минут.
Чтобы постигнуть главное – нужно родиться тут,
на стыке высокого неба и моря, солёного солоней,
на берегах которого и сейчас ещё плачет о сыне неутешный Эгей.
Только тогда время будет ласкаться к твоим рукам,
стекая с пальцев покорной водой,
и ты возьмёшь её сам
столько,
сколько понадобится для постижения житейского смысла,
гармоничного, как пифагоровы числа,
простого, как хлеб, погружаемый в масло оливы:
есть только ты,
мир
и бесконечные воды времени в тихом морском заливе.
_________
Узо– алкогольный напиток, производимый и распространяемый повсеместно в Греции и Турции, (где он известен под названием Раки). Его также можно сравнить с абсентом, французским Перно. По вкусу напоминающий ципуро (виноградная водка). Это дистиллят смеси этилового спирта и различных ароматических трав, среди которых всегда присутствует анис.
Видишь ли, если двое…
Видишь ли, если двое делают одно и то же,
открывая друг друга губами,
несущими осторожную ласку
доверчиво обнажившейся коже,
в обособленном мире, где к настроению чуток свет,
в общую единицу времени, которого нет,
и которое всё и всех подытожит
(но это позже, пожалуйста, много позже);
и, вполне допускаю, им даже неведом страх,
поскольку пальцы их сплетены в "замок"
или теряются в спутанных шёлковых волосах –
они не едины.
Да и вряд ли бы кто-то смог
увенчать равенством вожделение женщины и мужчины.
Смотри.
Вот она, женщина, перед тобой.
Кого же ты видишь… ну, допустим, Адам?
Дар божий?
Проклятие?
Источник жажды неутолимой,
пробуждающий в тебе зверя, рычащего "не отдам",
в момент острейшего наслаждения перехода силы
от тебя – ко мне, от меня – к тебе?
Объясняй меня:
порывом свободного ветра, взметнувшего штору, игрой огня –
этим вот малым пламенем, танцующем на фитиле свечи,
стихами, таящимися в твоих зрачках, – или молчи…
Молчи.
Не спрашивай, что я чувствую – не отвечу.
Ласки не вечны, жар быстротечен, холоден вечер.
Мир сотворён и безлюден, застелен кипенно-белым,
и щедрые боги уходят в иные пределы –
бесследно, как это присуще ненужным богам.
Видишь ли… ну, допустим, Адам,
если двое делают одно и то же:
отпускают момент, который обоими по-разному прожит,
и прощаются осторожно, боясь обронить
лишнее слово, способное всё изменить –
именно в этом моменте они едины, похоже…
Ладонь к ладони
Ладонь к ладони стремится…
Согреться хочется,
но не жду, чтобы ты объял моё одиночество –
в нём так много звёзд и меня,
что два мира ты просто не вынесешь,
будь хоть трижды Атлант…
Талант любить рождается с человеком,
но поиски самой чистой воды и вхождения в новые реки
отбирают это тепло.
Впрочем, прошлое утекло туда,
где время неспешно,
где темна вода,
где беда, помноженная на беду,
бормочет в сумеречном бреду
нескончаемые молитвы.
Хвала Оккамовой бритве – я отсекаю лишнее.
Прошлое – прошлому,
пусть само хоронит своих мертвецов.
Ладонь – к ладони.
Не нужно слов,
если есть губы, знающие секрет
продолжительного поцелуя.
Полутьма, царящая в мире малом, волнует,
но свет с тобой,
свет во мне…
В тишине говорят руки, отвечают тела.
Действительность, отражённая в зеркалах,
возвращается чудом,
в котором я всегда буду
потенциальным открытием.
Будущее прядётся нитями
неутомимых парок,
и в общем его полотне,
во всяком новом,
пока не проявленном дне,
мы вплетены в узор мироздания,
как в небо – птицы,
до тех пор, пока ладонь к ладони стремится…
Даже тогда
…И тогда, когда взгляды,
соприкоснувшись, на миг отпрянут,
а после снова сойдутся в маленьком поединке,
и тогда, когда воздух станет густым и пряным,
но ускользающим,
словно чья-то жизнь на дагерротипном снимке.
И тогда, когда губы твои
коснутся дыханьем моих ключиц,
а тяготение тел станет острым и обоюдным,
и ты не поймёшь,
чего хочешь больше –
смять меня или упасть ниц,
объявляя новоявленным чудом.
И тогда, когда мир сомкнётся,
образуя остров,
и пальцы твои войдут в реки моих волос,
и время разделится
на ушедшее "до"
и неизвестное "после",
а то и вовсе, с цепи сорвавшись,
пойдёт вразнос:
закончится разом
и тут же начнётся снова –
даже тогда, слышишь,
я
не скажу
ни слова…
Не об ангелах
«Итак, пусть никто не ожидает, что мы будем что-либо говорить об ангелах.»
Бенедикт Спиноза «О человеческой душе»
***
Сохранится ли тайна в приходящем спонтанно?
Давай проверим…
Двери, закрываемые с мягким «тшшш», отсекают действительность и свет в прихожей, оставляя наедине, в ожидательной тишине.
Кажется, иначе это называется «тет-а-тет»?
Да, голова к голове и между нами.
Иди ко мне.
Говорить будем: сначала глазами.
Умеешь?
Это просто: не отрываясь смотри, как я раздеваюсь, и глаза всё скажут сами (у твоих глаз удивительно отзывчивые зрачки: открываются для диалога в считанные доли секунды, и тогда я обретаю способность читать твои мысли… Конечно, в такие моменты они достаточно тривиальны, но всё, что за ними следует, по-прежнему тайна взаимного постижения. Учти, я опять ничего не знаю об этом, я посредственная ученица, но хочу, так хочу научиться, – поэтому пройденный материал следует закреплять повторением снова и снова…)
Говорить будем: кончиками соскучившихся пальцев. Чувствуешь ноготки, накопившие кальций – теперь им не страшно ласкать на грани между разжечь и ранить (разжечь, разумеется, предпочтительней, но не ранить совсем – мучительно, значит, каждый разбуженный след будет выкуплен поцелуем).
Да, представь, и меня волнует…
Погоди.
Времени нет – значит, у нас впереди… правильно, вечность.
Говорить будем: губами, которые есть тепло и всегда открытие (вряд ли я много из этого разговора вытяну и переведу в слова общепонятного языка – кружится голова, и поэтому я плохой переводчик, разве что до кровати…)
Осторожнее с поцелуями… Хватит…
Нет, не хватит!
Говорить будем: соприкоснувшейся кожей. Отвечаю дрожью, отвечаю порывом, взметнувшейся силой, доверчивой наготой и жаром своим, сбережённым к вечеру (правда, женщина в такие моменты божественна и светом особым подсвечена, словно амфора с помещённой в неё свечой?)
Хороший мой, мне всё сложнее раскатившиеся слова нанизывать на тонкую нить моего ошалевшего рацио – скоро останется один только зов, одна только грация зверя, заворожённо глядящего в бездну твоих зрачков…
Ускользает нить…
Говорить будем, говорить: неотрывно – глазами, безоглядно – пальцами, откровенно – губами, исключительно чутко – кожей, как говорили все эти семнадцать лет, десять месяцев и двадцать два дня, и даже тогда, когда тёмный свет заполнит мои зрачки, и останутся лишь междометия, ты услышишь меня.
Удержишь меня?
Тайна в тебе, тайна во мне, а не в том, что приходит спонтанно…
Sfumature (forte)
Непрактичное
Побросать пожитки в пасть чемодана,
хлопнуть дверью с лязгом на весь подъезд,
чтоб соседа Тольку снесло с дивана,
а из пятой толстая Мариванна
всколыхнула честно нажитый вес.
Нацарапать «FUCK!!!» поперёк капота,
непременно ржавым кривым гвоздём –
милый мальчик, сказочник гарри поттер,
хлещет в тёмном пабе свой горький портер
и не знает, лапочка, ни о чём.
И бежать, походу мурлыча что-то,
через мрак аллейный, чтоб каблуки
разбивали стуком покой болота,
в этом состоянии сумасбродном
с ночью приходящей вперегонки.
Но когда укутает кошка-полночь
полусонный город своим хвостом,
вдруг подкатит к горлу обиды щёлочь,
выжигая болью "…какая сволочь!",
но себе прошепчешь: "…потом, потом…"
И мобильный модный – его подарок,
придушив на сотом уже звонке,
запулишь подальше – путь будет ярок,
но финал полёта, понятно, жалок – как у всех,
не вышедших из пике.
А потом внезапно случится утро –
через вечность малую в три часа.
Город станет хлопотным и маршрутным,
суетливым, дёрганым, непопутным,
поминутно жмущим на тормоза.
Ты войдёшь в потоки и станешь частью,
растворившись в смоге его забот.
Там, где каждый встреченный безучастен,
будешь строить – может, дорогу к счастью,
впрочем, может статься, наоборот…
Я – к Бетельгейзе!
А он ей тащит духи, конфеты,
цветы с вершины Килиманджаро –
такие белые и смешные,
с названьем странным…
да, эдельвейсы!
И всё, что хочешь, он может сразу
(вообще, конечно, воображала).
Он всем так нужен.
А ей – нисколько…
Ну, точно рухнула с Бетельгейзе!
А он сулит ей моря и страны,
и тонны шмоток под знаком Prada.
Он где-то слышал, их носит дьявол,
и это дьявольски эротично.
Она смеётся и смотрит в небо.
Она смеётся!
Больная, правда?
Но, впрочем, эти вот, с Бетельгейзе,
все потрясающе непрактичны.
Вот что ей нужно?
Никто не скажет –
она сама-то не знает толком.
А он ей пишет, представьте, песни
и дарит розы на длинных ножках.
Он так надеется с ней в экстазе
соединиться, родить потомков,
что позволяет спать на кровати
её лохматой и злобной кошке.
Она колеблется, понимая,
что шанс реальный для прочной жизни:
вполне по силам четыре сына
и пятой – дочка, чего ж вам боле?
Да только манит её ночами туда,
где места нет дешевизне.
А он не смотрит давно на звёзды,
он просто держит всё под контролем.
Она сорвётся, ей-ей, однажды,
сбежит из дома в одной футболке,
оставив в розах ему записку:
– Она на грани! Я к Бетельгейзе!
А он же будет потом ночами
искать мерцание в тёмном шёлке,
в руке сжимая её халатик
с летящим запахом эдельвейсов.
Наверное, о сверхновых
Она говорит:
– Уходя – уходи.
Ты сжёг все мосты,
я взорвала сверхновые.
Пожалуй, мы квиты.
На длинном пути
не всё, что в дугу –
то на счастье подковою.
А долгие проводы – это смешно.
Да что там…
Тебе же претят многоточия.
Она говорит, а он смотрит в окно,
и после – ей в душу сосредоточенно.
Душа, как душа…
И не то, чтоб мелка –
скорее всего, изначально некрупная,
но хлама немного: цветок василька
(пробился один… так, причуда минутная)
вон клевер-трилистник,
ромашки во ржи…
Воистину, этой вовеки не вырасти.
Нет-нет, он не любит.
Ещё дорожит.
В ней ярко живёт состояние сирости.
Он долго будил тот ответный огонь,
который для звёзд наилучшее топливо.
И звёзды горели и грели ладонь,
когда натирал их ночами заботливо.
Но как-то случайно, нелепо и вдруг
закончилось в ней состояние нужное –
сгорела, конечно.
Вновь замкнутый круг
и тягостный поиск душою застуженных.
И всё же…
И всё же…
Она непроста.
Он смотрит ей в душу, но видится малое –
ромашки и клевер…
А дальше – черта:
уже приговор, и его не обжаловать.
Она говорит:
– Уходя – уходи!
Сжигая мосты, догорают сверхновые.
В ладошке её, в крепко сжатой горсти
Вселенная спит полукруглой подковою.
неожиданное
мужчины являлись из ниоткуда, но не с пустыми руками,
дарили звёзды в цветочных обёртках, воображали себя волхвами.
топтались в жизни её основательно, их прайсы пестрили посулами,
отдельные были бедны, но нежны, все прочие – толстосумами.
губы её обжигали чили – они твердили, что это сахар,
она носила такие духи, что каждый встреченный глупо ахал.
они мечтали срастись настолько, чтоб спать на одной подушке,
а в ней соседство с чужой головой рождало приступ удушья.
она любила всех, но недолго – иначе у них исчезали тени,
тогда она плакала по ночам, смиренно каясь в атлас коленей,
наутро втирала крем анти-эйдж, сбивая со следа хищное время
и выводила в ничейный мир эпоху вольного водолея.
а он не ждал её так давно, что позабыл обо всех приметах,
она явилась из ниоткуда, из сумки жёлтой достала лето.
ему хватило одной улыбки, чтоб снять пароли и стать доступным.
он перевёз к себе в прошлый вторник два чемодана, кота и ступу.








