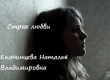Текст книги "Боль с привкусом дикой рябины (СИ)"
Автор книги: Толкиенист обыкновенный
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
========== Глава десятая: Закат ==========
«Мой мир – это маленький островок боли, плавающий в океане равнодушия».
© Зигмунд Фрейд
Леголас рассеянно трет переносицу, бросая быстрый взгляд в окно. Он чуть морщится от нового укола головной боли, с которой проснулся утром, и зевает.
День близился к концу, но до ночи еще было далеко, и ложиться спать сейчас не слишком хочется.
Леголас раздраженно фыркает, поднимая ладони на уровень глаз, чтобы после впериться пустым взглядом в собственные пальцы. Тонкие, узловатые, жилистые, с неровными, искусанными ногтями.
Отвратительная привычка, появившаяся совсем недавно, с которой он, хотя и злился, ничего поделать не мог. Кольца он никогда особенно не любил, да и они бы только мешали.
В общем, самые обыкновенные руки, на рассматривание которых он зачем-то только что потратил уйму времени. Как, впрочем, и вчера, и позавчера…
Так и прошли последние несколько дней, – около пяти или шести, Леголас не видел смысла считать, – за бесполезным разглядыванием всего подряд, долгими вздохами и редкими приступами головной боли. Он мог просто застыть в один миг, глядя на танцующее в камине пламя или блестящий кристаллик в люстре.
Из той комнаты в пустой башне его перевели в собственные покои на следующий же вечер; стражники исчезли с глаз спустя еще один, пусть Леголас и без труда ощущал их присутствие там, за закрытыми дверями.
Но, кажется, теперь ему доверяли настолько, что позволили находиться в комнате в полном одиночестве. Наверняка и здесь без Айнона не обошлось.
Леголас проводит рукой по волосам, пропуская сквозь пальцы спутанные светлые волос ы. Он бросает быстрый взгляд на лежащий на дальней стороне постели гребень, но подняться с подоконника, на котором сидит сейчас, прижав колени к груди и закутавшись в плед, не решается, не желая разрушать атмосферу тепла и покоя.
Айнон. Его бывший наставник, внезапно оказавшийся не такой уж хладнокровной статуей, какой казался раньше. Почему и зачем?
Леголас хмурится, зябко поводя плечами. Он, кажется, знал. Слухи одно время ходили; слишком уж многие об этом говорили, чтобы он сам мог это пропустить. Не поверил, правда, тогда: чересчур непохоже то было на Айнона.
Помнится, говорили, что сын у него был. Леголас еще, чудится, рассмеялся, услышав – сложно было поверить в то, что у Айнона мог быть ребенок. А еще рассказывали, будто мальчик пропал. И что, кажется, умер он. Убил себя сам.
Слышать это было откровенно дико, да и попросту не вязался образ вечно хмурого наставника с представлениями о родителе, плохом ли, хорошем ли – неважно. Дитя ведь может на свет появиться, лишь если и отец, и мать того желают; искренне любят, что важнее.
Леголасу, как ни глупо, сложно было представить, что Айнон действительно мог любить кого вот так. И вообще любить.
Он еще будто бы слышал о том, что жена наставника ушла на Запад, словно бы не сумев оправиться после некого происшествия, оставив мужа. А теперь, как выяснилось, и своего сына.
Осознание этого вызывало смятение. И понимание. Леголас чуть кривиться от очередного укола боли в висках. Они с Айноном никогда не были особо близки; принц был довольно раздражающим ребенком и прекрасно то осознавал; Айнон же предпочитал книги обществу собратьев и прочих живых существ.
Они скорее терпели друг друга, смирившись с тем, что иного не дано; каким-то образом умудрившись даже чуть привязаться эмоционально. Понять причины внезапной выходки наставника не составляло труда, и это успокаивало.
Леголас не хотел бы и дальше метаться в сомнениях, силясь отыскать подвох, понять, в чем здесь может быть выгода для Айнона. Он готов был поверить в попытку наставника привязать его к себе, заручившись невольно появившимся доверием и признательностью.
Принц тихо вздыхает, прислоняясь лбом к холодному стеклу окна. В лучах солнца недавно выпавший снег, пуховым одеялом накрывший лес, отливает перламутром, иногда на мгновение вспыхивая золотыми звездами-кристаллами.
Внутри внезапно зарождается мучительное желание оказаться там, по ту сторону стекла, твердо стоя ногами на покрытой морозными узорами темной земле, чуть припорошенной снегом, полной грудью вдыхая колючий ледяной воздух с тонким ароматом хвои.
И, почему бы ему не последовать этой несомненно бредовой, глупой и легкомысленной, но такой манящей идее?
***
Снег тихо поскрипывает под ногами, ветер бьет в лицо, спутывая волосы, и Леголас чуть улыбается, чувствуя себя впервые за чудовищно долгий срок абсолютно счастливым. Или же, скорее всего, спокойным.
А спокойствие, безмятежность, ощущение полной защищенности – это то, что для него сейчас было настоящим счастьем.
Пробраться мимо стражи удалось на удивление без помех, и Леголас непременно обеспокоился бы: слишком уж легко это вышло у прослывшего безумным принца, которого, к тому же, король приказал ни на миг не оставлять без внимания.
Контроль, неусыпный, всеохватывающий, – именно так отец предпочитал справляться с проблемами в большинстве случаев. Не контроль – так подавление. Или уничтожение.
Леголас устало проводит рукой по лицу, заправляет волосы за ухо и в который раз тихо вздыхает, прежде чем вновь двинуться с места.
Отец. Любимый-ненавистный отец, последний родной эльф во всем мире. Тот, кто стал причиной его… смерти и, кажется, уже дважды тем, кто от нее спас. И тот, кто до сих пор так и не удосужился снизойти до простого разговора, столь необходимого им обоим.
По правде говоря, Леголас даже был рад этому: разговоры он не слишком любил, а от одного воспоминания о любой беседе с отцом, – и том, чем это обычно заканчивалось, – его бросало в жар. Но им нужно поговорить, во что бы в итоге эта затея ни вылилась. Глупо оттягивать неизбежное, а в том, что отец никогда не позволит ему забыть о произошедшем вот так просто, Леголас был точно уверен.
Он на мгновение прикрывает глаза, со свистом втягивая воздух в попытке успокоить беспорядочный рой мыслей в голове. Воздух по-зимнему холоден, странно колюч и отдает еле заметным запахом смолы.
Леголас чуть усмехается мысли, что слишком много времени прошло с последней его зимы, встреченной в достаточно ясном сознании, чтобы заметить смену времен года, и теперь он отчего-то поражается самым обыкновенным вещам.
В детстве он, помнится, не слишком любил зиму. Вечный мороз, колючие шарфы, особой нужды в которых не было, непременно чересчур горячий, обжигающий язык и горло чай, вкус которого терялся за ужасающим жаром, и противный мокрый снег, забивающий глаза и рот.
Не сказать, что Леголас и сейчас проникся к этому времени года особенно теплой любовью – нет, куда уж там; он лишь смог увидеть зимнюю красоту, упускаемую им вида слишком уж часто.
Зима была красива по-настоящему: красивы были морозные узоры, медленно кружащиеся в танце снежинки, стеклянная синеватая корка льда. Леголас не мог не восхищаться этим, пусть и никогда не находил в себе тяги к искусству, столь обычной для большинства своих собратьев.
Из него вышел отвратительный художник, никудышный мастер, да и петь он не слишком любил; про попытки же играть на арфе лучше бы было и не вспоминать. Но это не мешало испытывать ему настоящий, почти сверхъестественный трепет пред чем-то настолько прекрасным и великим.
Не нужно быть творцом, чтобы оценить чужой шедевр; не нужно быть живописцем, чтобы разглядеть мельчайшие детали красивейшей картины, созданной кем-то еще более гениальным, чем Леголас когда-либо мог бы представить.
Эру, валар, майар… Он знал о них все, что знать положено, но углубляться не решался никогда, не желая запутаться. Слишком сложно было уложить в голове нечто настолько… необъятное. Великое.
Леголас хмыкает, рассеянно задавая себе вопрос, как только умудрился дойти до этой темы. Это определенно не то, над чем он хотел бы ломать голову – лучше просто уложить в разуме на ровных полочках общеизвестные и устоявшиеся факты.
Он делает еще несколько шагов вперед, быстрым шагом пересекает пустующую опушку и спокойно выдыхает только вновь очутившись под тяжелыми кронами деревьев. И тут же замирает, ощутив странный укол предчувствия. Он здесь не один.
– Попался, – шепчет до ужаса родной насмешливый голос на ухо.
Леголас вздрагивает, резко разворачиваясь, чтобы спустя миг столкнуться нос к носу с кисло ухмыляющимся отцом. Принц гулко выдыхает, быстро моргает в попытке скрыть изумление.
Отец стоит напротив, сложив руки на груди и склонив голову набок. Трандуил глядит на него со странной смесью раздражения, усталости и безнадежности, и Леголас невольно пятится назад, пораженный столь явным проявлением эмоций – отец будто бы даже не думает о том, что выглядит сейчас до ужасного просто. Он открыт, полностью открыт, и Леголас, как ни старается, не может разглядеть и намека на фальшь.
– Adar nin, – робко произносит Леголас в ответ, не уверенный до конца, позволено ли ему обращаться так к отцу после всего произошедшего.
Тот на это лишь щурится, окидывая сына с ног до макушки долгим внимательным взглядом.
– Я помешал твоему побегу? – со странной интонацией вопрошает король наконец, и Леголас широко распахивает глаза, ощущая, как кровь приливает к щекам. Это что сейчас происходит?
Отец никогда, – вообще никогда, – не вел себя вот так, не говорил вот так – с какой-то непонятной добродушной насмешкой, отвратительно слащаво. Как с глупым, ничего не понимающим ребенком.
Но отец, при всех своих… не самых приятных чертах характера, так никогда не разговаривал, предпочитая либо вести разговор, давая собеседнику ложное ощущение равенства, либо резко обозначая дистанцию и ярко показывая собственное превосходство.
Adar мог называть его глупым дитя, но всегда требовал, чтобы Леголас в свою очередь вел себя иначе, принимая полную ответственность за все действия и не пытаясь прикрыться возрастом. Так было правильно, пусть и чуть жестко.
Если уж решил играть в игры взрослых – иди до конца, не ожидая поблажек. Отец всегда твердо придерживался именно этой линии поведения, и наверняка знал, что сам Леголас это осознавал не менее четко.
Сейчас же было иначе. Король не называл его ребенком, он говорил с ним как с неразумным малолетним эльфенком, снисходительно, небрежно, нарочито ласково.
И хотел бы Леголас сказать, что это – злило, но, по правде говоря, он лишь чувствах себя потерянным. Запутавшимся в липких нитях чужой паутины. Это обескураживало, заставляя на пару мгновений даже потерять дар речи.
– Я не сбегал, – неуверенно произносит он, будто сомневаясь, делал ли это на самом деле или все же нет.
– Вот как, – обманчиво мягким тоном произносит король, но по твердому взгляду Леголас понимает, что тот не поверил ему. – И что же, позволь спросить, ты здесь тогда делаешь?
– Прогуляться решил, – фыркает Леголас, нервно улыбаясь. – На закат посмотреть…
– На закат, значит, – сухо повторяет Трандуил, чуть морщась. – Какое совпадение. Я вот тоже прогуляться хотел, посмотреть… На закат. Раз уж так все удачно сложилось, не будешь против, если я составлю тебе компанию?
– Конечно, нет, – сквозь зубы цедит Леголас, явственно ощущая дежавю. Опять? Если все вновь закончится привычным для них обоих финалом, Леголас даже удивлен не будет – слишком уж все это банально.
Банальное, типичное начало, а после банальный, но оттого не менее горький финал – все, как всегда. Глупо с его стороны было ожидать, что что-то да изменится.
– Прекрати, – вдруг раздраженно произносит Трандуил, и Леголас моргает, силясь понять, когда тот успел подойти так близко. – Я буквально слышу, как в твоей голове появляются мысли одна другой ужаснее. Этого не будет, Леголас.
Последних слов ему достаточно, чтобы наконец взорваться.
– Не будет?! Не будет чего, разрешите спросить? – шипит Леголас сквозь зубы, уже не заботясь о том, как же по-детски запальчиво звучит. Плевать. – То есть сейчас вы не скажете в очередной раз, как разочарованы во мне и как сильно ненавидите?
– Не попытаетесь надавить на самое больное, просто забавы ради, потому что вам нравится; причинять мне боль? Не скажете мне после убираться вон, не выкинете как побитого щенка, сломанную и оттого никому ненужную куклу? О, нет, не говорите мне, что не сделаете этого, потому что я вам не поверю!
– Леголас, хватит, я могу…
Кажется, отец хочет еще что-то сказать, но Леголас обрывает его на полуслове, зная, что физически не способен этого вынести. Конечно, аdar опять скажет нечто тошнотворно правильное и разумное на первый взгляд, заставляя его самого почувствовать себя маленьким дитя, имевшим глупость ослушаться мудрого родителя.
Отец убедит его. И сейчас Леголас не хотел этого.
– Нет, это вы – хватит! Слышать больше ничего не желаю! Как вы только можете делать вид, что у нас все в порядке, хорошо-расчудесно, что ничего не произошло?!
На лице отца на миг проскальзывает тень горечи и смятение, прежде чем оно вновь возвращает себе привычное равнодушное выражение. Слова попали точно в цель, и Леголас испытывает некое мрачное удовольствие, в полной мере этим наслаждаясь.
– У нас ничего не в порядке, отец, и больше никогда не будет, – устало произносит он наконец. – Вы причиняли мне боль. Вы бросили меня именно в тот момент, когда я нуждался в вас больше всего на свете, бросили, просто ушли, помните такое?
– Как после всего этого, после столетий, проклятых тысячелетий проведенных в кромешном мраке, утопая в боли, причиненной вами, вы вообще можете думать, что сейчас у нас может быть все в порядке?
Трандуил молчит долгие несколько мгновений, пристально вглядываясь в его раскрасневшееся лицо, прежде чем задать наконец вопрос, услышать который Леголас был действительно не готов:
– Ты ненавидишь меня? – спрашивает он каким-то бесцветным, серым голосом, и Леголас отшатывается назад.
Ненавидит?
– Я… Я не знаю, – растерянно произносит принц, широко распахнув глаза. – Правда не знаю. Хотел бы я сказать, что ненавижу вас, потому что я, Моргот возьми, имею на это полное право и вы знаете это. Но я не могу, просто не могу.
– Вы ведь мой отец, а значит я должен любить вас и почитать, пусть сами мысли о том мне глубоко противны; но в то же время, я должен ненавидеть вас за все то, что вы сделали. И я не знаю… – Леголас потерянно глядит на неподвижную фигуру отца напротив, ощущая, как весь привычный мир трещит по швам. Почему? Почему все так ужасающе сложно?…
– Я запутался. Просто запутался, понимаешь? Я не знаю, ненавижу ли тебя, или вовсе люблю; не знаю, хочу ли жить или все еще желаю умереть; не знаю, что должен делать дальше, не знаю… Да я ничего не знаю, по правде говоря! Я хочу, больше всего на свете хочу вернуться в прошлое, когда все было хорошо, хочу, чтобы ты снова любил меня, хочу обратно своего доброго аda, хочу чтобы не было больше никаких проблем и сложностей…
– Но одновременно с этим хочу, чтобы ты ненавидел меня и дальше, потому что просто не понимаю, что я должен был бы делать с твоей любовью; хочу, чтобы этот кошмар наяву продолжался, потому что хоть так я понимаю, что я жив на самом деле…
– Хочу, чтобы продолжалась война, хочу, чтобы она и не заканчивалась никогда, и плевать мне как это по-детски, как эгоистично, потому что только так я кому-то действительно нужен, только так я не ощущаю себя бесполезным, понимаешь? Но я все еще не знаю, хочу ли жить или мне стоит умереть. Я запутался, пап. Просто запутался и ничего не понимаю…
Леголас выдыхает, обхватывая себя за плечи. Валар, почему же все так сложно? Почему так сложно понять, что происходит в собственной голове; чего ты хочешь на самом деле?
Понять, о чем же думает сейчас отец, прожигающий его немигающим взглядом, почему так хмурится, почему его сердце стучит так оглушительно громко?…
А после Трандуил делает быстрый шаг вперед, резко притягивая его к груди и обнимая.
Леголас замирает на мгновение, пытаясь понять, не спит ли он. Неужто очередная игра больного воображения? Эру, это… странно. И даже немного страшно.
Но отец теплый, его сердце по-прежнему чудовищно громко бьется, а волосы пахнут диковиной смесью запахов рябины, мороза и хвои. И тогда Леголасу не остается другого выхода, кроме как принять, что это – не сон, а реальность.
– Сейчас все не в порядке, я знаю, – тихо произносит отец, похоже, даже не думая о том, чтобы отстраниться, и Леголас с неловким удивлением отмечает, как же это, Моргот возьми, приятно. Его маленькое счастье, состоящее лишь из чувства защищенности и полного спокойствия. – Но что я могу сделать, чтобы помочь тебе?
– Назови мне причины, чтобы жить. Скажи, прошу, скажи хоть одну, любую совершенно, а я… я же попытаюсь понять.
Настоящее счастье. Быть может, даже чуть длиннее вечности.
– Я назову тебе сотню, дитя мое. Клянусь.