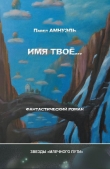Текст книги "Имя твое (СИ)"
Автор книги: Minotavros
Жанры:
Слеш
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
– Глеб… Ты ведь меня починишь? Я смогу потом танцевать?
– Конечно, сможешь! Что за упаднические настроения!
– Понимаешь, если сейчас не вернусь в строй – считай, вся карьера псу под хвост. Там, следом за мной, туева куча юных дарований. И все жаждут славы.
– А ты не жаждешь?
Какое-то время он молчит, потом все-таки отвечает:
– Слава – это иллюзия, Глеб. Глупая чертова иллюзия для наивных дурачков. Или просто я вопиюще бездарен.
Вспоминаю, как он взлетал над сценой заштатного ДК под «Барселону», и накрываю его руку своей.
– Поверь мне, ты вовсе не бездарен.
– Я очень хочу поверить, знаешь? По сути, мне больше ничего не остается, кроме как верить тебе. – И тут же, без перехода: – Будешь меня оперировать?
– Буду. А ты хочешь, чтобы именно я?..
– Сестры говорят, ты лучший.
Вот такие пирожки с котятами… У каждого из нас своя минута славы. И своя расплата за эту минуту.
– Я постараюсь, Саша.
Светлый, очень серьезный взгляд – в упор.
– Ты уж постарайся.
Собственно, на этом наш разговор можно считать законченным, но мы еще перебрасываемся несколькими ничего не значащими фразами из серии «о природе, о погоде», а потом он решается спросить:
– Когда операция?
– Послезавтра. Ты тут морально готовься, что ли.
Саша улыбается в ответ – мой стойкий оловянный солдатик:
– Всегда готов!
*
Во время операции руки у меня не дрожат. Все-таки правы те, кто говорят, что, мол, профессионализм не пропьешь и… гхм… не протрахаешь. На самом деле я запретил себе думать, что это – Саша. Просто очередной пациент, очередная сломанная кость, очередная операция. Рутина.
Главное – заранее все продумать и просчитать. Нарисовать себе схему. Проверить наличие инструментов. А то в прошлый раз куда-то задевалось страшно нужное сверло. Пришлось на ходу импровизировать. Импровизация движет медицину вперед, она штука довольно прикольная. Но не сейчас. Не с Сашей. Поэтому лично проверяю все сам, вызывая обиженный взгляд ассистирующей медсестры с красивым именем Мария. Дескать, недоверие и все такое. Она тоже специалист со стажем, но… лучше я потом извинюсь.
Саша улыбается мне молча, и от того, что его улыбка выглядит испуганно и неловко, у меня на миг холодеет где-то в районе сердца. Решительно запрещаю себе смотреть куда-то помимо операционного поля. Вообще, зря я так рано пришел. Мое дело войти, когда все будет готово, и сделать, как надо. Но это Саша. Где там в моей дурной голове положение «выкл.»?
Надеюсь только, что это как раз тот случай, когда рутина мне в помощь.
Помыть руки. Обработать. Затем – халат и перчатки. Анестезиологи уже при деле. У нас отличные анестезиологи. Просто замечательные! И наркоз, введенный в позвоночник, не обернется для Саши вечным параличом. Я должен в это верить. Обязан. И я верю. Саша… Не смотреть! Только на ногу. Ноги у всех одинаковые. Или нет?.. В ближайшее время я просто обязан думать именно так. Только так. Не человек – нога. Нога зафиксирована и лежит на управляемом турникете. На переднюю часть стопы надели стерильную хирургическую перчатку. Все, готов. Можем начинать.
Как там сказал первый советский космонавт Юрий Гагарин? «Поехали!»?
Дальше – как во сне. В таком странном, мутном сне, где ты бесконечно повторяешь одни и те же давно набившие оскомину действия – и никак не можешь проснуться. Разрезаю. Прижигаю. Убираю гематому. Вправляю перелом.
Ассистирует мне Толян. (Для кого Толян, а для кого и Анатолий Борисович, отличный хирург, уважаемый специалист. Пытались мне нынче в ассистенты кого-то из студентов-шестикурсников навязать, но я не дался. Сашина нога – не поле для экспериментов.) Сверлю отверстия. Каждый раз странное ощущение, точно делаешь на даче ремонт.
Дальше и вовсе похоже на детский конструктор. (У меня был такой: металлические пластины с дырками для соединительных шурупов. Отличная штука, скажу я вам!) Пластина с шестью отверстиями накладывается на поверхность кости. Пока Толян удерживает пластину, моя задача – вкрутить винты. Затягивать их следует медленно, при тщательном контроле промежутка между отломками кости.
Нужно вернуть стабильность лодыжке. Беру таранно-малоберцовый синдесмозный винт (Наши мужики, кстати, таким образом проверяют степень опьянения: если можешь бодро, не путая слова, несколько раз проговорить на скорости: «Таранно-малоберцовый синдесмозный винт. Таранно-малоберцовый синдесмозный винт. Таранно-малоберцовый синдесмозный винт», – значит, связь с реальностью еще не утрачена. Не можешь – пора закругляться. Хороший метод. Точный.) и вкручиваю его через пластину. Потом через шесть недель я этот винт удалю.
Сшиваю связки. Активный дренаж. Внутренние и наружные швы. Потом еще и гипс наложат. Но это – потом, после. Совсем уже мелочи.
– Всем спасибо!
Это просто работа, да?
Если сегодня я все сделал правильно, то Саша будет танцевать. Правда, есть еще такая штука, как реабилитационный период.
*
На следующий день Саша не спрашивает меня, насколько удачно прошла операция. Улыбается, сверкая зубами, шутит. Я говорю, что все хорошо. Он отвечает, что верит. Но я знаю: просто делает вид. Может, на сцене он и талантливый актер (хотя, как мне кажется, балет и драма – все же слишком разные грани сценического таланта), но здесь и сейчас я ему не верю. Саше страшно. И я изо всех сил пытаюсь уменьшить этот страх. Не изгнать, нет. «Вся королевская конница, вся королевская рать», подозреваю, нынче не справятся с этим непростым заданием.
А я… Я просто прихожу, сажусь на край кровати и говорю. Про то, как прошла операция. Сколько подобных операций мы проводим за год. (Мно-о-о-го!) Как люди после этого возвращаются к привычной жизни. (Был, кстати, даже один фигурист. Обойдемся без имен. Так он, выйдя от нас, потом даже Олимпиаду выиграл. То-то же!) Вспоминаю смешные случаи из практики. («Однажды медсестра подвинула стойку с капельницей, а бутылка с нее сорвалась и упала прямо на голову пациенту. Хорошо, он успел ее поймать».)
Кроме меня Сашу никто не посещает. В первый день после того, как его к нам доставили, была довольно большая компания – видимо, коллеги. Они ушли, а Саша потом до ночи лежал, уткнувшись лицом в стену. Когда я все же до него докопался по поводу данного приступа скорби (о ноге он, конечно, тоже переживал, но не столь… драматично), ответил:
– Они уезжают завтра. Понимаешь? И мою партию будет танцевать Артурчик из второго состава. Незаменимых нет. Или как там? «Лес рубят – щепки летят»? Похоже, что я – та самая щепка.
Я уверяю его, что он – не щепка, а птица, что он вернется на сцену и все будет хорошо. Что он снова сможет летать.
Он кивает.
Я чувствую, что на сей раз уже он мне не верит. Значит, буду верить я – за нас двоих. Хотя и принято считать врачей жуткими циниками, которые «ни в бога ни в черта», но на самом деле у нас без веры в конечный результат никак нельзя.
Я уже планирую, что предложу ему пожить у меня после операции. Подыщу ему самого лучшего в Питере врача-физиотерапевта. (Есть у меня несколько подходящих кандидатур в записной книжке.)
Мне ничего от него не надо. Только бы он был рядом, только бы он снова смог выйти на сцену. Только бы… только бы… Нет, неправда! На самом деле я почти до боли хочу возможности своего присутствия в его судьбе. Рядом, если не вместе. Стать неотъемлемой частью его жизни. Ждать его дома и готовить ужин к его приходу. (Интересно, эти, которые танцуют, они что-нибудь да едят?) Касаться его руками врача, если нельзя – любовника. И однажды… может быть… увидеть, как растает лед, сковывающий его сердце. (Или не увидеть, да. Иногда мне кажется, что это совершенно не важно.)
– Пойдем погуляем.
– Издеваешься? Я сегодня ночью в сортир поперся. Герой, че, на костылях. И, конечно, навернулся от души. Грохоту было! Больше всего испугался, что снова ногу покалечу. Нянечки в ужасе сбежались… А ты говоришь «погуляем»…
Про ночной «шум» я знаю – уже доложили добрые люди. Но все равно: лежать и не двигаться при проблемах с конечностями – последнее дело. Мышцы совсем забудут, на кой они нужны. Да и до осложнений с легкими можно долежаться. Поэтому я безжалостен:
– Гулять ты будешь при свете дня. Со мной в качестве страховки. Поверь, я не дам тебе навернуться.
Если бы потребовалось, я бы носил его на руках. По роду деятельности я сильный. А Саша… Саша и прежде был похож на гордую, длинноногую и длиннокрылую птицу, а уж сейчас, когда он почти ничего не ест, и вовсе – кожа да кости. А косточки у него изящные и хрупкие (чтоб им!). Птичьи.
Но катание на руках Саше нынче не прописано, а прописано совсем наоборот. И я не оставлю его в покое, пока он не сдастся. Если надо, я могу быть жутким занудой.
– Ладно, – соглашается наконец Саша. – Черт с тобой! Пойдем.
И мы идем. Вернее, медленно тащимся по скользкому линолеуму освещенного солнцем коридора. Я всей своей дубленой шкурой ощущаю Сашин страх, его ужас при мысли о возможности падения. Мне даже кажется, что от болезненно острого сопереживания короткие волоски у меня на загривке отчаянно встают дыбом. Но я не протягиваю руки, чтобы поддержать ковыляющего на своих костылях Сашу. Он должен научиться ходить один. А я… Я буду рядом.
И, кстати, нам пора поговорить.
– Послушай… – начинаю я, осознавая вдруг, что где-то по дороге растерял все слова. – Что ты планируешь делать после больницы?
– Вернусь в Москву? – отвечает он с отчетливой интонацией вопроса.
– Первое время придется непросто. У тебя есть кому за тобой присмотреть?
Кажется, если он сейчас скажет: «Есть», – я попросту сдохну на месте.
– Зачем? – ершисто отзывается мое сердце. – Я и сам справлюсь. Справлялся же до сих пор.
Похоже, мне будет позволено еще чуть-чуть пожить.
– До сих пор у тебя было целых две ноги.
– К маме поеду. Все равно это ненадолго. Подумаешь!
Саша топорщит свои иголки-колючки, точно кактус, забытый хозяином в покинутом доме, а мне хочется сказать ему: «Я стану для тебя мамой, сиделкой, ковриком под ногами. Ты больше никогда не будешь один». И я уже открываю рот, чтобы брякнуть какую-нибудь несусветную глупость, когда сзади раздается:
– Глеб! Старостин! А я тебя ищу-ищу.
Такая уж у нас с Илюшкой жизнь: мы все время друг друга ищем в бесконечных коридорах нашей больницы. Илья – рентгенолог. Отличный, кстати, рентгенолог. А еще – мой друг. И по совместительству – любовник. А что еще остается делать двум женатым на своей работе геям на этой холодной, неласковой питерской земле, если совершенно нет времени шататься по клубам и заводить новые знакомства? Мы оба знаем: это не любовь. Но вместе нам хорошо, тепло и… удобно.
– А я тебе снимки принес. Ты просил побыстрее.
Очевидно, что ему нет ровно никакой необходимости лично таскать снимки со второго этажа на четвертый. Да и срочности, по правде сказать, тоже нет никакой. Просто мужик соскучился. Свиданий у нас не было… Да вот с тех самых пор, как в отделение привезли упавшего на сцене танцовщика.
– Извини, – говорю я Саше и отвожу Илью к окошку, чтобы якобы взглянуть на рентгеновские снимки, которые он и впрямь сжимает своими изысканно-тонкими пальцами, словно главное и единственное оправдание… всего.
– Глебушка… – жаркий шепот почти мне в ухо. – Ты куда-то пропал…
– А позвонить? – не слишком-то ласково отзываюсь я. Да, мой косяк: надо было раньше как-то разрубить этот чертов гордиев узел. Но… То ли времени не хватило, то ли решимости. Любовника потерять не страшно, когда есть ради чего. Ради кого. Но вот друга…
– Как будто у тебя когда-нибудь бывает включен телефон! Опять горишь на работе? – усмехается Илья. Мне всегда нравилась эта его улыбка: открытая, солнечная. Мальчишеская. – Нет уж, мы лучше ножками-ножками. Ручками-ручками… – его ладонь как бы невзначай оглаживает мой халат со спины – и чуть ниже. Привычным ласкающим жестом. Никого вокруг нет, никто не увидит.
Никто. Кроме Саши. Впрочем, он тоже не увидит, если не будет смотреть. А он ведь не будет? Ему ведь все равно? Он вообще-то собирается к себе в Москву.
Делаю несколько шагов в сторону от Ильи и оглядываюсь через плечо: так и есть, Саше на нас глубоко наплевать. Внимательно изучает висящую на стене инструкцию по эвакуации в случае пожара. Ну и ладненько!
– Я позвоню тебе. Сегодня. Обещаю.
Раз взглянув на Сашу, я уже не могу оторвать глаз. Мне хочется, чтобы Илья ушел. Чтобы его не было здесь со мной. Может быть, даже, чтобы его вообще никогда не было.
– Ловлю на слове, Старостин. Не обмани моих ожиданий.
– А то ты меня не знаешь!
Он смотрит как-то странно, словно предчувствует все, что произойдет между нами в дальнейшем. Дружба там или любовь – а резать по живому всегда больно. Даже если ты профессиональный хирург.
– Что, пойдем дальше? – спрашиваю я у Саши, когда Илья скрывается за дверью отделения.
– Отчего же не пойти? – легкомысленно вздергивает подбородок Саша, поудобнее ухватывая костыли.
И мы продолжаем свой неспешный путь по освещенному солнцем коридору.
Вечером звоню Илье, и мне приятным женским голосом сообщают, что «телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Я несколько раз повторно набираю знакомый номер, но результат остается прежним.
Назавтра мы снова гуляем с Сашей по коридору и треплемся ни о чем. Только вот именно мне почему-то тяжело дается прогулка: суставы ноют, голова раскалывается. К вечеру становится понятно: ОРВИ. Меня трясет. Температура – за сорок. Всегда так болею – с самого детства. Разумеется, перенести на ногах – не выход. Да и не тащить же проклятущую заразу в отделение! И так страшно: вдруг успел кого-то из пациентов обчихать: Кого-то?.. Врача вызываю на дом. С остальным разбирается примчавшаяся на зов мама. Я медленно уплываю, как та бригантина, что поднимает паруса «в флибустьерском дальнем синем море». Прости, Саша…
А через неделю, когда, наконец, бешено поздоровев и получив о том соответствующий документ, я залетаю в Сашину палату, чтобы привычно сопровождать его на очередную прогулку, мне сообщают, что он уехал.
– Как уехал?! – почти ору я на собственного завотделения, напрочь позабыв про всяческую субординацию.
– Выписался и отбыл, – спокойно отзывается тот. Он вообще мужик спокойный. Работа у хирургов нервная, график напряженный. Подумаешь, у кого-то из подчиненных опять крышу снесло…
– Куда отбыл? И когда? – уже чуть тише спрашиваю я. В самом деле, чего теперь орать-то?
– Вчера вечером. А куда – вот уж не знаю. Домой. Мама за ним приехала. Она и забрала. Ты на больничном был, а они на поезд торопились. Так я им все документы оформил и рекомендации написал. Глеб, у тебя все в порядке?
– Все в порядке, спасибо, – киваю я. Сердце – точно надувной резиновый шарик, из которого какой-то шутник выпустил воздух, ткнув в него тонкой блестящей иглой. Или кинув глупую игрушку на кактус. Но до этого, собственно, никому нет никакого дела. Даже мне.
========== 3. ==========
*
В Екатеринбург – город Демидовских заводов, барда Александра Новикова (ранние песни которого еще со студенческой юности почему-то преданно любит отец, так что детство мое, считай, прошло под «Помнишь, девочка» и «Город древний»), сказов Бажова и расстрела царской семьи – я еду на конференцию. Вернее, меня туда бессовестно выталкивает начальство со словами:
– Тебе для диссертации полезно. Заодно и статью в тезисах опубликуют.
На мое трепыхание по поводу запланированных на месяц вперед операций получаю жесткий ответ:
– Не рухнет без тебя отечественная медицина. У нас, как известно, незаменимых нет.
Еду в поезде и думаю: насчет незаменимых – это утешение или угроза? Впрочем, думаю я в поезде мало – в основном сплю. «Современная медицина: традиции и инновации» – звучит гордо. Наверное, надо переживать, готовиться, судорожно повторять тезисы доклада. А я сплю как сурок. Ну… иногда ем и посещаю туалет. Попутчики под кожу не лезут – чего связываться с сонным овощем? Не храпит – и ладно.
Гостиница, в которой нас разместили, оказывается довольно простенькой – ну так никто и не ожидал малахитовых палат. Номер на двоих я делю с немолодым реаниматологом из Уфы. Хороший мужик, душевный, каждый вечер предлагает пойти куда-нибудь выпить, посидеть, пообщаться. Я не иду. Отшучиваюсь, травлю анекдоты про здоровый образ жизни – и не иду. В последние годы я чувствую себя стариком. «Мне ничего не надо, у меня все есть, спасибо, что заглянули».
Даже удачно сделанный доклад не вносит изменений в привычное состояние души. Ну… слушали. Ну… задавали вопросы. Визитками после обменивались. Причем среди визиток обнаружилось несколько с именами, перед которыми любой на моем месте как минимум должен был испытывать некий внутренний трепет, а как максимум – неизбывный пиетет. Да я и испытываю. Честное слово! Где-то глубоко внутри.
– Ты скучный! – шутит Ильдар Рашидович, старательно прыская на свою сияющую лысину какой-то запашистой гадостью. – Стоило тащиться из Питера, чтобы сидеть в номере!
– А разве Коран не запрещает пить? – ядовито уточняю я.
– Вино! – смеется он. – Про водку – ни слова. Пойдешь?
Отвечаю:
– Нет.
И держусь весьма стойко до самого последнего дня, когда мне строго говорят:
– Возражения не принимаются! Обида будет просто смертельной. Наши дамы никогда тебя не простят. Они велели обязательно привести «этого загадочного мальчика».
Большинству «наших дам», с которыми мы сошлись на конференции, общаясь в кулуарах после выступлений, «слегка за сорок», так что для них я, очевидно – «загадочный мальчик». Пустячок, а приятно. К тому же, туманно улыбаясь, в качестве развлечения мне обещают «нечто необычное».
Ха! «Необычное»! Честно сказать, я заинтригован. На «необычное» меня можно ловить, как рыбу на блесну. Да и четвертый вечер в номере – это уже явный перебор. И уезжать завтра. Авось, не успею нажраться и натворить каких-нибудь явных непотребств.
Хотя первое впечатление местечко, куда меня, нежно приобняв за плечи, волочет Ильдар Рашидович, производит довольно убогое. В принципе чуждое любым архитектурным канонам, кое-как, на скорую руку слепленное, расположенное во дворе, посреди квартала довольно облезлых жилых домов здание, половину которого занимает супермаркет, а половину – клуб с пафосным названием «Золотой дракон».
Когда сюрпризом оказывается некое «эротическое шоу» с громким названием «Пламя страсти», я едва не, образно выражаясь, «съедаю собственную шляпу». (Хотя оной у меня никогда в хозяйстве не водилось.)
Эротическое шоу!
– Стриптиз, что ли?
– Сам ты стриптиз, – обижаются дамы. – И вовсе не стриптиз! Там, знаешь, какой солист? Видел на входе афишу?
Не видел я никаких афиш. Не имею привычки читать надписи на заборах. «Пламя страсти»! В каком-то захудалом местном клубе с дурацким названием! (Если учесть, что я и в Питере завсегда предпочитаю клубам – родную филармонию. И можете уже начинать швырять в меня тухлыми помидорами!)
Чтобы никого не обижать своим чересчур эстетским подходом к делу, начинаю уделять пристальное внимание меню:
– Ну а кормят-то тут хоть вменяемо?
Оказывается, вполне. Так что я уже успеваю подкрепить свои угасшие силы и даже маленечко выпить, когда в зале слегка приглушают свет и по ушам ударяет музыка. Не та музыка, что до этого исполняла роль ненавязчивого фона, совсем другая. И я узнаю ее. Еще бы не узнать!
Барселона! Барселона!
А потом на сцену вылетает он – мой сон, мое наваждение. Саша. Я узнал бы его через сто закрытых дверей – только по короткому звуку сорванного дыхания. Но здесь нет ста дверей – вообще никаких дверей и преград! – только искрящийся напряжением воздух. А на Саше ни длинного, в пол, плаща с капюшоном, ни белой безликой венецианской маски – только на узких бедрах нечто, напоминающее золотые стринги. Так что воздух не просто искрит от напряжения, он переливается, будто всполохи северного сияния. Наши дамы (и не наши – тоже) втягивают животы и выпячивают груди, они все в этом, не таком уж маленьком, зале нацелены на него, на Сашу, словно стрелки многочисленных компасов – на Северный полюс. Мужики, кстати, тоже смотрят без отвращения. Но эти, скорее, с исследовательским интересом, будто на некий загадочный артефакт из серии: «Я бы никогда!»
– Отлично танцует парень! – бормочет рядом со мной уже порядком набравшийся не запрещенной Кораном водки круглолицый башкир Ильдар Рашидович, неплохой, кстати, судя по его докладу на конференции, реаниматолог.
Я киваю в ответ: Саша танцует отлично. Всегда – не только сегодня. Впрочем, сегодня это не совсем танец. Или совсем не танец. Слышали когда-нибудь выражение «чистый секс»? Вот сюда оно ложится как родное. Все – весь чертов зал! – видят перед собою страсть, воплощенную в танце. Даже мой стакан с недопитым коктейлем хочет человека на сцене до полного запотевания. И только я (вот это и называется профдеформацией!) чуть отстраненно отмечаю, что прыжки стали ниже и короче, чем были прежде, что из движений исчезла та божественная легкость, которая когда-то роднила моего Сашу с легконогими духами воздушной стихии. Дело вовсе не в эротике, а в больной ноге. Зачем ты сбежал от меня тогда, глупый мальчишка?
Мне хочется встать и уйти. Или напиться до бессознательного состояния. А что? Гостиница недалеко – доволокут. Но это трусость.
Потому я просто жду, когда замолкнут последние аккорды музыки («The Show must go on!» – предсказуемо!) и иду к сцене. Вообще-то, я иду к ней не один – к сцене рвется толпа. Можно сказать, именно она, точно волна, и несет меня к нему. К моему Саше. (Кажется, особенно восторженные фанатки даже размахивают некими денежными купюрами разнообразного достоинства. Фу! Куда они их собираются ему пихать, интересно? В золотые стринги или уж сразу – в задницу?) Кстати, из мужиков я в этой толпе не один. Хотя, наверное, трудно сейчас найти кого-то наглее и упорнее меня. Я – танк. Т-14. Страшная сила!
У сцены я – первый. И склонившийся в поклоне Саша смотрит мне прямо в глаза. Что бы ни случилось со мной в этой жизни, я всегда буду бесконечно благодарен судьбе за возможность встретиться снова. За взгляд. За…
Едва заметное движение подбородком – влево от сцены, на миг опущенные ресницы.
Хорошо. Я все понял.
Пусть шоу продолжается – а я отступаю в тень.
Стайка полураздетых девиц в перьях и блестках, выпорхнувшая на оставленную Сашей сцену, оставляет меня совершенно равнодушным.
Что у нас там, слева?
Хм… Туалет. Внезапно.
Делаю вид, что сосредоточенно мою руки, когда меня обнимают сзади, прижимаются всем телом.
– Глеб…
Этот хриплый выдох действует, как удар тока. Кажется, я просто хотел поговорить?
Дальнейшее воспринимается словно сквозь золотой туман. (Золотыми блестками все еще переливается Сашина кожа, расстегнутый ворот явно впопыхах накинутой и не до конца застегнутой белой рубашки, короткие, уложенные с помощью геля волосы. Так и не отрастил! Короткие волосы у Саши – это жестоко.)
Разворачиваюсь, обнимаю, вжимаю в себя. Саша в моих руках – точно птица или пойманный ветер. Мечется, рвется, сам не понимая, чего ему хочется больше: обхватить или оттолкнуть.
– Как-то не так я представлял себе наш первый раз… – бормочет он, выгибаясь под моими довольно откровенными ласками. – Не в общественном сортире.
Из всего сказанного мой затуманенный желанием мозг выхватывает только «представлял». Он представлял! А уж как я представлял!..
Жадно смотрю на его запрокинутое лицо с полузакрытыми глазами и тенью ресниц на острых скулах. (Или это просто размазанный к концу вечера грим? Плевать! Плевать!) На длинную шею с трогательно выпирающим кадыком. Вот откуда в моей безумной голове это «трогательно»? Взрослый мужик «в районе тридцати», светлая щетина, пробивающаяся к вечеру на подбородке, и… кадык. Трогательный. Откуда?
Плюю на все условности и осторожно трогаю напряженную шею губами. Тот самый трогательный кадык. Что там наш первый раз?! Я и первый поцелуй с ним представлял как-то совсем не так. Поцелуй – это ведь в губы?.. Плевать!
Кожа под моим языком гладкая, солено-горькая от пота, кадык дергается. Саша тихо выдыхает сквозь зубы:
– Блядь!
Интересно: это междометье или оценка чьей-то роли в сложившейся ситуации?
Я выпускаю его, из последних сил швыряю свое непослушное тело к ближайшей раковине. На полную мощность врубаю холодную воду, горстями плещу ее в свое пылающее лицо и даже удивляюсь, что не слышу шипения, как при попадании капель на раскаленную сковородку.
– Глеб… Что происходит?
– Какого черта ты все время сбегаешь от меня, а? Бросаешь, как новорожденного котенка в мусорный бак, а сам отправляешься крутить задницей перед… перед… этими?!
– Я не бросал тебя!
– Да-а?! Забыть так скоро! Может, ты мне свой телефон оставил, а я не заметил?
– А ты… ты…
Закушенные губы, почти белые от ярости (или от какой-то иной, до боли похожей на нее эмоции) глаза.
– Что?
– Ты меня даже ни разу не… Ты… только смотришь! Гад!
– Я – гад?! Ты сам сказал, что тебя это не интересует! Что, я, по-твоему, насильник?!
– Когда это я сказал?!
Мы уже, не сдерживаясь, орем друг на друга. Хорошо хоть на наше счастье в туалет никто не заходит. То-то была бы картина! Маслом.
Отвечаю на его вопрос тихо, почти устало:
– Тогда. Не помнишь? Ты сказал, что асексуал. Объяснить тебе термин?
Внезапная быстрая, словно виноватая, но все равно исполненная какого-то сдержанного лукавства, улыбка:
– Я солгал.
В это мгновение мне хочется его убить. Я даже прячу руки в карманы – от греха подальше. С-сука!
– Мне тогда казалось, это весело.
– Весело?! Весело?! Вся моя жизнь…
Снова плещу в лицо водой. Лед по льду. Прямо чувствую, как тонкая корка вечной мерзлоты обволакивает сердце.
– Глеб…
– Иди к черту!
Промакиваю лицо куском бумажного полотенца, затем зачем-то долго тру ладонями. Черт! Пора заканчивать с этим никому не нужным наваждением. Бросил же я курить!..
– Глеб!..
– Ладно, Саш. Приятно было встретиться. Прости, что… так. Мне завтра на поезд с утра. Возвращаюсь в Питер.
– Поезд в Питер отходит в шесть часов вечера. Хоть ты-то не ври. Тебе не идет.
– Значит, самолет улетает рано. Или пароход уплывает. Или я, словно Мэри Поппинс, на зонтике. Чего ты хочешь от меня теперь, Саша?
– Не уезжай.
– Не вижу никакого смысла. Ты опять ускользнешь – как тогда.
– Я… – он поднимает на меня глаза. Под ними – размазанный черный грим. Саша выглядит, будто грустный Пьеро – не хватает только нарисованной слезы на бледной щеке. – Я…
– Эй, мужики, – в туалет вваливается в умат пьяный парень в расхристанном пиджаке и ломится через нас к писсуарам, – пустите! Не дойду…
– Пойдем поговорим у меня в гримерке. Там сейчас никого – их номер, все на сцене.
– А о чем нам говорить? – пытаюсь я упираться под аккомпанемент бодрого журчания.
– О нас.
Ладно. Не сортирная тема. Особенно, если учесть, что никакого «мы» в природе не существует. Будем считать, мне просто светит внезапная экскурсия за кулисы шоу-бизнеса.
– Веди.
Похоже, Саша в здешнем заведении и впрямь – звезда. Гримерка у него – всего на три зеркала. Только два соседа. Красота! Никакой толпы народа и кучи девочек в блестках и с перьями.
– Выбирай любой! – взмах руки, указывающей мне на три придвинутых к гримировочным столикам стула, можно отливать в бронзе. Или в серебре – чтобы потом оно темнело от времени, покрываясь легкой вуалью благородной патины.
Сажусь на ближайший. Мне все равно. «Почаще повторяй это себе, Глебушка! Почаще».
– Я видел тебя… с этим.
– С каким «этим»?
– Ну… с твоим. В больнице.
Внутренне вздрагиваю. Один разговор с Ильей – и нате вам! Потерянные годы.
– Это просто друг.
– Я видел, как он тебя… трогал. Друзья так не трогают. За задницу.
От Саши сыплются искры – точно от разозленного кота. И мне это почему-то приятно. Ревнует? Вот он… ревнует… меня? Уже полтора года не может забыть Илюшкиного совсем недружеского прикосновения? Вернувшись домой, подарю бывшему любовнику бутылку настоящей текилы, купить которую сам он дико жмотится. Почему бывшему? Потому что мы с ним все-таки тогда расстались, хоть он и бегал от меня пару недель – оттягивал окончательный вердикт. Хорошо, хоть дружбу каким-то чудом нам удалось сохранить.
– Вернешься со мной в Питер?
– Давай лучше ты просто меня трахнешь.
Сердце делает кувырок, точно гимнаст на трапеции. Вот и вся романтика.
Саша откидывается на выгнутую спинку своего стула (они тут все одинаковые), подтаскивает к груди согнутую в колене ногу и замирает, словно статуя, полуприкрыв глаза тяжелыми веками. Я могу смотреть на него вечно. Что бы ни изрекали упрямые, чуть скорбные губы, тело его совершенно – и я каждый раз жалею, что, выбрав профессию врача, отказался от возможности стать художником. Писал бы всю жизнь одну модель. Интересно, такое когда-нибудь было в истории искусств?
– Ну так что насчет трахнуть?
– Извини, – отвечаю я моей несбывшейся любви. – Извини. Но мне этого мало.
– В туалете ты казался вполне… готов.
– В туалете… – я встаю, подхожу к нему, касаюсь ладонью бледной щеки. Все равно бледной, даже несмотря на не слишком тщательно смытый грим, – в туалете я думал, что нужен тебе. И меня это слегка… дезориентировало.
Он хмыкает:
– Кто в наши дни употребляет слова типа «дезориентировало»?
– Не забывай, моя мама читает стихи в филармонии. Я с малолетства испорчен культурой.
– Значит, не будем трахаться?
– Не будем, – отвечаю я, осторожно целуя его чуть приоткрытый рот. Это прощальный поцелуй. Саша и сам так же однажды поцеловал меня перед тем, как вскочить в отходящий автобус. Мы – зеркала, отражающие друг друга. – Прощай.
Мои коллеги шумно веселятся в общем зале. Мой счет давно оплачен. У меня больше нет здесь долгов. Я забираю в гардеробе пальто и выхожу на улицу, оставляя позади свою любовь, свою мечту, свою юность. Своего Сашу. «Имя твое – птица в руке…» Мои руки не созданы для того, чтобы держать в ладонях птиц. Руки хирурга-ортопеда – это почти что руки мясника. Или, на худой конец, столяра. Приеду – займусь ремонтом на даче. Давно пора поменять обрешетку балкона.
В гостинице я не сплю, слоняюсь до утра по номеру, остро жалею, что однажды бросил курить.
Едва дождавшись, когда рассветет, сдаю номер, пью кофе в какой-то довольно паршивой забегаловке, затем – гуляю по центральному проспекту, названному так же, как и тысячи улиц в других городах – в честь вождя пролетарской революции. Добредаю до Исторического сквера, посещаю Картинную галерею с неизменным аттракционом для туристов – Каслинским павильоном, а потом тащусь в сторону вокзала. Когда я вхожу в него – на часах всего два, но больше развлечений на сегодня у меня не запланировано. Нахожу свободное место в зале ожидания и усаживаюсь ждать. Все логично, не так ли? Что-что, а ждать я умею. Можно сказать, успел стать практически чемпионом в этом виде спорта. Чего я ждал все эти годы? Да кто же меня знает! Не дождался. Теперь вот жду поезда. Подремать, что ли?