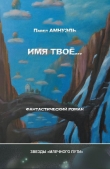Текст книги "Имя твое (СИ)"
Автор книги: Minotavros
Жанры:
Слеш
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
========== 1. ==========
*
У него голубые, почти прозрачные, точно весеннее небо Питера, глаза, надменный профиль, алые губы и шапка кудрявых, абсолютно золотых волос, напоминающих ангельский нимб. И имя…
– Меня зовут Саша.
– Вау!
– Свое имя я не люблю.
– Почему? Как у Блока!
Высокомерно вздергивая бровь:
– Так ты из этих… которые любят поэзию и… поэтов?
Пожимаю плечами. И чего тут стесняться?
– Да, я люблю поэзию. И поэтов. И да, я из «этих». – Несколько коротких вдохов даю ему на то, чтобы среагировать на достаточно откровенное признание, а когда не дожидаюсь ничего, добавляю: – У меня мама – чтица. Читает стихи в филармонии.
– У меня нет мамы, – совсем равнодушно роняет он. – Я сирота.
Во мне все сжимается от такой обнаженной откровенности.
– Прости.
– Я пошутил. Расслабься! Моя матушка – бухгалтер. Она ни черта не понимает в поэзии, зато в цифрах – настоящий ас.
Он снова подносит к губам сигарету и замолкает. Я тоже молчу – смотрю на него. Любуюсь. Если его не напрягает молчание, почему оно должно напрягать меня?
Есть люди, которые так и просятся на полотно. Или на листок бумаги – росчерком черной туши, как на портретах Анненкова. Или хотя бы на фотографию. Чтобы посетители выставки замирали возле их изображений, на миг забывая, в каком находятся времени.
Саша.
Он сидит на подоконнике и курит в форточку. Думаю, вовсе не потому, что всерьез заботится о здоровье окружающих. Просто ему отлично известно, как выглядит его профиль с поднесенной к алым грешным губам сигаретой на фоне серого питерского двора.
– Саша…
– Что?
– Ничего. Мне просто нравится твое имя.
– Зато фамилия у меня стандартная – Рабинович.
– Что, правда?
– Не. На самом деле, я – Львов.
– Царь зверей. Тебе идет.
– А ты, чучело?
М-да, неловко вышло. Его имя мне известно, а сам я такой – весь из себя загадочный аноним. Кстати, за «чучело» я на него не обижаюсь – внешность у меня самая что ни на есть заурядная: волосы темно-русые, глаза карие, нос картошкой, рост средний. Ничего особенного.
– А я Глеб Старостин.
– Богатый, должно быть, ты человек, Глеб, – делает он совершенно неожиданный вывод, равнодушно опуская длинные ресницы.
– С чего бы вдруг? – удивляюсь я. – Мама – в филармонии стихи читает, папа – лекции в техникуме студентам.
– Зато половина того, что названо в честь Бориса и Глеба – твоя, законная. Вот смотри: есть Борисоглебский переулок. Половина – твоя. Можешь выбирать тот дом, который больше понравится, и владеть. Борисоглебский монастырь? Да до хрена! Приезжай и селись в любой келье. Можешь и друзей веселую компашку захватить. Или вот город – Борисоглебск. Есть же такой?
Я, почти зачарованный полетом его фантазии, киваю:
– Есть.
– Ну! Говорю же – богач! Попробуй там баллотироваться в мэры. Обязательно пройдешь, зуб даю!
И снова подносит сигарету к губам.
Руки у него, кстати, тоже такие, что сдохнуть от зависти можно. Или от любви – на ваш выбор. Тонкие, сильные, с длинными пальцами, точно у художника или музыканта.
– Ты играешь на чем-нибудь?
– Банально: только на нервах родителей.
– Рисуешь?
– Граффити по трафарету пару раз на спор.
– По трафарету – это не в счет.
– Зато я живу, как хочу. А ты сам-то?
– А я – будущий врач. Если вытяну.
– Подозреваешь, что кишка тонка?
Пожимаю плечами.
– В меде тяжело. Много… всякого.
– Будешь денежки зашибать? Пластическая хирургия? Матушка говорит, это сейчас прибыльно.
– Просто хирургия. Буду спасать людей.
Губы его презрительно кривятся.
– Фу! Какой примитивный пафос.
– Я не боюсь пафоса. У меня мама – актриса. Иногда я думаю, это немножечко заразно.
– Поэтому ты – гей? Ну там богема и модная голубизна?
Обычно я не люблю, когда вот так – в лоб. Но в его прямоте мне совсем не видится оскорбления, только болезненно обнаженная честность.
– Нет. Просто я такой. Сам по себе. А ты?
Откровенность за откровенность – надеюсь, он сочтет, что это достойный обмен.
– А я вообще асексуал. Мне никто не нужен: ни мальчики, ни девочки.
– Ни овцы, – смеясь, подсказываю я. Почему-то меня не огорчает, что мы с ним не «одного поля ягоды». Просто он вот такой – чистый.
– Они тоже, бро! Сплошное разочарование!
В эти минуты загадочная томность слетает с него, как маска Пьеро, и он хохочет, запрокинув голову и блестя зубами. В эти мгновения я окончательно понимаю, что попал. И мне не страшно.
– Жаль, подоконник маленький.
– А что?
– Я бы забрался к тебе, сидели бы вместе.
– Говно вопрос! – вздергивает он бровь. Брови у него тоже почти идеальные – темными дугами. Даже странно при таком светло-золотом цвете волос. – Я потеснюсь. Ни один подоконник в старых домах не может быть слишком узким для двоих сумасшедших.
Он и впрямь как-то по-особенному поджимает свои длинные ноги в безобразно драных джинсах, и оказывается, что мой тощий зад вполне помещается на освободившееся пространство. Только вот…
– Ходули свои сюда суй, – неожиданно командует Саша. – Одну – так, другую – этак. Красота!
Не знаю, как там насчет красоты, а я, кажется, сейчас лопну. Или молния на моих штанах лопнет. Потому что «так» – это когда мое левое колено прижато к ледяному стеклу, а правое втиснуто аккурат между его конечностей. И стопа практически упирается… ну… в пах. А его – соответственно – в мой. О-о-о! Сделай так еще!
– Удобно? – совершенно невинно интересуется это исчадье ада. (Нет, я действительно совсем недавно назвал его ангелом?)
– Саша, может, я…
– Сиди тихо, не то отдавишь мне самое дорогое! Ты куришь?
– Нет! – уже понимая, что из ловушки глупого зайца никто выпускать не собирается, мотаю головой и старательно утыкаюсь взглядом в давно не мытое и потому довольно грязное стекло. Там ничего нового – только незаметно подкравшиеся сумерки и дождь. – Курение вредит нашему здоровью.
– Ты еще про лошадь вспомни!
– Могу и про лошадь, – киваю я. И сам не зная зачем, выдаю:
Все мы, деточка,
Немного лошади.
Каждый из нас
по-своему, лошадь.
– Опять стихи! – морщит он свой породистый нос. – Дернул же черт связаться с чокнутым любителем поэзии!
– А ты связался? – на всякий случай осторожно уточняю я.
– Еще бы! Разве не заметно?
Через неделю он звонит мне и зовет в кино. Я чувствую, что сейчас сдохну от восторга, и даже забываю спросить, что за фильм.
В результате мы оказываемся с ведром попкорна на каком-то неудобоваримом ужастике, из тех что вот прямо кровь-кишки. Саша, глядя на экран, ржет, точно лошадь Пржевальского, и комментирует вслух особо выразительные моменты, в результате чего на нас оборачиваются впереди сидящие ценители прекрасного и от полноты чувств посылают на всем известные буквы. Тупо и однообразно. Саша отвечает им весело и витиевато – заслушаться можно. Меня, по правде сказать, все это не особо трогает – я смотрю на Сашу. Как он запрокидывает назад голову, когда смеется. Как блестят его глаза в темноте зала, как зубы с хрустом надкусывают попкорн, который я в обычной жизни совершенно не переношу. Но нынче он кажется мне обрывками золотых облаков, которыми, вероятно, питаются ангелы.
После сеанса мы сидим в кафешке и разговариваем. Да, и еще пьем кофе. Саша предпочитает черный без сахара. А я – с сахаром и шоколадкой. Он кривит свои восхитительные губы:
– Так ты скоро разжиреешь и станешь похож на бегемота.
– С моими нагрузками? – усмехаюсь я. – Черта с два! А ты что, принципиальный противник сладкого?
– Терпеть не могу, – кивает он. – Фу.
Два часа пролетают незаметно. Мы сидим и разговариваем – обо всем. Знаете, как на самом деле тяжело найти человека, с которым можно разговаривать обо всем? К концу беседы я прихожу к пренеприятнейшему выводу: я действительно попал. Нырнул с головой в то, что никогда и ни за что не станет полноценными отношениями – разве что дружбой. И все время, отпущенное мне на дружбу с этим удивительным человеком… с Сашей… я буду медленно умирать от невозможности быть с ним по-иному.
Улыбаюсь и говорю ему:
– Ну что: еще на посошок по кофе и по домам?
Он улыбается в ответ:
– Хорошая мысль. Куда пойдем в следующие выходные?
Мысленно сверяюсь с календарем. О да!
– Это будет сюрприз. Позвоню тебе и назначу место встречи.
– Загадочный! – усмехается он. По-доброму усмехается.
– Какой уж есть.
*
– Да ну! Ты приглашаешь меня в филармонию?! На чтение стихов?!
С него можно писать картину «Искреннее недоумение». Даже нелепая полосатая шапка с красным помпоном от полноты эмоций сползла на затылок, выпустив на свободу золото кудрей. Са-а-аша! Ему так идет этот вечер, и свет фонарей, и белые колонны…
– Моя мама читает Цветаеву.
– Еще и бабская поэзия!
– Брось! Цветаева – это не бабская, что б ты понимал!
– Не пойду.
Собираю в кулак все свое терпение и продолжаю соблазнять.
– Ты когда-нибудь был в филармонии на чтении стихов?
– Я вообще ни разу в жизни не был в филармонии! Еще чего!
– Неужели даже с классом не таскали? В началке? По-моему, всех так или иначе в школе приобщают к прекрасному!
– Ага, прекрасное! – бурчит он. – «Петя и волк».
– Ну вот видишь!
– К нам в школу с концертом приезжали.
– Крутая, должно быть, у вас была школа.
– Обыкновенная.
– Так ты пойдешь со мной?
Он с минуту всерьез размышляет, но потом сдается.
– Ладно! Ты ведь потащился со мной на этот дебильный ужастик. Хотя… – добавляет он с внезапной проницательностью, – не слишком-то их любишь.
– Терпеть не могу, – радостно соглашаюсь я. – Кровь, кишки, орут много и бессмысленно. А еще я точно знаю: того, что вываливалось из распоротого живота у последнего чувака, в природе не существует. Больная фантазия режиссера или художника-оформителя.
– А может, он был инопланетянином?
– И за весь фильм об этом никто ни разу не обмолвился?
– Замаскированным инопланетянином.
За разговорами мы уже успели войти внутрь (билетерша тетя Оля на входе посмотрела на меня с привычным умилением: «Как вырос мальчик!»), оставить верхнюю одежду в гардеробе и даже добраться до своих мест. Места у нас были, на мой взгляд, козырные – в первом ряду. Правда, приходилось задирать голову, чтобы смотреть на сцену, зато впереди – никаких храпящих мудаков и влюбленных парочек. Некоторое время всерьез раздумываю: уместно ли в храме культуры даже мысленно употреблять слово «мудак», потом решаю наплевать. Мама всегда говорит: «В тебе нет чувства прекрасного». Кошусь в сторону восторженно обозревающего и вправду впечатляющий интерьер Саши и не соглашаюсь с мамой: у меня есть чувство прекрасного. Вот – Саша.
В этот момент очередного неприкрытого любования объект моих грез сердито дергает меня за рукав и шипит:
– Мог бы и предупредить, что тут такая красота! А я в старом свитере и даже душ принять не успел.
С видом бывалого эксперта по части запахов тянусь носом в его шее, вдыхаю едва ощутимый терпкий аромат молодого тела с нотками какого-то морского парфюма и зажмуриваю от удовольствия глаза.
– По-моему, ты пахнешь обалденно.
– Маньяк!
Кажется, у него еще есть, что мне сказать, но в это время в зале потихонечку гаснет свет и на сцене появляется в синем бархатном платье ведущая программы – Екатерина Алексеевна (да-да! так ее и зовут, хотя я до последнего звал «тетей Катей»), седая, величественная, словно императрица, и глубоким грудным голосом объявляет:
– «Красною кистью рябина зажглась…» Композицию по стихам Марины Ивановны Цветаевой для вас исполнит… – дальше следуют регалии мамы, я их не слушаю, не в силах оторвать взгляда от Саши. Знаю, что там есть и «лауреат», и «дипломант», и еще что-то из словесной шелухи. – Маргарита Старостина…
По залу прокатываются аплодисменты как раз того странного звучания, что обычно бывает перед началом выступления не слишком известных артистов: вроде бы принято приветствовать, но ты еще не уверен, стоит ли.
– …За роялем Анастасия Климова.
Мама врывается на сцену, словно порыв ветра, и мне хочется совсем по-детски закричать: «Смотрите! Это моя мама!» (Семейная легенда гласит, что однажды, в нежном возрасте четырех лет, я нечто в этом роде и проделал с оглушительным успехом.) Мама, как всегда, порывиста, резка, слегка нервозна. Я подмечаю, как едва подрагивает потертый томик стихов в ее длинных чутких пальцах. Мама любит говорить, что, если бы был жив Модильяни, она стала бы его любимой моделью: все в ней немного чересчур худое и вытянутое: шея, кисти рук, бесконечные ноги в черных брюках (юбки она не признает). А еще – голубые глаза, карминно-красные губы и темно-каштановые волосы, стриженные «под мальчика».
Веселая полноватая хохотушка тетя Настя (они все у меня здесь на правах давнего знакомства «тети» и «дяди») усаживается за роскошный рояль, и зал замирает в предвкушении. А мама дергает уголком рта и решительно бросается в это густое молчание, словно в море:
Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась…
Смотрю на Сашу: как он? Смотрит. Слушает. Пока не сбегает – и то хлеб.
Он слушает, я жду.
Мне потребовалось несколько дней, чтобы уломать маму включить в свою программу это стихотворение.
– Глебушка, ну что за дикие просьбы?! Ты же знаешь, программа обкатана, утверждена везде, где только можно, я просто боюсь нарушить равновесие!
– Мамочка! Одно стихотворение и пара строчек подводки к нему никакого равновесия не нарушат!
– Да зачем тебе?!
– Мама… Я хочу, чтобы его услышал… короче, один человек. Мне это, правда, очень важно.
В конце концов она все-таки сломалась. И вот теперь я жду.
Саша не шевелится. Молча смотрит на сцену, закусив губу. Такой красивый…
Имя твое – птица в руке,
Имя твое – льдинка на языке…
Внутренне цепенея от собственной наглости, кладу свою руку на его пальцы, крепко стискивающие резной подлокотник. Ловлю вопросительный взгляд ставших вдруг непривычно темными глаз. Киваю в ответ: «Для тебя». Он насмешливо вздергивает бровь.
Имя твое – ах, нельзя! —
Имя твое – поцелуй в глаза,
В нежную стужу недвижных век.
Имя твое – поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток…
С именем твоим – сон глубок.
Мне хочется встать и выйти из зала, пока оно, вот все это, еще во мне, не размылось другими впечатлениями, не расплескалось: знакомые почти до боли строчки и ощущение бьющегося пульса под чужой горячей кожей.
Разумеется, мы высиживаем до конца. Саша аплодирует так, что буквально «отхлопывает» себе ладони: после, в очереди за одеждой, я дую на них, будто на свежий ожог, на нас подозрительно косятся, а он снисходительно позволяет мне эту очередную глупость.
До метро «Невский проспект» мы идем молча, укутанные совершенно блоковским снегом. Саша не говорит: «Мне понравилось!» И уже тем более не говорит: «Круто! Твоя мать шикарно читает!» Он молчит, и я ему бесконечно благодарен за то, что он умеет так потрясающе молчать.
В метро мы расходимся: нам ехать в противоположные стороны. Поскольку Саша – не девушка, я не предлагаю его проводить, а ему даже в голову не приходит предложить нечто подобное мне. Зато он говорит:
– Спасибо.
– Следующие выходные – твои, – улыбаюсь я. – Позвонишь?
– Ладно, – почему-то задумчиво кивает он. – Ладно.
*
– Дом культуры имени Шелгунова, – говорит он мне. – Знаешь, где это?
– Совершенно без понятия.
– Метро «Чкаловская».
– Найду.
– В шесть тридцать встречу тебя у входа. Смотри, не опаздывай! Мне мерзнуть нельзя.
Это я уже понял. Когда мы отправляемся гулять, Саша, несмотря на его имидж эстета-пофигиста, всегда надевает варежки, шапку и заматывает шею теплым шарфом.
– Я не опоздаю.
Куда там! Прихожу даже раньше и минут двадцать прыгаю, точно ошалевший от внезапного холода пингвин, неуклюже переминаясь с одной ноги на другую. Можно было бы, конечно, войти внутрь – подозреваю, никто бы меня не расстрелял, особенно, учитывая сегодняшние минус двадцать. Но Саша сказал: «Буду ждать у входа», – значит «место встречи изменить нельзя».
– Ты что, больной на всю голову?! – ругается он, когда все-таки выбегает ко мне, едва набросив на плечи свой пижонский ярко-красный пуховик. – Почему не прошел в вестибюль, дерьма кусок?!
– А сам-то!
Улыбаюсь ему, попросту забывая дышать. Какой же он все-таки!.. Потом, уже оказавшись вместе в вестибюле, полном каких-то странных людей явно неформального вида, решаюсь полюбопытствовать:
– Ну и что у нас сегодня?
– Сегодня у нас очередное приобщение к прекрасному.
– Ужасы?! – ненатурально пугаюсь я.
– Нет, классика. Любишь квинов?
– Не особенно, – пожимаю плечами. – Так, кое-что слышал.
– Сегодня послушаешь, – мрачно обещает он. – И посмотришь.
– А ты?
– А я буду танцевать.
Так я узнаю, что Саша – танцор. Или как это правильно: балерун? И что он окончил Пермское хореографическое училище, а здесь, в Питере, танцует в труппе молодежного театра и живет в какой-то общаге в самой жопе мира.
– А мама-бухгалтер? – с подозрением уточняю я. Становится почти обидно: оказывается, я совсем ничего о нем не знал! Правда, с другой стороны, кто в этом виноват?
– В наличии. Только… далеко. Слышал про такой город, Первоуральск?
Отрицательно мотаю головой.
– Вот там. На заводе работает.
Я несколько минут молча смотрю на него, буквально оглушенный новым знанием. В конце концов Саша нервным движением убирает за ухо кудряшку, сует мне в руки картонку билета и, буркнув:
– Мне еще гримироваться, – исчезает в толпе.
Никогда не являлся поклонником балета. Нет, мужчины в трико – это, конечно – отдельная тема, и смотреть, как они двигаются, как перекатываются под кожей длинные сухие мышцы – сплошной эстетический оргазм, но… Ни классика, ни тем более танцевальный авангард никогда не прельщали меня сами по себе. Не визуал я по природе своей – мне ближе слова.
Но когда из мощных динамиков на нас обрушиваются первые такты «Барселоны» и на сцену, словно наплевав на земное тяготение, одним мощным прыжком врывается, влетает… я даже не сразу понимаю, что это – Саша. От восторга у меня сводит внутренности и скулы, а во рту появляется острый привкус крови – похоже, что-то я там себе прикусил. Саша…
Весь сияюще-белый, красивый и совершенно безумно, вызывающе нездешний. В детстве мне снилось, что я летаю. Для этого нужно было просто как следует оттолкнуться от земли или шагнуть с крыши. А Саша умел летать наяву и, похоже, очень слабо представлял себе, для чего существует закон земного тяготения. Так мне видится в этот миг. Так я буду думать всегда.
Ничего не помню: ни музыки, ни сюжета, ни других исполнителей – ничего. Кажется, их там много: мальчики, девочки. Пустота. Ничего, кроме него – моего счастья, моей боли, моего наваждения.
Когда он падает подстреленной птицей на сцену, а потом поднимается с нее под торжествующее: «The Show must go on!», я умираю и воскресаю вместе с ним. Только он может проделать со мной такое. Только он. Какой же я идиот, что не догадался купить цветы!
Ладно. В следующий раз.
Он выходит ко мне спустя почти час после окончания выступления. Я жду его в стремительно пустеющем мраморном вестибюле: усталый, выжатый, счастливо-отрешенный. Ничего не могу сказать, только бормочу как полоумный:
– Саша! Какой же ты!.. Саша!
– Понравилось? – снисходительно интересуется он, наматывая на шею полосатый разноцветный шарф.
– Еще бы! В следующее воскресенье мне тебя точно не переплюнуть!
– В следующее воскресенье… – произносит он, отчего-то слегка замявшись, что вообще-то ему совсем несвойственно, – ничего не получится.
– Почему? – мы стоим на улице, а с неба, как и в прошлый раз, хлопьями падает снег, и мне вдруг начинает казаться, что это отвратительный ледяной ливень льется прямо на наши не прикрытые зонтами головы, стекает за шивороты, набегает в зимние сапоги…
– Я уезжаю в субботу. В Москву.
– На выходные? – чувствуя себя полным идиотом, спрашиваю я. Надо же, разнервничался! Идиот и есть.
– Полагаю, навсегда.
Не-е-ет! Так не бывает! Не может быть!
– Почему?
– Меня в театр пригласили. Представляешь? В настоящий театр.
– В Большой? – решаюсь уточнить я.
– Почему непременно в Большой? – удивляется он. – До Большого я еще не дорос. Нет, в Новую оперу. Театр молодой, но… Представляешь? Я буду танцевать в Москве!
– Сто двадцать пятого лебедя? – мрачно интересуюсь я. Кажется, до меня начинает доходить, что все происходящее сейчас – всерьез. И что уже совсем скоро мы с Сашей расстанемся. Навсегда.
Он улыбается и, внезапно стянув с руки варежку, дергает меня за ледяной нос.
– Злыдня! Не бойся! Все когда-нибудь начинали с массовки. Но, знаешь… я буду чертовски замечательным лебедем! И в конце концов они дадут мне ведущую партию.
Не сомневаюсь. Вот уж в этом я ни капли не сомневаюсь.
– И… я смогу к тебе приезжать?
– А зачем, Глеб?
Мы уже почти дошагали до спуска в метро, и Саша вдруг становится почти смертельно серьезен.
– Я… я думал… – получается какое-то жалкое блеяние. Мама бы мной не гордилась в этот момент. – Думал, что у нас…
– Ничего у нас нет, – светло улыбается Саша. – И ничего не будет. Все ты себе нафантазировал.
Мы стоим под фонарем, и я, словно зачарованный, смотрю, как мохнатые снежинки запутываются в золоте его выбившихся из-под шапки кудрей.
– Саша…
– Прощай! – решительно говорит он, накрывая мои губы своим горячим ртом. Я даже не успеваю среагировать на этот последний – хочется сказать «контрольный» – и единственный между нами поцелуй, а мой ангел уже разворачивается и бежит от меня прочь, к стоящему на остановке автобусу, чей номер я даже не успеваю разобрать. Автобус дожидается последнего спешащего к нему пассажира, закрывает двери и величественно отъезжает.
И мне не остается ничего другого, как строго сказать себе: «The Show must go on!» – и нырнуть, пытаясь сбежать от себя, в темную пасть подземного перехода.
========== 2. ==========
*
– Глеб! Старостин! Там тебе больного привезли. Спустись.
«Глебушка не хочет спускаться вниз. Глебушка хочет хр-п-п-п…»
– Глеб!
Голос у моего сегодняшнего напарника, Виктора Семеновича, точно та самая иерихонская труба. Попробуй не проснись!
Вздыхаю. Я нынче – самый молодой, остальные – Виктор Семенович с Толяном – сильно старше, можно сказать, почти деды. Мне, стало быть, и бежать. Проклятое дежурство! Хоть бы раз удалось поспать по-человечески!
– Что там у вас? – киваю фельдшеру, нехотя принимая у него из рук документы. Лицо до чертиков знакомое – не в первый раз к нам возит. Кажется, мы даже как-то вместе на чьем-то дне рождения квасили. У него еще девушка в нашем отделении работает. Девушка – Юля, а он? Игорь?
– Представляешь, театр на гастроли приехал – прямо со сцены забирали. Впервые со мной такое.
– Театр? Какой театр? Дед, что ли, древний опять ногу подвернул? Таскают с собой стариков на гастроли… Или же какие-то олухи сверху вниз сиганули? На трапециях качались? Новаторы-авангардисты! – когда я научился так отвратительно ворчать?
– И не дед вовсе! – смеясь, машет рукой Игорь. Или Виталик? – Представляешь, молодой совсем парень. Прыгнул, споткнулся – гипс. Доплясался, короче.
«Доплясался», – все еще крутится у меня в голове, когда я подхожу к лежащему на каталке пациенту. Даже сквозь почти смертельную бледность и прожитые врозь годы я не могу не узнать этого лица: тяжелых век, закушенных губ и чеканного профиля.
– Здравствуй, Саша.
– Блядь! – устало роняет он и открывает глаза. – Глеб, это ты?
Так странно… Мы не виделись с ним… сколько? восемь лет? А узнали друг друга мгновенно: с первого взгляда, с первого слова. Другое дело, что на лирику у нас сейчас совсем нет времени. Перелом у Саши, если верить рентгеновскому снимку (а с чего бы мне вдруг ему не верить?), довольно отвратительный: мало того, что сам по себе болезненный, так еще и со смещением.
– Я, – отвечаю, стараясь выглядеть профессионально спокойным и собранным, тогда как все внутри меня в это время взрывается и разлетается, будто какая-нибудь чертова смертельная шрапнель. – Как же ты так, а?
– Неудачно приземлился, – кривит он губы в знакомой полуулыбке. Только раньше мне виделись за этим высокомерие и отрешенность, а теперь – попытка скрыть боль. Что ты, Саша, зачем же скрывать что-то от меня?
– Тогда – поехали, пациент!
Ставлю последнюю закорючку в бумагах Игоря-Виталика, машу ему на прощание рукой и сам берусь за каталку. У Гули, молоденькой санитарки приемного отделения, делаются круглые глаза. Поясняю зачем-то:
– Это мой друг.
Она быстро-быстро кивает. Не удивлюсь, если завтра вся больница будет в курсе, что доктор Старостин сам! своими собственными ручками затаскивал каталку с больным в лифт. Катим с Гулей вместе. Подумаешь! Я, покуда в меде учился, кем только ни подрабатывал – даже в морге санитаром. Меня теперь субординацией не напугать. Особенно, когда дело касается тех, кого я…
А вот об этом мы подумаем после дежурства.
Едва успеваю отдать распоряжение о палате, куда поместить пациента (есть у меня свободное место в сильно блатной «двушке» – словно аккурат для этого случая), как меня снова зовут вниз: принять больного и расписаться. А потом опять. И опять. И снова… На вытяжку Сашу укладывает Толян – и за одно это я начинаю его тихо ненавидеть. Хотя при чем тут он? Просто такое у нас распределение обязанностей.
Когда я, находясь уже совсем на последнем издыхании, вползаю в палату, дыша тяжело, точно страдающая астмой старая черепаха, Саша спит и тени от ресниц дрожат на его бледных щеках. В прошлом я отдал бы все на свете, чтобы однажды получить возможность быть рядом с ним спящим. Теперь же – даже еще больше за то, чтобы он никогда не падал на этом своем спектакле и, соответственно, никогда не попадал к нам.
Минут пять я позволяю себе смотреть на него, а потом ухожу к себе. Думаю, Саше не понравилось бы, что кто-то видел его настолько беспомощным. Все-таки во сне люди удивительно открыты и беззащитны.
По какой-то великой, даже можно сказать, вселенской справедливости, мой возлюбленный диванчик до сих пор никем не занят. Похоже, воспользовавшись затишьем, господа-товарищи слиняли этажом ниже к очаровательным дамам, по всей видимости, дежурившим нынче в отделении абдоминальной хирургии. Однако диванчик, еще совсем недавно казавшийся мне желаннее райского облака, сейчас вовсю давит на все впуклости и выпуклости моего бедного тела, будто некий злыдень засыпал ему под обивку пару кило сушеного гороха. Такая вот растакая я нынче у нас принцесса!
Глебушка больше не хочет спать. Сильнее всего на этом гребаном свете Глебушка желает, чтобы там, на небе, все-таки обнаружился хоть какой-нибудь бог, всемогущий и милосердный, способный вернуть моему ангелу возможность танцевать.
*
– Я. Не могу. Его. Оперировать.
– Глеб! Заканчивай истерику!
Вернувшийся с очередной операции Виктор Семенович снимает шапочку, устало проводит рукой по лбу. Не случайно отношение к хирургам-ортопедам у врачей других специализаций… странное. Дескать, они (то есть мы) скорее работяги-сверлильщики, слесари-технари, чем врачи в возвышенном толковании этого слова. Наша работа и впрямь тяжела и грязна. И вдохновение в ней играет совсем мизерную роль. Собирай обломки, точно пазл, сверли, втыкай спицы, закрепляй пластины, закручивай, чтобы ничего не слетело. Как на заводе у станка в каком-нибудь цеху.
– Не могу. Пожалуйста!
– Глеб, ты и сам прекрасно знаешь, что лучший специалист по голеностопу у нас именно ты. Даже диссертацию пишешь.
– А у вас зато опыт. Ну пожалуйста!
Я готов унижаться, клянчить, выглядеть бледно. Даже на колени, пожалуй, брякнулся бы, если бы оно помогло. Фиг вам! Семенович непоколебим – точно базальтовая скала.
– Но разве оперировать близкого тебе человека не есть нарушение врачебной этики? – в отчаянии вопрошаю я.
– Душа моя Тряпичкин! – почти нежно улыбается мне эта тварь. – Нет на сей счет никаких специальных правил. Не будь занудой! Этот мальчик тебе, к счастью, не жена, не сын и не брат. Остальное – ерунда.
«Он ближе, чем жена, сын или брат», – хочется швырнуть мне ему в лицо, но я молчу. Слова кончились. Может быть, стоило в юности посещать не филармонию, а какой-нибудь дискуссионный клуб?..
– У меня руки будут трястись.
Он насмешливо смотрит на мои сильно поднакачавшиеся на тяжелой физической работе лапищи и изгибает бровь:
– Вот эти, что ли? – Сволочь! – Глеб, у меня операции расписаны на месяц вперед. Твой мальчик… он может ждать месяц?
Этим «твой мальчик» он меня окончательно добивает. Нет, у нас в отделении, если что, никто не в курсе. Шифруюсь я – Штирлиц обзавидуется. Но вот… что-то, видать он в моей некрасивой истерике все же разглядел, Виктор Семенович. Хорошо, хоть серьезных оргвыводов не сделал. Мне только сейчас скандала с разоблачением в родном коллективе не хватало! Саша – вот главное. И чего тогда, спрашивается, я тут херней страдаю?
– Ладно, убедили. Буду готовиться.
– От-то ты молодец!
И я готовлюсь. По сути, мне предстоит довольно простая, я бы даже сказал, банальная операция: сложить, просверлить, зафиксировать. Все как обычно. Необычно в ней только одно: Саша.
Он лежит в своей палате, не отвечает на подколки шумного соседа – лучшего друга кого-то из больничной администрации. Говорю же, блатная палата! Лежит и смотрит в потолок. Думает. И я даже знаю, о чем он думает. Получится или нет вновь вернуться на сцену? Сможет ли он снова танцевать? Даже если операция пройдет как надо, это почти полгода на реабилитацию. А для танцора, насколько я понимаю, полгода без ежедневных упражнений и всяких там прыжков-растяжек – практически смертный приговор. Или я все драматизирую, потому что он – не просто какой-нибудь левый танцор?
– Саша!
– А, вот и ты… Хай!
– Ты подстригся, – почему-то это первое, что вылетает у меня после долгой-долгой разлуки.
Знакомо дергает уголком рта. Раньше усмешка, получавшаяся в ходе этого дерганья, казалась мне надменной, а сейчас, с высоты своего жизненного опыта, я отчетливо вижу скрывающуюся за ней неуверенность. Как много мне еще предстоит узнать о нем?
– Волосы мешали танцевать.
Мне хочется спросить его: «Как ты жил все эти годы… без меня?» – но я отчетливо понимаю, что не имею никаких прав на подобные вопросы. У каждого из нас давным-давно своя взрослая жизнь. И то, что я так и не смог его отпустить, в конце концов – только мои проблемы.
– Не знал, что ты в городе. Вроде бы о гастролях «Новой оперы» не сообщали.
– Да я давно уже не у них. Не срослось. Ушел в антрепризу. «Балеты Баланчина», слышал?
Слышать-то я слышал, только вот, в силу своего скудоумия, никак не связал с ним.
– Мы «Весну священную» поставили, представляешь? И «Полуденный отдых фавна»…
Честно признаюсь:
– Из «Фавна» я знаю только рисунок Бакста.
Ухмыляется в ответ.
– Да, я помню, что ты больше… по поэтам.
Возвращаю ему улыбку и произношу заговорщицким шепотом:
– Имя твое – птица в руке,
Имя твое – льдинка на языке…
– чтобы уловить тот обалденный момент, когда на его бледных скулах начинают проступать пятна совершенно восхитительного румянца. Помнит? Помнит! Господи, он помнит!