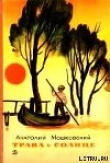Текст книги "Зажечь солнце (СИ)"
Автор книги: Hioshidzuka
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
А Санне, вообще, кузина сказала, что та не доживёт до того момента, как встретит свою судьбу. Возможно, конечно, это была лишь небольшая месть Сюзанне за то, что та поставила под сомнение то, что Ринд вышила сама то покрывало. Ринд плакала, Халльдис злилась, а Санна была столь суеверной, что для кузины Деифилии не было ничего проще отомстить ей, придумав страшную историю.
В итоге, за пределы Биорига девочки, всё-таки, выбираются – Деифилии кажется, что она вот-вот разревётся, так сильно напряжены её нервы. И всё же, в тот момент, когда они с Санной оказываются на улице, Дея кажется себе совершенно счастливой. В первый миг холод обжигает лёгкие, но для девочки в этом нет ничего страшного.
В тот момент, когда девочки подбираются к месту, с которого должна начаться охота, Санна оказывается слишком далеко от неё, чтобы можно было сказать ей хоть что-нибудь. И Деифилии страшно. Ей не хотелось бы, чтобы дядя Роальд отчитывал её при всех – при сёстрах и братьях, при матери… Ей не хотелось бы выглядеть посмешищем. Её и без того не слишком здесь любят. Конечно, лучше было бы, если бы здесь оказалась тётя Вигдис – она бы, конечно, заметила её, но отчитывала бы лично. Не при всех.
Но взрослые, кажется, и вовсе не собираются охотиться. Они стоят и обсуждают что-то. Деифилии кажется это подозрительным – почему они не могли говорить о том, о чём говорят здесь, в Биориге? Девочка подбирается чуть ближе, чтобы расслышать то, о чём старшие говорят. Ей хочется знать, о чём именно будет разговор – кажется, что это очень важно. Что можно будет разобрать, что же такое зловещий Сизый курган.
– Не думаю, что детей можно выпускать гулять за стены замка, – говорит Ивар Ярвинен.
Деифилия чувствует, как холодеет от ужаса её сердце. Что-то произошло – что-то серьёзное, чего она так боялась. Быть может, это было даже связано с Сизым курганом – местом, которого девочка теперь боялась. Она кутается в свой плащ и старается выглядеть как можно более незаметной. Какое счастье, что она додумалась накинуть именно белый плащ – а не тёмно-синий или голубой, какие носила обычно. Белый на снегу менее заметен, и девочка может надеяться на то, что пару минут на неё не обратят никакого внимания.
Ей думается, что для Маргрит проблемы в этом не было бы – в шестнадцать лет она уже прошла основные заклинания, способные скрыть её от любых глаз. Но Деифилии всего двенадцать. И если ей не поможет кто-нибудь из взрослых – или та же Маргрит – дядя Роальд обязательно её заметит, а тогда он будет очень сердиться. Однако же, пока что никто её не видит, что кажется Деифилии ужасно странным. Но так даже лучше – так она сумеет услышать больше.
– По магической карте – оно погибло неподалёку от Тивии. Ты ведь знаешь эту деревню, Вильгельм? – говорит дядя Роальд, его голос спокоен, но Деифилии это спокойствие почему-то кажется зловещим.
Дядя Вигге бледнеет – становится почти таким же белым, как и снег, но всё же кивает брату. Деифилии кажется, что, возможно, дядя Роальд сказал что-то очень жестокое. Девочка не знает, что именно это было, но ей кажется, что лучше было бы не говорить это дяде Вигге. Ей становится жаль его. Пусть юная наследная ландграфиня и не может знать, что именно произошло. Должно быть, это произошло тогда, когда дядя Вигге был ещё молод. Впрочем, он и сейчас молод – ему всего лишь двадцать восемь. Однако, Деифилия почему-то всегда об этом забывает.
Почему Роальд Ярвинен назвал брата Вильгельмом? Деифилия уверена, что не ослышалась. И дядя Роальд не мог ошибиться в такой вещи – он весьма серьёзно ко всему подходит, чтобы допускать столь нелепые ошибки. И почему никто до сих пор её не заметил? Они же охотники! Разве дядя Ивар, тренируя их однажды, не говорил, что охотнику стоит всегда и везде быть внимательным, подмечать мельчайшие детали и видеть намного больше, чем способен видеть любой человек?
Но собственную племянницу ни один дядя Деифилии почему-то сейчас не замечает. Хотя она находится на очень небольшом расстоянии от них – раз может даже слышать, о чём они говорят. Юной ландграфине кажется это ужасно подозрительным, не слишком-то правдоподобным.
– В деревне был кто-то живой? – спрашивает дядя Ивар.
У него совершенно привычный Дее голос – ледяной, спокойный… Впрочем, ничего удивительного. Ивара Ярвинена вряд ли что может вывести из душевного равновесия. Это вовсе не кажется удивительным. Так было, сколько Деифилия себя помнит. Стало быть, искать подвох стоит в чём-то ином. Уж точно не в поведении дяди Ивара.
Девочка осторожно переводит взгляд на Вигге – на дядю Вигге, который всегда приходил на помощь, когда помощь была Деифилии необходима. Он не смотрит на неё и кажется вполне спокойным, только бледным. Слишком бледным. Ему словно физически больно от каких-то мыслей. Не бойся Деифилия Ивара и Роальда Ярвиненов, она бы подошла к дяде Вигге ближе и взяла бы его за руку или обняла бы. Ей совсем не хочется видеть его в таком состоянии.
– Лет десять там не было ни единой живой души, – говорит дядя каким-то странным голосом, какого Дея никогда у него не слышала.
Девочка почти вздрагивает от этих слов. И боится – крайне боится – даже посмотреть в его сторону. Ей кажется, что уж тогда дядя Ивар и дядя Роальд точно заметят её, поймут, что она тайком выбралась из Биорига, а тогда проблем не избежать. Тогда ей и Санне сильно достанется. Тётя Вигдис и мама будут ужасно недовольны. Это куда хуже, чем если бы они были в ярости, как обычно бывает папа, когда кто-то его не слушается слишком долго и слишком упорно.
В какой-то момент снова подняв глаза на старших, Деифилия ловит на себе взгляд дяди Вигге. Внимательный и понимающий. И девочка понимает, что, пожалуй, в этом и кроется причина того, что Ивар и Роальд Ярвинены её не заметили – дядя Вигге поставил на неё блок против обнаружения.Тогда всё становится понятно и ужасно просто – должно быть, и Санна поэтому вернулась в Биориг, потому что подумала, что Дея струсила и убежала обратно.
Дядя не выдаёт её. Хотя, пожалуй, это было бы правильно – если бы дядя Роальд после отчитывал её при всех. И если бы тётя Вигдис и леди Ульрика были бы крайне недовольны её поведением. Это было бы справедливо и правильно. Почему-то Деифилии становится жутко стыдно из-за того, что Вигге Ярвинен предпочёл скрыть её проступок ото всех. Ох! Деифилия Ярвинен же прекрасно знает, почему никогда нельзя мешать охоте, но из-за минутной слабости нарушила все правила – мыслимые и немыслимые. И дядя Вигге всё равно ей помогал, хотя в этот момент она никак не была достойна его помощи! Щёки Деифилии пылают от того стыда, который она испытывает.
Скоро дядя Роальд отправляется на охоту – скорее всего, в восточные леса. Дядя Ивар же возвращается в замок – так же стремительно и спокойно одновременно, как и всё, что он делает. Вигге Ярвинен же, выждав какое-то время, снимает свой блок и подходит к племяннице.
– Я всегда говорил твоей тёте Вигдис, что тебе нужен кто-то вроде фройлен Айвентг в подруги, – улыбается дядя Вигге, предлагая Деифилии руку, чтобы та могла опереться на неё, когда будет вставать со снега. – Уж Сюзанна всегда может тебя расшевелить, заставить двигаться, что полезно ребёнку. Гораздо полезнее, чем целыми днями сидеть над книгами и вышиванием.
Я не ребёнок, хочется сказать Деифилии, но она решает, что куда благоразумнее будет промолчать. Она именно что ребёнок – раз позволила спровоцировать себя на столь глупый поступок. Даже странно, что дядя Вигге ещё не решил рассказать всё её матери и запретить племяннице общаться с Сюзанной Айвентг. Напротив, девочке даже кажется, что дядя одобряет её проступок.
И всё же, она чувствует себя очень благодарной дяде за то, что тот ничем не выдал её присутствия – ни жестом, ни тем более словом. Надо будет обязательно смастерить что-нибудь дяде Вигге из бисера в подарок. Охотники часто кладут в карманы своих курток разные маленькие талисманы. У дяди Роальда – Вегард как-то рассказывал это младшему братишке Деифилии – в кармане лежит ожерелье из клыков. А дядя Ивер всегда носит с собой родовой браслет.
Занятая разговором старших, Деифилия вовсе не сообразила, что озябла – должно быть, за пределами Биорига было намного холоднее. Пальцы у неё побелели, да и плащ больше не кажется таким тёплым, как всегда казалось. Вигге Ярвинен со вздохом снимает с себя куртку и надевает племяннице на плечи.
– Почему дядя Роальд назвал тебя Вильгельмом? – спрашивает девочка, послушно кутаясь в дядину куртку.
Губы дяди расплываются в улыбке. Он кладёт свою узкую длинную ладонь ей на голову и бережно прижимает девочку к себе. Смеётся – тихо и почти что надрывно. Деифилии кажется это неправильным, но она об этом молчит, не желая злить дядю Вигге, пусть он никогда на неё раньше и не злился, он вполне мог рассердиться на Вегарда или Асбьёрна. Для тех в этом не было ничего страшного, но Деифилия куда более близка с дядей Вигге, чем они. Его неодобрение будет для неё довольно обидным.
– Потому что это моё настоящее имя, – улыбается дядя Вигге, а потом вдруг становится несколько более серьёзным. – Обещай мне, что не выйдешь в ближайшее время за крепостные стены? Погибло одно магическое существо, и Ивар опасается, что это начало Великой охоты.
Деифилия не знает, что на это ответить. Поэтому она лишь послушно кивает. Уж после сегодняшнего случая она никогда не решится повторить подобную вылазку. Она не её сумасшедшие кузены и брат, чтобы совсем не бояться неудовольствия старших. Она всегда была послушной и хорошей девочкой. Для неё правила важны. Деифилия Ярвинен не хочет, чтобы её постоянно бранили. Или отчитывали. И сегодняшнего раза достаточно – пусть дядя Вигге ничего ей об этом не говорил, не упрекнул ни словом, ни как-либо ещё.
Девочке кажется, что она что-то упускает. Кажется, что она должна задать какой-то вопрос. Очень важный. Но почему-то ничего на ум сейчас не приходит. Наверное, это была одна из тех причин, почему ей нельзя становиться охотницей – Деифилия постоянно упускает какие-то важные детали.
– И какое же существо погибло? – спрашивает Деифилия у дяди Вигге, чувствуя, что должна задать хоть какой-нибудь вопрос.
Она видит, как он вертит бронзовый кулон в виде летящей птицы в руке. Дядя Вигге не расставался с этим кулоном, сколько Дея себя помнит. Птица была выполнена не слишком хорошо, но для дяди это было, кажется, очень важно. Он всегда носил этот кулон с собой. И изначально – Деифилия помнит это, но смутно – вместо серебряной цепочки, птица была на обычной тонкой верёвке.
Леди Ульрика всегда считала, что дядя Вигге занимается какими-то глупостями. И всякий раз они говорили о какой-то птице. Должно быть, об этой – иных птиц в поместье Биориг Деифилия не знала. Да и – хоть она постоянно интересовалась – Вигге Ярвинен никогда не говорил ей ничего вразумительного. Выражался он всегда красиво и очень непонятно – именно это Дея и обожала в его сказках. Птица, впрочем, её никогда особенно не интересовала. Фигурка была выполнена весьма скверно, и девочка, привыкшая ко всему красивому, не считала её стоящей.
Отец Санны умел делать фигурки куда лучше – он даже сделал Деифилии маленькую куклу, размером всего с мизинец. Бронзовая птичка никогда не казалась юной ландграфине хоть чем-то примечательной.
Но почему-то именно сейчас Дея рассматривает её с любопытством. Рассматривает некрасивый изгиб клюва и необычные, слишком большие крылья. Непропорционально большие для такой маленькой птички. И только сейчас Деифилия замечает, что на левом запястье дяди Вигге чернеет давно снятое проклятье. Кожа как будто бы была содрана в этом месте. Так не проклинал ни один из Ярвиненов. И никто в округе. Даже странно, что никогда раньше девочка не замечала этого.
Задумавшись, юная ландграфиня Ярвинен едва может понять, к чему относится то, о чём сейчас говорит ей дядя. Она слишком занята тёмным пятном на его руке, чтобы думать о чём-то ещё.
– Вендиго. И я не знаю, кто именно сумел это сделать. Но в отличие от Ивера и Роальда – я очень рад тому, что его убили. Мы такие же люди, моя милая. И ведём себя точно так же – убиваем тех, кто кажется нам опасным и неправильным.
Дядя рассказывает что-то ещё, провожая её до самого замка. Они проходят через чёрный ход – именно там, где Деифилия вместе с Санной покидала Биориг. И ещё дядя Вигге говорит, что в замке есть ещё два потайных хода. Один из них – под самой высокой башней замка, сокрытый за винным погребом, стоит только потянуть за нужный кран. И о вендиго. Дядя, разумеется, рассказывает ей о вендиго.
Деифилия слышала много сказок об этих чудовищах. Асбьёрн любил их – потому что они были страшными и кровавыми. Самой девочке подобное никогда не нравилось. В этих сказках не нужно было размышлять, не нужно было кому-то сопереживать. Всё всегда страшно начиналось и не менее страшно заканчивалось. И в промежутке между этим было море смертей.
Дядя Вигге целует её в макушку и уходит к себе в башню, а девочка бредёт дальше, к своей комнате. Её ни на секунду не покидает ощущение, что она забыла что-то спросить. Что-то ужасно важное.
Только очутившись в собственной спальне девочка задаётся вопросом – почему на обсуждении того, что случилось с вендиго, не было дяди Хальдора.
***
Темнота подступала. Сначала – холодная, ледяная, гулкая. Потом темнота стала постепенно теплеть, превращаться в нечто обволакивающее, приятное. Она струилась вокруг, обвивалась вокруг шеи и ускользала вновь. Стекала по лицу, шее и груди. Вспыхивала огнём около затылка и исчезала.
Тьма подступает к самому горлу, заставляя думать о смерти и о том, что бывает после неё. Тьма наваливается тяжёлым комом, камнем давит на грудь, мешая дышать. Она пугает. И пьянит. Заставляет забыть обо всём. Заставляет паниковать и одновременно всей душой желать, чтобы тьма возвращалась снова и снова.
Нельзя бояться. Нельзя. Страх – это смерть. А Танатосу Толидо ещё рано умирать. Ему всего лишь тринадцать, и он столь многое ещё не успел совершить… Он ещё ничего не успел. Тан всего лишь ребёнок. У него вся жизнь ещё впереди. Нельзя бояться. Нельзя. Что угодно лучше страха – ненависть, злость, ярость. Только не страх.
Танатос открывает глаза. В первый момент он даже не может понять, что произошло, где он и что с ним. Толидо пытается встать, но тут же ложится обратно – в голове начинает шуметь, а всё тело отзывается слабостью. Голова у мальчика болит настолько ужасно, что он едва может представить, как сумеет отправиться в путь. Тан осторожно оглядывается вокруг, пытаясь сообразить, где находится и что с ним.
Он лежит в постели, раздетый и забинтованный какими-то тряпками – мальчик очень надеется на то, что у лекаря, так неумело его забинтовавшего, достало ума хотя бы на то, чтобы взять чистую ткань. Голова у него раскалывается, словно кто-то со всей силы ударил его чем-то тяжёлым. В глазах всё плывёт. Но Танатос видит более-менее хорошо – лучше, чем когда он попал к Иоланди на лечение после неудачного занятия у Эрментрауда.
Хотя… Лапа вендиго и была тяжёлой. Толидо помнит, как перепугался, когда тварь дотронулась до его лица своими когтями, как надавила, прокалывая ими кожу, как… Танатосу казалось, что смерть схватила его за горло и дышала прямо в лицо. Так уже бывало с мальчиком однажды.
Танатос кое-как приподнимается на локтях, стараясь понять, где именно он находится. Быть может, в пещере вендиго? Это было бы не очень хорошо. Как он выжил? Впрочем, не столь важно – как. Главное, что выжил. И что ему стоит делать дальше. Возможно, стоит сейчас же вставать и бежать – куда-нибудь, неважно куда, наплевав на жуткий холод. Возможно, стоит подождать – набраться сил, отдохнуть, немного поправиться, найти свою одежду, а уже потом бежать…
Что-то здесь совершенно не то. Танатос никак не может уловить, что именно. Что-то, чего точно никогда не бывало в ордене. И что вряд ли может быть в логове вендиго или другого чудовища.
Музыка… Откуда-то льётся звенящая, певучая и почти неслышная музыка. Йохан перебирает струны своей мивиретты. Мелодия получается такой грустной, такой неуловимо прекрасной… Танатос никак не может понять, как из этого прогнившего корыта можно извлечь что-то стоящее. Мивиретта под пальцами Йохана стонет и рыдает, словно дрожит, трепещет. Звуки становятся то тише, то громче, переливаются, как, наверное, переливалось когда-то отражение солнца в воде. Толидо никогда в жизни не слышал ничего подобного. Нужно сказать, что бывший послушник даже удивлён талантом барда – когда они шли по обледенелым руинам и заснеженному лесу Тан не мог даже вообразить, что Йохан способен на что-то подобное.
Тут бард замечает, что Танатос очнулся, и откладывает мивиретту в сторону. К совершенно необъяснимому неудовольствию послушника. В свете нескольких лучин Йохан кажется ещё более тощим, чем Толидо показалось тогда, когда они бежали из ордена. И у него совсем другое лицо. Нет, черты всё те же! Но только они пронизаны чем-то странным, непривычным – одухотворённостью, что ли?
– У тебя всё лицо было в крови… – почти всхлипывает Йохан. – Я думал, что… Что ты… Что ты погиб…
Руки у Йохана трясутся. Да и сам он кажется нервным, напуганным. Впрочем – таким и должен быть подросток, столкнувшийся с чем-то столь пугающим. И по идее столь же напуганным должен быть и Танатос. Но сейчас он не чувствует ничего, кроме глухого раздражения.
Хелен вообще не ревёт. Сидит где-то в уголке и сосредоточено что-то мастерит. Словно ничего не произошло. Впрочем, Тан старается на неё не смотреть – довольно и того, что ему пришлось пережить по милости этой девчонки. Сидел бы себе в ордене и прислуживал Эрментрауду. Ещё немного – и можно было бы стать учеником Иоланди. А там жизнь стала бы намного проще. А из-за этой Евискориа теперь совершенно неясно, как всё может сложиться!
– Что со мной случилось? – спрашивает Толидо, ощупывая своё лицо.
Бывший послушник не узнаёт своего голоса. Слишком глухим он кажется. Словно… Сорванным. Он, что, кричал? Горло нисколько не болит. Да и кашель не рвётся из груди – как часто бывало с некоторыми послушниками. Танатос всегда старался обходить тех стороной – они редко жили долго.
Раны довольно глубокие. Скорее всего воспалятся. А значит – останутся шрамы. И скорее всего, на всю жизнь. Хорошо ещё, если всё не пойдёт дальше – если Танатос ещё останется жив. Подумаешь – шрамы… У Эрментрауда и вовсе вырезана птица на спине – Тан собственными глазами видел. Даже не вырезана – скорее выморожена какой-то неизвестной Толидо магией.
Возможно, слёзы – это нормальная реакция. Не каждый день человек сталкивается с самым настоящим вендиго. Не каждый день он находится на волосок – тонкий, едва-едва выдерживающий свою ношу – от смерти. Только Танатос едва ли чувствует что-то помимо раздражения. Возможно, это было нормально для человека, который провёл несколько лет в ордене. Только Танатос чувствует, что это нельзя назвать даже на капельку нормальным для человека, который жил за пределами культа.
Йохан что-то бормочет. Толидо едва-едва может разобрать отдельные слова. А ещё бард плачет. Слёзы катятся по его лицу, а сам Йохан дрожит от уже не слишком-то и сдерживаемых рыданий. Он размазывает слёзы по лицу, наклоняется к самой постели Танатоса, очевидно, желая во что-то уткнуться, чтобы плакать было удобнее.
– Перестань реветь! – раздражённо прерывает его Тан. – Лучше расскажи всё по порядку. Я не помню ничего, после…
Йохан пытается совладать со своими эмоциями и покорно трёт рукавом глаза. И Танатос снова раздражается, видя его послушание. Впрочем, старается не выказать виду – покорность барда была весьма нужной для него. Лучше иметь как можно больше союзников, особенно если убегаешь из ордена, где полным полно сумасшедших. В целом – лучше иметь как можно больше союзников, хотя доверять им, разумеется, не стоит. Ни одному из них.
Он рассказывает – всё по порядку, начиная с того, что Танатос ещё помнит. По правде говоря, начинает он даже слишком рано. Толидо прекрасно помнит, как они вышли на вендиго и как все испугались. Правда в том, что он, Танатос, тоже испугался, хотя Йохан об этом и не говорит. Бард говорит сбивчиво, то и дело всхлипывая, вытирая рукавом глаза и снова продолжая говорить, сбиваться и плакать. Однако, когда тот доходит до смерти вендиго, Тан задаётся вопросом – а могло ли всё быть настолько просто.
– Ты нас спас. Ты был готов пожертвовать жизнью, чтобы спасти меня и Хелен, – говорит Йохан,когда заканчивает рассказ, с такой благодарностью в голосе, что Толидо кажется, что его сейчас вытошнит.
Даже Евискориа – Тан видит её лицо лишь частично, но совершенно уверен, что это так – кривится от презрения. И Танатосу думается, что как раз Хелен-то он и понимает – ему и самому была противна эта ситуация. Толидо вовсе не хочется, чтобы Йохан смотрел на него так.
Толидо до ужаса не хотелось, чтобы кто-то был ему благодарен. Благодарность – скверное чувство. Лучше его не испытывать и не допускать, чтобы кто-то испытывал его к тебе. Недаром же Эрментрауд так ненавидит это слово – благодарность. Впрочем, порой Тану казалось, что наставник ненавидит все слова, одним из корней которых было слово «благо».
– Нет, – твёрдо говорит Танатос, прерывая Йохана на середине предложения, и отворачивается к стенке. – Я спасал себя.
Это правда. Он всегда заботится лишь о себе – привык за годы жизни в ордене. Да что там говорить – он и до того считался эгоистом. Просто в культе это было ещё и залогом выживания. И Танатосу Толидо всегда казалось это удобным. Это не требовало почти никаких усилий.
Наверное, другая часть правды в том, что Тан действительно хотел, чтобы Евискориа и бард спаслись. Но правда эта куда меньшая. Своим поступком он добавлял шансов выжить лишь себе. И думал он в тот момент только о себе. Ему были безразличны судьбы обоих попутчиков.
Бард послушно замолкает. Даже всхлипывать старается как можно тише, чтобы не мешать… А Толидо пытается понять, что именно так злит его. И оттого, что ответ никак не хочет находиться, сердится ещё больше.
Комментарий к I. Глава шестая. Вендиго.
https://ficbook.net/readfic/5308422 – драббл, связанный с этой главой
========== I. Глава седьмая. Нойон с Сизого кургана. ==========
Сизый курган был его домом, последним прибежищем и тюрьмой. Всё вместе. Грандиозный в своей задумке замок – и крепость, и произведение искусства, всё во вкусе северной аристократии. Сквозняки, едва отапливаемые помещения, камины, что едва ли способны дать достаточно тепла, и дикий холод по утрам. С точки зрения удобства, стоило жить в деревянной хижине. В той было хотя бы теплее. Однако замок – его любимое детище – придавал больше величия в глазах южных соседей. Это означало то, что к Нариману никто не лез. Во всяком случае, с родного ему Юга. Там его стали уважать, бояться… Они помнили звенящую славу Кургана. Помнили старые летописи – теперь люди снова взялись писать их, так как слишком боялись, что большинство из них не переживёт ещё нескольких месяцев зимы, что никак не хотела смениться весной. Однако никогда ещё замок на Сизом кургане не имел столь зловещей славы.
Нариман знает, что именно в Кургане Фёржёд хоронили раньше союзников Ярвиненов – Зейдергов. Холодная усмешка трогает его губы – Зейдергов больше нет. Нет уже несколько лет. И больше никогда не будет – Нариман вырезал их всех. Одного за другим. Не пощадил никого. И от этой мысли на душе у князя становится радостно. Он помнит тот день, когда со своим войском ворвался в замок после штурма. Зейдерги давно отвыкли воевать – они жили лишь своим законотворчеством, но Курган был важен Нариману. Очень важен. Не только как высота, с которой был виден практически весь Север. Как символ его власти, его победы, его гения – всего, что имело смысл теперь, в эту страшную эпоху холода и снега, когда голод косил целые деревни, целые города… Всё, что сейчас имело значение – сила. Сила, которой никто не мог ничего противопоставить. Сила, за которую можно было уважать. И пока это преимущество находилось на стороне Ярвиненов. Временно на стороне Ярвиненов – они со своей собачьей – волчьей – преданностью старым традициям когда-нибудь доживут свой век. Вряд ли им так уж долго осталось.
Нариман помнит холодные серые глаза – у каждого человека, которого он лишил жизни в ту ночь. Холодные серые глаза, в которых обычно плескалось столько гордыни, столько презрения ко всему живому… Холодные серые глаза, в которых именно в ту ночь читалось столько страха, столько опьяняющего ужаса, что Нариман просто не мог сдержаться. Нариману нравилось видеть страх в чьих-то глазах, а Зейдерги… Зейдерги были родом, который он всей душой ненавидел. И которому отомстил со всей жестокостью, что только имела место в его сердце. А уж в его сердце жестокости было много.
Наверное, это нехорошо. Радость не должна рождаться на чьём-то несчастье и горе. Радость – светлое чувство, которое должно появляться только на чём-то столь же правильном и хорошем, как и оно само. Радоваться можно рождению человека, но не смерти. Радоваться можно теплу, пойманной рыбе или построенному дому. Но не разрушениям, не гибели всего живого в округе…
Порой голос покойного отца твердит ему ночами, что у него ничего не выйдет. Порой призрак матери умоляет его не строить свою жизнь на крови и костях своих врагов. Нариман без сожаления гонит видения прочь. Они ни к чему – все эти воспоминания о прошлой жизни. Тогда ещё люди были полны надежд, что зима когда-нибудь закончится. Ведь бывали же и до того – в летописях были тому упоминания – целые десятки лет, когда снег не таял по всему миру. Но это было тогда. Тогда светило солнце. Тогда ещё оставалась надежда. Но теперь… Солнце погасло. И жизнь будет теплиться лишь до тех пор, пока маги сумеют поддерживать хотя бы то, что есть теперь, пока не будет срублено последнее дерево… И с каждым днём конец их цивилизации всё ближе. Но люди, всё же, не теряют надежды – ждут героев, что однажды осмелятся бросить вызов богам и мирозданию, что зажгут солнце заново…
Нариман не верит в героев.
Существуй они на самом деле, жизнь стала бы гораздо проще и сложнее одновременно. Возможно, они бы спасли людей от неминуемой гибели, но… Нариман не был уверен в том, что эти герои – а чтобы зажигать солнце нужно быть человеком не только недюжинного ума, но и весьма непокорного и буйного нрава – не натворят чего-то такого, что помнить о них в будущем станут не как о героях, а… напротив.
Впрочем, если даже оно так и будет – Нариман не имеет ничего против. Пусть творят, что хочется, если, конечно, сумеют зажечь светило для всех них. Однако кое-что не давало князю покоя – для того, чтобы солнце загорелось вновь, нужна по меньшей мере сотня интариофских воинов. Но в преданиях чётко говорилось, что героев будет чуть больше дюжины.
Разве могут порядочные люди в таком количестве провернуть что-либо?
Бесконечные правила сковывают их по рукам и ногам, не давая ступить лишнего шага. Всё подчинено традициям, обычаям, законам… Никакой свободы. Никакой возможности сделать что-нибудь иначе, не так, как следует. Не так, как предписано. А безумства не описываются ни в одном кодексе. Безумства осуждаются, считаются чем-то, чего ни в коем случае не должно быть. А разве не является безумием попытка – тем более, если она увенчается успехом – изменить жизнь, перевернуть всё мироздание? И не так важны цель и средства, если результат будет достигнут.
– Самое главное быть добропорядочным, – ещё звенит в памяти тихий певучий голос матери Наримана.
Столь многое считалось плохим – ложь, насилие, злорадство, зависть, похоть. Существовало столько всего, о чём нежелательно было даже думать… Столько запретов – ничтожных и жалких. Очевидных, если знать о них всё время – слышать каждый день после своего рождения. И совершенно непонятных – если услышать о них впервые в двадцать, в тридцать лет.
Однако, на Севере – так назывался кусок всех земель от Арн-Шо до Дерникской цитадели – всё кажется другим. Север живёт по собственным суровым законам. Совсем другим, нежели на Юге. И к некоторым законам душа привыкает сама собой. Без всяких усилий со стороны разума. Законы Севера жестоки, но в них есть своя доля истины. Ещё до того, как небесные светила погасли – и солнце, и луна – там было холодно. Добродетели хороши тогда, когда есть еда, когда жизнь не зависит от минутного каприза природы, когда не приходится бояться, что однажды ночью замёрзнешь насмерть. Но когда жизнь становится настолько невыносимой и тяжёлой, когда кажется, что уже нечего терять – тогда все правила разом становятся совершенно бесполезными, бессмысленными.
Мать и отец столько твердили ему о долге и чести, что когда-то Нариман даже верил им. До тех пор, пока не столкнулся с другой жизнью – полной опасности и тревог, недоступным для понимания спокойному и тихому Югу с его размеренностью и раздражающем деятельного человека совершенно абсурдным миролюбием. Мать князя была оттуда – девушка из хорошей семьи, получившая неплохое, пожалуй, образование и просто замечательное воспитание. А отец… Народ отца никогда не имел единого пристанища – они были кочевниками до того дня, который теперь в летописях именовался Великой Катастрофой.
Безземельные нойоны вроде него были обречены на вечные набеги. Как только он попал в поселение, где жила Зери, всегда оставалось для князя с Сизого кургана загадкой. Впрочем, теперь это было не так важно. Главным было то, что отец не чувствовал себя в полной мере наследником своих предков, что жили в степи, что сидели в седле чуть ли не с рождения, что обращались с оружием куда лучше западных лордов и северных графов. Однако Нариман чувствовал.
На Юге он сам назывался нойоном. Приди он в Западные земли, его величали бы герцогом, но здесь считали князем. «Князь Сизого кургана» – звучит так странно и почти унизительно. Ярвинены дали ему этот титул, чтобы унизить, показать, что он ничего не стоит. Однако Нариман готов с гордостью быть князем. Он готов быть кем угодно, если только это способно ему хоть как-то помочь в достижении его цели. Пусть называют хоть псом, хоть падалью – на это ему плевать.
Нариман оглядывает свои владения, кутаясь в пару шерстяных плащей. Помогает не слишком хорошо. Ему бы шубу, какие обычно носили в древности богатые северяне. Однако – где ж её теперь взять?.. Животные, которые могли выжить, прятались или жили в тех местах, в которых колдуны поддерживали для них хорошие условия. Так что, приходилось кутаться в те тряпки, которые были. А они едва ли были способны согреть и спасти от вечных ветров Севера.